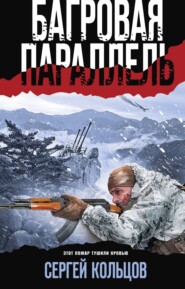По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Один на один с металлом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я сейчас процитирую записки одного из декабристов, фон Визена. Это не автор «Недоросля», а его однофамилец, – пояснил преподаватель. – «Англия снабжала нас произведениями и мануфактурными, и колониальными за сырые произведения нашей почвы… Дворянство было обеспечено в верном получении верных доходов со своих поместьев, отпуская за море хлеб, корабельные леса, мачты, сало, пеньку, лен. Разрыв с Англией, нарушая материальное благосостояние дворянства, усиливал в нем ненависть к Павлу. Мысль извести Павла каким бы то ни было способом сделалась почти всеобщей».
И еще, товарищи. Император Павел фактически начал революцию сверху. Он объявил, что помещичьи крестьяне для государства такие же подданные, как и их господа, а вовсе не бесправные рабы. Еще было объявлено, что на своих помещиков крестьяне должны работать не более трех дней в неделю. Вполне естественно, что дворяне-рабовладельцы восприняли этот указ как первый шаг к полной отмене крепостного права. Также Павел прекратил гонения на старообрядцев, уравнял их в правах с православными и мусульманами. Напомню, что старообрядцы – это православные христиане, не принявшие нововведений патриарха Никона в семнадцатом веке. В Российской империи они были лишены всех гражданских прав. А составляли они, по разным подсчетам, до четверти всего русского населения. Старообрядцы и иудеи, оказавшиеся в России после разделов Польши, были людьми даже не второго, а третьего или четвертого сорта.
Итак, Павел Первый был убит одиннадцатого марта тысяча восемьсот первого года. Кстати, офицеры-заговорщики предлагали ему сохранить жизнь в обмен на письменное отречение от престола. На это Павел ответил: «Вы меня, конечно, убьете, но я все равно останусь русским императором».
– Настоящий мужик, – с уважением произнес кто-то с задних рядов.
– А вот последний русский император, оказавшись среди генералов-заговорщиков в феврале тысяча девятьсот семнадцатого года, кстати, будущих белогвардейцев, от престола отрекся. Ну а за спинами тогдашнего Временного правительства также торчали английские уши. Кстати, английский посол был первый, кого заговорщики известили об успешном перевороте. Царем они объявили цесаревича Александра. Это был мерзавец, отцеубийца и английский агент на русском троне, – с неприязнью сказал преподаватель.
В это же время дворцовый переворот был произведен и в Австрии. После этого русские и австрийские солдаты стали проливать свою кровь за интересы англичан. А нашествие Наполеона на Россию в тысяча восемьсот двенадцатом году имело цель лишь оторвать Россию от Англии. Еще один интересный факт: когда умирал фельдмаршал Кутузов, он просил царя не лить русскую кровь в Европе после изгнания французов из России. По преданию, ответив отказом, царь спросил полководца: простишь ли ты меня, Михаил Илларионович? «Я-то прощу, а вот Россия нет», – мудро ответил старец.
Благодаря деяниям самого высокопоставленного английского агента влияния Александра Романова, – при этих словах в глазах полковника сверкнули огоньки, – Россия потеряла в Наполеоновских войнах самую активную, лучшую часть своего мужского населения. Эти люди не оставили после себя потомства. Поэтому во время столкновения с объединенным Западом, во время Крымской войны, наша страна потерпела поражение. Это неудивительно, ибо те, кто служил в русской армии офицерами, родились от тех, кто в массе своей не рвался защищать Родину в тысяча восемьсот двенадцатом году. «Что мне честь, если нечего есть», – говорит боевому офицеру один из таких «полководцев» в «Севастопольских рассказах» Льва Толстого. А автор, боевой артиллерийский офицер, знал, о чем говорил.
В окно вместе с порывом ветра влетел зеленый липовый лист, оторвав меня от воспоминаний. Боль из груди до конца все-таки не ушла.
– Это вы Виктор Васильевич Черкасов? – раздался незнакомый властный голос.
Я обернулся. В кабинет уже вошли четверо в военной форме. Майор, два лейтенанта и капитан. «Почему же дверь не заскрипела?» – мелькнула у меня в голове нелепая мысль.
– Вы арестованы, гражданин Черкасов, – будничным равнодушным голосом объявил мне майор.
– Предъявите ордер прокуратуры на мой арест, – сглотнув комок в горле, как можно спокойнее ответил я, поднимаясь с подоконника.
Майор протянул мне лист бумаги. Бросилась в глаза первая страница; «В связи с участием в антигосударственном заговоре…». Бегло прочитав текст, я обратил внимание, что документы не имеют ни подписи, ни печати… По рассказам Романа Николаевича Кима [10 - Рома?н Никола?евич Ким – русский советский писатель, автор популярных шпионских романов, в 1920–1940-е годы сотрудник японского отдела советской разведки (ИНО ОГПУ).] я знал, что в подобных документах обязательно должна быть подпись прокурора, завизированная печатью.
– Майор, это филькина грамота, а не документ, – посмотрел я прямо в глаза офицеру.
Майор на мгновение смешался, но затем, переглянувшись с капитаном, взял себя в руки.
– Гражданин Черкасов, мы выполняем приказ, поэтому попрошу вас проехать с нами. Все объяснения и соответствующие документы вы скоро получите.
– Ну, что же, как говорится, сила солому ломит, – согласился я.
– У вас есть оружие, гражданин Черкасов? – спросил майор.
Я отрицательно мотнул головой.
Ко мне подошел капитан и, выполняя формальную обязанность, нехотя похлопал по моим карманам. Было видно, что ему как-то не очень приятно обыскивать и арестовывать офицера, имеющего на груди две золотые и одну красную нашивку за ранения и орденские планки. Я достал из внутреннего кармана кителя удостоверение личности и партийный билет, а из карманов брюк вынул зажигалку, булавку и ключи от рабочего сейфа. То, что в сейфе находятся мои боевые награды, я говорить не стал. Сами найдут, благо что мой рабочий стол уже опустел. В общежитии МВД, в комнате, где кроме меня остановились еще два командированных офицера, искать нечего. Только смена белья и, как говорится, мыльно-рыльные принадлежности, да еще роман Достоевского «Братья Карамазовы», который я перечитываю второй раз.
– Снимите часы, Черкасов, – бросил мне майор, а потом обратился к капитану: – Останешься здесь и все осмотришь.
– Есть, товарищ майор, – по уставу с готовностью ответил тот, положив мои трофейные швейцарские часы вместе с остальными изъятыми у меня предметами.
Меня вывели из здания на улицу и посадили в закрытую тюремную машину. Я не мог точно определить, сколько длился наш путь. Машина доставила меня, как я узнал впоследствии, в тюрьму Лефортово. Хотя правильно будет не тюрьма, а следственный изолятор.
Меня обыскали, на сей раз по-настоящему, и нашли в заднем кармане брюк бумажник, который я забыл отдать в кабинете. Потом поместили в одиночную камеру. Она представляла собой клетушку метра три в длину и два в ширину. Зарешеченное окно находилось высоко, и увидеть, что за ним происходит, было невозможно. Привинченная к полу кровать, умывальник и унитаз. Такова была обстановка в моем узилище. Грубо оштукатуренные небеленые стены одним своим видом давили на психику. Мне рассказывали знающие люди, что участвовать в бою, даже лежать под артиллерийским и минометным обстрелом, гораздо легче, чем перенести пытки одиночкой. «Оказывается, наша родная камера ничем не отличается от немецких или американских застенков», – мелькнула у меня нелепая мысль.
Наступило время обеда. В камеру через окошко подали миску жидкого супа и два куска темного тюремного хлеба. Я с трудом заставил себя съесть все это, понимая, что силы мне еще понадобятся. Так начался мой первый тюремный день.
* * *
Почувствовав движение воздуха и шум, я рывком поднялся и сел на кровати, и только после этого окончательно проснулся. Обостренный, тренированный слух не обманул меня и на этот раз. Лязгнула отпираемая дверь, и в камеру вошли два надзирателя. Крепкие, плечистые парни, оба сержанты.
– Переодевайтесь, подследственный, – один из надзирателей бросил на койку тюремную робу. Только тут до меня дошло, что я до сих пор не только в своей форме, но и с погонами офицера морских частей пограничных войск. Для Лефортово это был явный непорядок. А говорить это может только об одном – в стране произошел переворот, и поспешно была произведена серия арестов тех, кто, на взгляд заговорщиков, мог представлять какую-либо опасность. Не совсем, правда, понимаю, каким образом я попал в их число, какой-то каплейт с Дальнего Востока. Поэтому сейчас ни о какой законности и даже формальностях заговорщики не думают.
Уже одетого в тюремную одежду меня повели на первый допрос. Оба мои охранника шли рядом со мной – один впереди, а другой сзади. Впереди шел человек с флажками и периодически подавал какие-то сигналы. «Все ясно, – сообразил я, – не одного меня этой ночью будут допрашивать, и мы не должны видеть друг друга». Мы долго шли какими-то коридорами, и я понял, что мы пришли в другое здание. Проведя мимо множества дверей, меня завели в кабинет. Бросился в глаза большой письменный стол, портрет Ленина на стене, два кресла, стулья и рядом столик. «Чай за ним, наверное, пьют или кофе», – машинально отметил я.
У рабочего стола стояли два человека. Один, высокий, в военной форме с погонами подполковника, другой, полноватый коротышка, был в сером костюме и галстуке. Кабинет ярко освещали две большие люстры.
– Свободны, – небрежно бросил подполковник охранникам. – Вы, Черкасов, хотели увидеть ордер на арест. Ознакомьтесь и распишитесь, – злорадно улыбнувшись, он протянул мне документ. – С этим тоже ознакомьтесь и распишитесь – это опись изъятых у вас при аресте вещей.
Подписав опись, я бегло пробежал глазами ордер. Обвинение то же самое, но уже более конкретное: «участие в заговоре Берии». Документ был подписан заместителем Генерального прокурора генерал-лейтенантом юстиции Китаевым. Прочитав документы, я расписался об ознакомлении.
– Вы даже представить себе не можете, какими доказательствами располагает следствие. Если вы хотите сохранить свою жизнь, то должны сами все рассказать о подготовке государственного заговора. Только это может убедить следствие, что вы действительно раскаиваетесь, – убедительно добавил подполковник, глядя мне прямо в глаза. При этом его лицо со слегка выпирающей челюстью напомнило мне морду бульдога. – Для начала чистосердечно расскажите обо всем, что вы обсуждали в доме, занимаемом семейством Берия, с этими врагами народа. Для чего Берии сейчас понадобилось собирать головорезов со всей страны…
– Прошу выбирать выражения, гражданин подполковник. Я не головорез, а офицер советской разведки. Имею пять боевых орденов за действия в тылу противника… А не за разбой на ночной дороге, – уже более спокойным тоном добавил я. – Кроме того, я выражаю протест по поводу ночного допроса. Насколько мне известно, ночные допросы и другие противозаконные приемы следствия были запрещены Лаврентием Павловичем Берии, когда он стал министром внутренних дел.
Мои слова на допрашивающих меня людей подействовали как красная тряпка на быка.
– Мы не будем придерживаться каких-то правил, допрашивая заклятых врагов советской власти. Я знаю, что в вашем кровавом НКВД никаких формальностей никто никогда не соблюдал. Лично с вами, с Берией и со всей вашей бандой мы будем поступать так же, – заорал штатский. При этом его лицо исказилось и налилось кровью.
«Так, значит, собой ты владеть не умеешь, и эта фраза насчет «вашего НКВД». То, что он не из нашего министерства, это точно, да и, похоже, не из военной разведки. Прокуратура? Партийные органы?» Но тут мягко и спокойно заговорил подполковник, оборвав мои размышления.
– Вы ведь еще так молоды, Виктор Васильевич. Никто и не ставит под сомнение ваши боевые заслуги. А мы лишь хотим помочь вам, и вы должны правильно это понять. Разумеется, мы понимаем, что вы не организатор заговора, – тут подполковник улыбнулся, – и не можете им быть. Организатор антигосударственного и антипартийного заговора – Лаврентий Берия. Кстати, он уже дал признательные показания. Ваш друг Серго Берия, кстати, тоже во всем сознался… Подумайте о своей жене и дочери, наконец. У вас пока еще есть время, – многозначительно посмотрел мне в глаза подполковник.
В кабинете установилась тишина. Допрашивающие меня уселись в креслах, а мне подполковник рукой указал на фигурный резной стул. Еще пять таких стульев стояли возле стены.
– Скажите, почему, прибыв в Москву, вы сразу поехали на Малую Никитскую в дом Берии? – снова включился в допрос штатский. – И вообще, Черкасов, когда вы впервые стали выполнять преступные приказы Лаврентия Берии и его сына?
– Двадцать восьмого октября тысяча девятьсот сорок второго года, – коротко ответил я.
– Вот как! – оживился штатский. – А поподробней, пожалуйста?
– Долго рассказывать, да и профессиональные тонкости работы вам будут малопонятны…
– Ничего, мы с удовольствием послушаем, – прервал меня подполковник, многозначительно посмотрев на штатского. – Думаю, что нам будет даже интересно.
– Хорошо, слушайте, – согласился я. – Второй год Великой Отечественной войны был для нашей страны самым тяжелым. Осенью сорок второго года битва за Кавказ была ожесточенной. Фашисты захватили Нальчик, и тяжелые бои уже шли на подступах к Орджоникидзе. Я считаю, что именно в эти дни там решалась судьба страны. Нефть тогда добывалась только на Кавказе, месторождения в Поволжье, на Урале и в Сибири еще не были открыты. Поэтому фашисты и старались любой ценой, оседлав перевалы Главного Кавказского хребта, выйти в Закавказье и на черноморское побережье. Наши войска отходили в Закавказье через Эльбрусский район, где держала оборону горнострелковая дивизия, оседлав высокогорный перевал Донгуз-орун.
Я замолчал, подбирая слова, потом продолжил:
– Конец октября в горах – это уже зима, особенно на высоте три с половиной – четыре тысячи метров. В это время постоянно бушуют бураны и стоят сильные морозы. Перевалы через хребты часто засыпает глубоким снегом. В этих условиях стрелковая дивизия, к которой мы тогда были прикомандированы, совершала отход через хребет. Бойцы дивизии несли на руках около пятисот тяжелораненых. Но главное, бойцы и командиры дивизии в вещмешках на спинах и на вьючном транспорте вынесли двенадцать тонн молибдена с Тырныаузского горнорудного комбината. Но и это еще не все. Бойцы сумели вывести двадцать пять тысяч голов рогатого скота из племенных совхозов.
Вообще в эти дни через хребет уходили все, кто мог передвигаться, кто не хотел оставаться под фашистами, – вспоминая тяжелые картины прошлого, сказал я. – Альпинисты горных отрядов войск НКВД и созданных позднее таких же отрядов Красной армии навешивали веревки на крутых подъемах, укладывали над большими трещинами настилы с перилами. Вообще, наши альпинисты НКВД были не только проводниками и инструкторами, но часто и просто носильщиками.
Это я насчет головорезов, – косо глянув на штатского, бросил я. Уж он точно никогда в жизни не видел, как в обледеневших горах бойцы вели под руки стариков и старух, несли на носилках детей и больных, а Саня Пинкевич нес за спиной в трофейном рюкзаке немецкого горного егеря трехлетнюю девочку.
А сколько наших ребят из спецчастей НКВД погибло в Кабардино-Балкарии еще перед началом большого немецкого наступления. Наши альпинисты взорвали тогда большую часть заготовленного немцами бензина. Поэтому немецкое наступление неоднократно откладывалось, что и дало время организовать оборону в горах. А гибли наши бойцы в основном после отхода с объекта диверсии. С той стороны ведь тоже были серьезные бойцы, а не воспитанники детского сада – солдаты горнострелковых дивизий и егеря высокогорных батальонов вермахта.
И еще, товарищи. Император Павел фактически начал революцию сверху. Он объявил, что помещичьи крестьяне для государства такие же подданные, как и их господа, а вовсе не бесправные рабы. Еще было объявлено, что на своих помещиков крестьяне должны работать не более трех дней в неделю. Вполне естественно, что дворяне-рабовладельцы восприняли этот указ как первый шаг к полной отмене крепостного права. Также Павел прекратил гонения на старообрядцев, уравнял их в правах с православными и мусульманами. Напомню, что старообрядцы – это православные христиане, не принявшие нововведений патриарха Никона в семнадцатом веке. В Российской империи они были лишены всех гражданских прав. А составляли они, по разным подсчетам, до четверти всего русского населения. Старообрядцы и иудеи, оказавшиеся в России после разделов Польши, были людьми даже не второго, а третьего или четвертого сорта.
Итак, Павел Первый был убит одиннадцатого марта тысяча восемьсот первого года. Кстати, офицеры-заговорщики предлагали ему сохранить жизнь в обмен на письменное отречение от престола. На это Павел ответил: «Вы меня, конечно, убьете, но я все равно останусь русским императором».
– Настоящий мужик, – с уважением произнес кто-то с задних рядов.
– А вот последний русский император, оказавшись среди генералов-заговорщиков в феврале тысяча девятьсот семнадцатого года, кстати, будущих белогвардейцев, от престола отрекся. Ну а за спинами тогдашнего Временного правительства также торчали английские уши. Кстати, английский посол был первый, кого заговорщики известили об успешном перевороте. Царем они объявили цесаревича Александра. Это был мерзавец, отцеубийца и английский агент на русском троне, – с неприязнью сказал преподаватель.
В это же время дворцовый переворот был произведен и в Австрии. После этого русские и австрийские солдаты стали проливать свою кровь за интересы англичан. А нашествие Наполеона на Россию в тысяча восемьсот двенадцатом году имело цель лишь оторвать Россию от Англии. Еще один интересный факт: когда умирал фельдмаршал Кутузов, он просил царя не лить русскую кровь в Европе после изгнания французов из России. По преданию, ответив отказом, царь спросил полководца: простишь ли ты меня, Михаил Илларионович? «Я-то прощу, а вот Россия нет», – мудро ответил старец.
Благодаря деяниям самого высокопоставленного английского агента влияния Александра Романова, – при этих словах в глазах полковника сверкнули огоньки, – Россия потеряла в Наполеоновских войнах самую активную, лучшую часть своего мужского населения. Эти люди не оставили после себя потомства. Поэтому во время столкновения с объединенным Западом, во время Крымской войны, наша страна потерпела поражение. Это неудивительно, ибо те, кто служил в русской армии офицерами, родились от тех, кто в массе своей не рвался защищать Родину в тысяча восемьсот двенадцатом году. «Что мне честь, если нечего есть», – говорит боевому офицеру один из таких «полководцев» в «Севастопольских рассказах» Льва Толстого. А автор, боевой артиллерийский офицер, знал, о чем говорил.
В окно вместе с порывом ветра влетел зеленый липовый лист, оторвав меня от воспоминаний. Боль из груди до конца все-таки не ушла.
– Это вы Виктор Васильевич Черкасов? – раздался незнакомый властный голос.
Я обернулся. В кабинет уже вошли четверо в военной форме. Майор, два лейтенанта и капитан. «Почему же дверь не заскрипела?» – мелькнула у меня в голове нелепая мысль.
– Вы арестованы, гражданин Черкасов, – будничным равнодушным голосом объявил мне майор.
– Предъявите ордер прокуратуры на мой арест, – сглотнув комок в горле, как можно спокойнее ответил я, поднимаясь с подоконника.
Майор протянул мне лист бумаги. Бросилась в глаза первая страница; «В связи с участием в антигосударственном заговоре…». Бегло прочитав текст, я обратил внимание, что документы не имеют ни подписи, ни печати… По рассказам Романа Николаевича Кима [10 - Рома?н Никола?евич Ким – русский советский писатель, автор популярных шпионских романов, в 1920–1940-е годы сотрудник японского отдела советской разведки (ИНО ОГПУ).] я знал, что в подобных документах обязательно должна быть подпись прокурора, завизированная печатью.
– Майор, это филькина грамота, а не документ, – посмотрел я прямо в глаза офицеру.
Майор на мгновение смешался, но затем, переглянувшись с капитаном, взял себя в руки.
– Гражданин Черкасов, мы выполняем приказ, поэтому попрошу вас проехать с нами. Все объяснения и соответствующие документы вы скоро получите.
– Ну, что же, как говорится, сила солому ломит, – согласился я.
– У вас есть оружие, гражданин Черкасов? – спросил майор.
Я отрицательно мотнул головой.
Ко мне подошел капитан и, выполняя формальную обязанность, нехотя похлопал по моим карманам. Было видно, что ему как-то не очень приятно обыскивать и арестовывать офицера, имеющего на груди две золотые и одну красную нашивку за ранения и орденские планки. Я достал из внутреннего кармана кителя удостоверение личности и партийный билет, а из карманов брюк вынул зажигалку, булавку и ключи от рабочего сейфа. То, что в сейфе находятся мои боевые награды, я говорить не стал. Сами найдут, благо что мой рабочий стол уже опустел. В общежитии МВД, в комнате, где кроме меня остановились еще два командированных офицера, искать нечего. Только смена белья и, как говорится, мыльно-рыльные принадлежности, да еще роман Достоевского «Братья Карамазовы», который я перечитываю второй раз.
– Снимите часы, Черкасов, – бросил мне майор, а потом обратился к капитану: – Останешься здесь и все осмотришь.
– Есть, товарищ майор, – по уставу с готовностью ответил тот, положив мои трофейные швейцарские часы вместе с остальными изъятыми у меня предметами.
Меня вывели из здания на улицу и посадили в закрытую тюремную машину. Я не мог точно определить, сколько длился наш путь. Машина доставила меня, как я узнал впоследствии, в тюрьму Лефортово. Хотя правильно будет не тюрьма, а следственный изолятор.
Меня обыскали, на сей раз по-настоящему, и нашли в заднем кармане брюк бумажник, который я забыл отдать в кабинете. Потом поместили в одиночную камеру. Она представляла собой клетушку метра три в длину и два в ширину. Зарешеченное окно находилось высоко, и увидеть, что за ним происходит, было невозможно. Привинченная к полу кровать, умывальник и унитаз. Такова была обстановка в моем узилище. Грубо оштукатуренные небеленые стены одним своим видом давили на психику. Мне рассказывали знающие люди, что участвовать в бою, даже лежать под артиллерийским и минометным обстрелом, гораздо легче, чем перенести пытки одиночкой. «Оказывается, наша родная камера ничем не отличается от немецких или американских застенков», – мелькнула у меня нелепая мысль.
Наступило время обеда. В камеру через окошко подали миску жидкого супа и два куска темного тюремного хлеба. Я с трудом заставил себя съесть все это, понимая, что силы мне еще понадобятся. Так начался мой первый тюремный день.
* * *
Почувствовав движение воздуха и шум, я рывком поднялся и сел на кровати, и только после этого окончательно проснулся. Обостренный, тренированный слух не обманул меня и на этот раз. Лязгнула отпираемая дверь, и в камеру вошли два надзирателя. Крепкие, плечистые парни, оба сержанты.
– Переодевайтесь, подследственный, – один из надзирателей бросил на койку тюремную робу. Только тут до меня дошло, что я до сих пор не только в своей форме, но и с погонами офицера морских частей пограничных войск. Для Лефортово это был явный непорядок. А говорить это может только об одном – в стране произошел переворот, и поспешно была произведена серия арестов тех, кто, на взгляд заговорщиков, мог представлять какую-либо опасность. Не совсем, правда, понимаю, каким образом я попал в их число, какой-то каплейт с Дальнего Востока. Поэтому сейчас ни о какой законности и даже формальностях заговорщики не думают.
Уже одетого в тюремную одежду меня повели на первый допрос. Оба мои охранника шли рядом со мной – один впереди, а другой сзади. Впереди шел человек с флажками и периодически подавал какие-то сигналы. «Все ясно, – сообразил я, – не одного меня этой ночью будут допрашивать, и мы не должны видеть друг друга». Мы долго шли какими-то коридорами, и я понял, что мы пришли в другое здание. Проведя мимо множества дверей, меня завели в кабинет. Бросился в глаза большой письменный стол, портрет Ленина на стене, два кресла, стулья и рядом столик. «Чай за ним, наверное, пьют или кофе», – машинально отметил я.
У рабочего стола стояли два человека. Один, высокий, в военной форме с погонами подполковника, другой, полноватый коротышка, был в сером костюме и галстуке. Кабинет ярко освещали две большие люстры.
– Свободны, – небрежно бросил подполковник охранникам. – Вы, Черкасов, хотели увидеть ордер на арест. Ознакомьтесь и распишитесь, – злорадно улыбнувшись, он протянул мне документ. – С этим тоже ознакомьтесь и распишитесь – это опись изъятых у вас при аресте вещей.
Подписав опись, я бегло пробежал глазами ордер. Обвинение то же самое, но уже более конкретное: «участие в заговоре Берии». Документ был подписан заместителем Генерального прокурора генерал-лейтенантом юстиции Китаевым. Прочитав документы, я расписался об ознакомлении.
– Вы даже представить себе не можете, какими доказательствами располагает следствие. Если вы хотите сохранить свою жизнь, то должны сами все рассказать о подготовке государственного заговора. Только это может убедить следствие, что вы действительно раскаиваетесь, – убедительно добавил подполковник, глядя мне прямо в глаза. При этом его лицо со слегка выпирающей челюстью напомнило мне морду бульдога. – Для начала чистосердечно расскажите обо всем, что вы обсуждали в доме, занимаемом семейством Берия, с этими врагами народа. Для чего Берии сейчас понадобилось собирать головорезов со всей страны…
– Прошу выбирать выражения, гражданин подполковник. Я не головорез, а офицер советской разведки. Имею пять боевых орденов за действия в тылу противника… А не за разбой на ночной дороге, – уже более спокойным тоном добавил я. – Кроме того, я выражаю протест по поводу ночного допроса. Насколько мне известно, ночные допросы и другие противозаконные приемы следствия были запрещены Лаврентием Павловичем Берии, когда он стал министром внутренних дел.
Мои слова на допрашивающих меня людей подействовали как красная тряпка на быка.
– Мы не будем придерживаться каких-то правил, допрашивая заклятых врагов советской власти. Я знаю, что в вашем кровавом НКВД никаких формальностей никто никогда не соблюдал. Лично с вами, с Берией и со всей вашей бандой мы будем поступать так же, – заорал штатский. При этом его лицо исказилось и налилось кровью.
«Так, значит, собой ты владеть не умеешь, и эта фраза насчет «вашего НКВД». То, что он не из нашего министерства, это точно, да и, похоже, не из военной разведки. Прокуратура? Партийные органы?» Но тут мягко и спокойно заговорил подполковник, оборвав мои размышления.
– Вы ведь еще так молоды, Виктор Васильевич. Никто и не ставит под сомнение ваши боевые заслуги. А мы лишь хотим помочь вам, и вы должны правильно это понять. Разумеется, мы понимаем, что вы не организатор заговора, – тут подполковник улыбнулся, – и не можете им быть. Организатор антигосударственного и антипартийного заговора – Лаврентий Берия. Кстати, он уже дал признательные показания. Ваш друг Серго Берия, кстати, тоже во всем сознался… Подумайте о своей жене и дочери, наконец. У вас пока еще есть время, – многозначительно посмотрел мне в глаза подполковник.
В кабинете установилась тишина. Допрашивающие меня уселись в креслах, а мне подполковник рукой указал на фигурный резной стул. Еще пять таких стульев стояли возле стены.
– Скажите, почему, прибыв в Москву, вы сразу поехали на Малую Никитскую в дом Берии? – снова включился в допрос штатский. – И вообще, Черкасов, когда вы впервые стали выполнять преступные приказы Лаврентия Берии и его сына?
– Двадцать восьмого октября тысяча девятьсот сорок второго года, – коротко ответил я.
– Вот как! – оживился штатский. – А поподробней, пожалуйста?
– Долго рассказывать, да и профессиональные тонкости работы вам будут малопонятны…
– Ничего, мы с удовольствием послушаем, – прервал меня подполковник, многозначительно посмотрев на штатского. – Думаю, что нам будет даже интересно.
– Хорошо, слушайте, – согласился я. – Второй год Великой Отечественной войны был для нашей страны самым тяжелым. Осенью сорок второго года битва за Кавказ была ожесточенной. Фашисты захватили Нальчик, и тяжелые бои уже шли на подступах к Орджоникидзе. Я считаю, что именно в эти дни там решалась судьба страны. Нефть тогда добывалась только на Кавказе, месторождения в Поволжье, на Урале и в Сибири еще не были открыты. Поэтому фашисты и старались любой ценой, оседлав перевалы Главного Кавказского хребта, выйти в Закавказье и на черноморское побережье. Наши войска отходили в Закавказье через Эльбрусский район, где держала оборону горнострелковая дивизия, оседлав высокогорный перевал Донгуз-орун.
Я замолчал, подбирая слова, потом продолжил:
– Конец октября в горах – это уже зима, особенно на высоте три с половиной – четыре тысячи метров. В это время постоянно бушуют бураны и стоят сильные морозы. Перевалы через хребты часто засыпает глубоким снегом. В этих условиях стрелковая дивизия, к которой мы тогда были прикомандированы, совершала отход через хребет. Бойцы дивизии несли на руках около пятисот тяжелораненых. Но главное, бойцы и командиры дивизии в вещмешках на спинах и на вьючном транспорте вынесли двенадцать тонн молибдена с Тырныаузского горнорудного комбината. Но и это еще не все. Бойцы сумели вывести двадцать пять тысяч голов рогатого скота из племенных совхозов.
Вообще в эти дни через хребет уходили все, кто мог передвигаться, кто не хотел оставаться под фашистами, – вспоминая тяжелые картины прошлого, сказал я. – Альпинисты горных отрядов войск НКВД и созданных позднее таких же отрядов Красной армии навешивали веревки на крутых подъемах, укладывали над большими трещинами настилы с перилами. Вообще, наши альпинисты НКВД были не только проводниками и инструкторами, но часто и просто носильщиками.
Это я насчет головорезов, – косо глянув на штатского, бросил я. Уж он точно никогда в жизни не видел, как в обледеневших горах бойцы вели под руки стариков и старух, несли на носилках детей и больных, а Саня Пинкевич нес за спиной в трофейном рюкзаке немецкого горного егеря трехлетнюю девочку.
А сколько наших ребят из спецчастей НКВД погибло в Кабардино-Балкарии еще перед началом большого немецкого наступления. Наши альпинисты взорвали тогда большую часть заготовленного немцами бензина. Поэтому немецкое наступление неоднократно откладывалось, что и дало время организовать оборону в горах. А гибли наши бойцы в основном после отхода с объекта диверсии. С той стороны ведь тоже были серьезные бойцы, а не воспитанники детского сада – солдаты горнострелковых дивизий и егеря высокогорных батальонов вермахта.