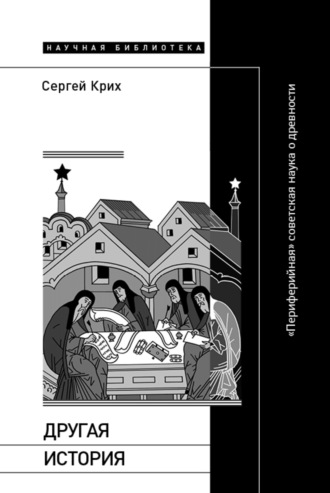
Другая история. «Периферийная» советская наука о древности
Первоначально было много несогласных, как среди ленинградских ученых, так и в Москве, где доклад был повторен в середине июня 1933 г., но число их постепенно таяло, а звезда Струве восходила все выше. Возможно, помогал ореол «старого» ученого, который, обладая высокой квалификацией (ученик Тураева, стажировался в Германии), теперь обратился к марксизму. И хотя упомянутый доклад отличался еще несколько неуверенным обращением с марксистской теорией, в нем было главное – он подводил под эту теорию большую фактическую базу, что хорошо резонировало с заявленной ЦК ВКП(б) в 1934 г. ориентацией на конкретику в изложении исторических событий. Струве станет академиком (1935), а понимание древневосточных обществ как рабовладельческих – одним из завоеваний советской науки.
Многоголосие возражающих затихло, и перед войной тех, кто продолжал спор, оставалось совсем немного, среди них – Николай Михайлович Никольский (1877–1959). Правда, отступить пришлось и ему, но все-таки меньше, чем другим. И наличие столь постоянной, непримиримой оппозиции по отношению к «правильной» (то есть признанной таковой не только учеными, но и партийными органами) точке зрения – явление, которое может показаться столь необычным если не для советского времени вообще, то для сталинского периода определенно, что оно заслуживает более последовательного рассмотрения.
Прежде всего нужно сказать несколько слов о самом Никольском. К началу спора со Струве он уже давно был москвичом не из Москвы, поскольку работал в Минске. Но Москва была родным городом, в ней он получил образование, причем в университете ему преподавал отец – Михаил Васильевич Никольский (1848–1917). Отец был замечательной личностью и крупным ученым. Никольский-старший окончил Московскую духовную академию, но его интересы вскоре оказались связаны не столько с библеистикой, сколько с новой сферой знаний – ассириологией. Новой она была настолько, что в России он оказался первым, причем восточные языки начал учить самостоятельно. Клинопись тоже освоил сам. Помимо этого заметно продвинулся по службе и еще до прихода в университет стал действительным статским советником, относился к четвертому классу Табели о рангах, иными словами, к высшему чиновничеству империи. Он начал издание ассирийских и шумерских клинописных текстов, которое требовало давать и прорисовку табличек, и транскрипцию, и перевод, и с этой точки зрения его вклад в ассириологию был того же рода (пусть и не того же объема), что у знаменитого французского шумеролога Ф. Тюро-Данжена. В 1915 г. он выступил с идеей учреждения Переднеазиатского общества, чтобы исследовать памятники Ближнего Востока, но в это время, конечно, реализовать ее было уже невозможно.
Отец был либеральных взглядов, а потому в университет его пригласили только в качестве приват-доцента (так обозначали тех, кого не брали на постоянную работу), и в итоге от него там избавились. Сын был даже еще более радикален. После окончания учебы в 1900 г. Николай Михайлович был оставлен при университете, но магистерский экзамен сразу сдавать не стал ввиду «домашних обстоятельств и трудного материального положения»35; согласно другой версии, восходящей к нему самому, дело было в недовольстве администрации избранной им темой выпускного сочинения – «Иудея при Маккавеях и Асмонеях», а точнее тем, как она освещалась. Никольский начал работать учителем истории в женской гимназии О. Ф. Протопоповой36. И одновременно оказался тесно связанным с социал-демократами, даже конкретно с большевиками.
На интерес младшего Никольского к марксизму повлияли И. И. Скворцов-Степанов (один из переводчиков «Капитала») и М. Н. Покровский37, для первого издания «Русской истории с древнейших времен» (1910–1913) которого Никольский написал главы по истории церкви. У него в квартире не только останавливались большевики, но и проходили заседания Московского комитета РСДРП(б) во время революционных событий 1905–1907 гг. Сотрудничал он и с М. Горьким38.
Конечно, в те годы критическая библеистика сталкивалась с затруднениями, и Никольский сосредоточился на переводе и издании книг зарубежных исследователей, выпустив в 1907–1909 гг. серию «Религия и церковь в свете научной мысли и свободной критики»39, в которой опубликовался и сам40. Кроме того, редактировал перевод знаменитой «Вавилонской культуры» Г. Винклера41. В то же время цензурные проблемы, о которых писали советские историографы Никольского, не следует преувеличивать: по крайней мере, он вполне имел возможность выразить, что его личная установка заключается в стремлении к научному познанию, которое не должно быть служанкой религии42; достаточно понятно для знакомых с историческим материализмом говорит он и о зарождении в раннем израильском обществе процессов классовой дифференциации и эксплуатации, и что религия – производное от социально-экономического начала43.
Таким образом, до революции Никольский был образцом левого интеллектуала, материалиста, как минимум горячо сочувствующего марксизму как политическому движению, при этом не революционера (в РСДРП он не вступил), который смог получить некоторую трибуну, но не имел слишком больших шансов реализоваться в университетской науке44. При этом если обращаться к его дореволюционным работам (помня о том, что он не всегда имел возможность сказать все, что хотел), то в них автор выступает больше с позиций просветителя, чем сотрясающего основы разрушителя, хотя он достаточно решителен в высказывании позиций по тем вопросам, в которых видит, как научное развитие сдерживается теми или иными предрассудками. Поэтому можно согласиться с тем мнением, что он вполне искренне приветствовал революционные события 1917 г.45
Возможно, лучшим свидетельством настоящих взглядов Никольского является книжка «Иисус и первые христианские общины» – набранная еще в дореволюционной орфографии (и готовившаяся к изданию, видимо, в 1916 или 1917 г.), она вышла уже в 1918 г., без цензурных ограничений; если бы автор счел высказанные в ней взгляды чрезмерно смягченными в угоду прежнему режиму, он бы не выпустил ее в свет. В книге историк дает последовательный анализ репрезентативности Нового Завета как исторического источника и так же последовательно отстаивает историчность Иисуса46. Он отрицает прямолинейный историцизм концепции раннего христианства, которую выдвинул К. Каутский47, более тщательно обрисовывает воздействие социальных условий на психологию различных классов иудейского общества, но тоже считает центральным аспектом проповеди Иисуса ее обращенность к беднякам48. Никольский органично использует аналогии (примерно так, как это делал Ростовцев, эмигрировавший из России в год выхода книги), например, когда поясняет причины популярности Иисуса на примере протопопа Аввакума49. Если книга Каутского была изначально и очевидно марксистской (хотя и не нравилась многим марксистам), то о книге Никольского этого сказать нельзя: она не отмечена желанием всюду проследить и отметить железную руку социально-экономического детерминизма и не отличается критическими выпадами против религии, это достаточно стандартная, без скандальных заявлений позиция историка-атеиста, аналогии которой можно найти и столетие спустя; естественно, в ней нет и следов ссылок на Маркса или Энгельса – это еще не стало модой и тем более фактически обязательным условием. Поэтому вряд ли в этой книге все оценки, как и сам подход, могли понравиться Ленину, но есть указания, что он использовал ее при написании своей статьи «О значении воинствующего материализма» (1922)50, при этом не дал ей отрицательной характеристики, на которые был мастер. Кстати говоря, и со стилистической точки зрения небольшую книгу можно считать лучшей из популярных работ историка.
Большевики на первых порах демократизировали систему высшего образования, и это способствовало открытию новых провинциальных университетов, которые нуждались в ученых кадрах. Привлечь эти кадры из столицы, в том числе хотя бы в качестве совместителей, было тогда сравнительно просто – деньги не стоили ничего, зато в провинции были продукты питания51. В годы Гражданской войны Никольский покидает Москву и в ноябре 1918 г. становится профессором в Смоленском университете52, где, возможно, одно время будет ректором53. А в 1921 г. он начинает работать в Белорусском университете, и если первоначально это был лишь источник дополнительного заработка, то позже, осознав выгоды развивающегося нового университета в столице союзной республики, ученый решился на окончательный переезд. До лета 1922 г. Никольский работал сразу в Смоленске и в Минске54. Конечно, связь с Москвой и тогда не прерывалась, но расстояние всегда имеет значение (особенно в период расстройства дорожного сообщения), а переезд в Минск дополнительно отдалял Никольского от Москвы. В будущем это скажется, например, в том, что Никольский не мог активно и непосредственно участвовать в основных дискуссиях вокруг «азиатского способа производства». Зато в 1925 и 1928 гг. он смог работать в библиотеках и музеях Германии55.
Кроме того, минский период поставил перед историком новые задачи – он начинает заниматься историей Белоруссии, изучением белорусской народной обрядности, начинают выходить его работы на белорусском языке. Как историк религии, Никольский пользуется спросом в издательствах, выпускавших антирелигиозную литературу, пишет он и ряд статей для энциклопедий. При этом акцент его исследований в целом остается на иудаизме и раннем христианстве56, а занятия по истории русской церкви будут увенчаны появлением систематического ее очерка57.
Таким образом, в начале 1930‐х гг. перед Никольским открывались самые широкие перспективы как перед признанным ученым – в 1931 г. он избран академиком АН Белорусской ССР, начиная с 1934 г. заведовал кафедрой истории Древнего мира в Белорусском университете. В это же время Никольский, откликаясь на постановление ЦК ВКП(б) «Об учебниках для начальной и средней школы»58, за несколько месяцев написал учебник по древней истории, который вышел первым изданием в 1933 г.59 – это было настоящее достижение для его автора как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения престижа.
Первый советский школьный учебник по древней истории был, конечно, не лишен недостатков, значительная часть которых объяснялась спешкой при его создании: неповоротливый язык, обильная и сложная для 11–12-летних школьников терминология, сплошной текст, практически лишенный опорных точек для запоминания, облегчающих работу приложений вроде словаря или хронологической таблицы. Пожалуй, можно указать и на то, что в учебнике была освещена история лишь нескольких стран: после первобытности рассказывалось о Египте, Месопотамии, Китае, Греции и Риме60 – список очень скромный, вызывающий вопрос как минимум об Индии. Главное же, что вскоре станет камнем преткновения: описание обществ Греции и Рима как рабовладельческих, а восточных – как феодальных. Никольский, как можно увидеть, высказывал эту точку зрения и раньше, но общеобразовательный учебник предполагает манифестацию не просто позиции конкретного ученого, а взглядов, которые разделяет подавляющая часть ученого сообщества (а в нашем случае – еще и одобряет высший партийный орган).
Именно на этом фоне, когда Никольский стал фактически ответственным за обоснование феодализма на Древнем Востоке, и происходит выступление Струве с его «новой теорией» (так ее позже называл сам Никольский). К сожалению, довоенные бумаги Никольского или связанные с Никольским по большей части погибли во время Великой Отечественной войны, поскольку остались в оккупированном Минске, поэтому мы очень мало знаем о том, какова была первая реакция Никольского на «рабовладельческую концепцию», но если судить по публикациям 1934 г., отнесся он к ней с достаточным вниманием, выступив и против теории в целом, и против ее обоснования в центральном пункте, предполагающем работу с источниками. В июне в Москве Никольский лично слышал повторение доклада Струве, а в середине декабря 1933 г. они прямо противостояли друг другу на заседании Московского отделения ГАИМК, где Никольский выступил с докладом против рабовладельческой концепции61; в принципе, публикации 1934 г. отражают суть аргументов Никольского на тот момент.
Критика струвианской концепции как таковой была дана в журнале «История в средней школе», а потому статья носила нарочито популярное название «К какой общественно-экономической формации принадлежит общество Древнего Востока»; кроме названия, ничего популярного в статье не было. Начав с краткого обзора прошедшей дискуссии, автор указал на то, что попытки доказать наличие на Востоке особой азиатской формации потерпели крушение в ходе дискуссий 1930–1931 гг., поскольку «азиатчики» (то есть сторонники выделения таковой формации) некорректно истолковали труды Маркса, Энгельса, Ленина (и Сталина – теперь ссылки на него появляются у Никольского), допустив ряд принципиальных теоретических ошибок. Выступление Струве критик оценивал как попытку реванша со стороны «азиатчиков»62. И опровержение производил в том же порядке: вначале показывал, что теоретики марксизма отличали восточное рабство от античного и не относили восточную древность к античной формации, а затем утверждал, что исторические факты также не позволяют этого сделать. Рабов в древневосточных обществах было немного, преобладала, кроме нескольких эпох активной завоевательной политики, эксплуатация крестьянства. Поэтому нельзя, вслед за Струве (который к тому времени постепенно корректировал свою позицию), говорить, что на Востоке был своеобразный рабовладельческий строй, поскольку там «уже в III тысячелетии мы находим своеобразный восточный феодализм»63. Наконец, Никольский выступил и против того, чтобы стремиться синхронизировать этапы истории различных древних обществ: «Единство человеческого общественного развития заключается не в том, что все человеческие общества точно по плану в одно и то же время проходят обязательно и в строгой последовательности через определенные этапы общественного развития, – это чисто механическая концепция. Единство человеческого общественного развития заключается в том, что человечество в целом, начав с доклассового первобытно-коммунистического общества, проходит отдельными, хотя и связанными друг с другом отрядами через этапы классового общества, причем отдельные отряды могут на определенных этапах задерживаться и задерживаются долее других или, наоборот, могут перепрыгивать и перепрыгивают через отдельные этапы классового пути…»64.
Уже в первой своей статье Никольский постарался кратко показать, что документальная база концепции Струве – несколько шумерских документов – не только узка, но на самом деле и не подтверждает его тезисов. Вторая статья от 1934 г. – «К вопросу о рабстве на древнем Востоке» – это по преимуществу попытка разгромить противника именно на почве конкретно-исторического исследования65. По мнению Никольского, Струве в лучшем случае удалось показать, что небольшая группа пахарей была занята постоянно в хозяйстве шумерской Уммы, остальные же работники привлекались на ограниченное число дней; в таком случае «ни о какой рабовладельческой латифундии в сводке № 5675 не может быть и речи. 24‐ем рабам противостоят свыше 2000 барщинных людей, к которым надо прибавить еще свыше 600 носильщиков и какое-то число наемников…»66. Но даже эти пахари вряд ли являются рабами – поскольку нет сведений об их довольствии, то логично предположить, что они несли барщину на государственно-храмовое хозяйство, при этом имея также собственное.
Однако дискуссия изначально пошла в неудачном для Никольского направлении. Прежде всего, эффект его статей частично дезавуировался тем фактом, что с ними рядом в тех же номерах печатались и возражения. «Теоретической» статье парировал В. И. Авдиев, в основном с помощью общих рассуждений (что смотрелось даже более выигрышно, учитывая аудиторию журнала)67, ответ же на конкретные возражения последовал от самого Струве и, напротив, был длинный, при этом, как часто бывало у Струве, запутанный в изложении и детальной аргументации, но… тоже более убедительный.
Исследователи творчества Струве хорошо знают, что славы тонкого спорщика за ним точно никогда не значилось. Но в нашем случае Струве проявил себя как опытный полемист. Резкие фразы противника («способ мышления и аргументации проф. Струве надо назвать скорее поэтическим, чем аналитическим»68) он отвел указанием на то, что такой «остро полемический тон» совсем не нужен при обсуждении фундаментального вопроса69, но при этом не преминул кое-где наказать оппонента за его яркую риторику. Где-то он смог проявить уместную скромность – согласившись с тем, что в подсчетах трудодней им была допущена ошибка, указал, что ошибся и Никольский: «К сожалению, и уважаемый рецензент оказался столь же плохим „арифметиком“, как и я»70. Главное же, Струве воспользовался возможностью ответить для того, чтобы дать полную публикацию документа № 5675 и сделать выводы: что упоминание работников «на 1 день» является лишь приемом учета рабочей силы, что речь идет о человеко-днях в современном понимании и что все партии работников были оторванными от средств производства – иными словами, трудились круглый год в крупном хозяйстве, не имея собственной земли, с которой могли бы нести какие-то повинности. И хотя юридически они не были рабами в том же смысле, что в латифундиях Карфагена или Рима, их экономическое положение является рабским71. Даже от краткого освещения взглядов Маркса и Энгельса на проблему Струве здесь уклонился. Никольскому же уже при первых попытках отстоять свою точку зрения приходилось сталкиваться с неудобными вопросами о том, чем же его понимание феодализма на Востоке отличается от концепции однозначно отвергаемого советскими учеными Э. Мейера. «Моя феодальная концепция не от Мейера, никогда меня не пленявшего, но от моих самостоятельных работ»72, – парировал Никольский, но вряд ли это убеждало оппонентов.
Вскоре проблема противостояния феодальной и рабовладельческой концепций перенеслась на другое поле – учебник Никольского оказался под ощутимыми ударами критики как со стороны школьных учителей, так и со стороны специалистов; учитывая то, что в книге объективно было много ошибок, и то, что позиции Струве только укреплялись, решение о существенной переделке учебника было неизбежным. Как автор, Никольский был включен в группу по его редактированию, и он постарался найти компромиссный вариант: на 1934–1935 учебный год была предложена схема, по которой учителя должны были «не читать» и не преподавать из учебника любые теоретические моменты, не употреблять использованную в нем терминологию, применяя его лишь как сборник фактического материала73. В следующем году вышло издание учебника, в редактуре которого, судя по всему, Никольский не участвовал – его текст был взят за основу, но переписан в духе рабовладельческой концепции. Переписал главы по Древнему Востоку Струве74.
Нет поэтому ничего удивительного в том, что Никольский испытывал глубокую антипатию не только к новой концепции, но и к ее автору. Это хорошо видно на материалах переписки 1936–1937 гг. с А. Б. Рановичем (1885–1948), которую Никольский вел ввиду того, что был редактором книги Рановича «Очерк истории древнееврейской религии» (1937). Струве упоминается не только в связи с концепцией, вызвавшей несогласие Никольского, но и вообще как плохой специалист, и это раздражение – глубоко личное75.
Какие факторы могли так раздражать Никольского? Когда жарко споришь, начинает так или иначе интересовать личность оппонента (и редко она предстает в теплых тонах). Наверное, Никольского могло огорчать то, что Струве воспринимался многими как «старый ученый, пришедший к марксизму», ибо здесь все было не вполне точно. «Старым» Струве не был как в буквальном смысле (в начале спора ему сорок пять лет, Никольский был на двенадцать лет старше), так и в смысле содержательном: до революции Струве только начинал свой путь в науке, никаких значимых трудов он не создал (как, собственно, и до конца 1920‐х гг.). Возможно, Никольский, знавший Тураева76, понимал и то, что даже представление о Струве как ученике великого ученого тоже было в значительной мере мифическим – тот никогда не входил в ближний круг сторонников, которых патриарх отечественного востоковедения сам называл своими учениками.
Обращение Струве в марксиста тоже вызывало у Никольского неприятие: начинать осваивать теорию спустя десять лет после установления советской власти не то же самое, что постигать ее за двадцать лет до этого самого установления. Для Никольского трудно было избежать противопоставления искреннего неискреннему, настоящего – вымученному. Концепция Струве неизбежно виделась ему как еще одна «пена дней», рожденная диспутами о способе производства на Востоке, и моду на нее он воспринял первоначально как временную ошибку, общее помутнение разума, иными словами, он не уловил некоторых смыслов тех важных перемен в отношении исторической науки, которые произошли в начале 1930‐х гг., и быстрое восхождение Струве на вершины академической науки воспринималось им скорее как узурпация.
Играло роль и осознание проигрываемой конкуренции. Никольский сам теперь оказывался в роли догоняющего, который был вынужден наблюдать, как документы, некогда изданные его отцом, теперь включаются Струве в его работы в совершенно иной трактовке, как рабовладельческая концепция кладется в основу школьного учебника и университетских курсов, как неприемлемое для него становится общепризнанным.
Главное же, Никольский был вынужден, хотя и с сопротивлением, отступать, причем непросто сказать, какие факторы больше повлияли на изменение его позиции. Как кажется, первоначально, когда он отказался от «чистого» феодализма в древневосточных странах77, это был результат действительных внутренних сомнений, хотя и спровоцированных фактом дискуссии. В письме к Рановичу от 1936 г. это объяснялось так:
Ошибка «феодалов» (и моя), заключалась в том, что они мерили древневосточные общинные отношения меркой развитого западного феодализма, допуская при этом известные натяжки и распространительное толкование некоторых указаний источников. На самом деле «восточный общинный строй» не был феодальным в точном и полном смысле этого слова, как вследствие того, что в нем всегда сохранялось и временами значительно расширялось рабство, так и вследствие того, что на древнем Востоке и в большой части Востока последующих времен общинная форма собственности не переросла в феодальную форму собственности78.
Следующим шагом было уже признание наличия рабовладельческой формации на Востоке, и шаг этот был сделан буквально в следующие годы – в 1937–1938 гг. На мой взгляд, это свидетельствует о внешнем давлении, причем его не нужно понимать в смысле буквального совета от коллег или начальства, просто следует учитывать, что в эти годы люди из учреждений действительно исчезали один за другим. Чистки были сильными и в научных и учебных заведениях Минска, и в Москве. Сейчас можно с достаточной уверенностью утверждать, что они были лишь косвенно связаны с профессиональной позицией ученых, тем более занимавшихся вопросами истории далеких столетий, а кроме того, логики в них было примерно столько же, сколько в охоте на ведьм, но тогда ни истинных масштабов, ни алгоритма действия репрессий не представлял никто. Поэтому каждый думал о том, что он может сделать для того, чтобы избежать опасности. Если смотреть на внешнюю сторону дела, то Никольскому, который в 1937 г. станет директором Института истории АН БССР, ничего не грозило, но, думается, он чувствовал, что и его в любой момент может коснуться неизвестно как разящий меч государственного террора79.
Казалось бы, это отступление уже нельзя было признать тактическим, но Никольский и здесь не готов был смириться. Следует помнить, что при издании его работ многие из его заявлений смягчались или изымались вовсе, особенно те части, которые касались теоретических положений, – об этом отчасти свидетельствует большая неопубликованная рецензия Никольского на очередную переработанную версию «Истории древнего Востока» Струве (которая в итоге выйдет в 1941 г. в качестве университетского учебника)80, где он не стесняется обвинять своего оппонента в тиражировании антимарксистских тезисов81 или прямо называет всю его концепцию путаной и антимарксистской82.
После 1937 г. Никольский находит другой ракурс атаки положений противника: да, Струве был прав, отвергнув феодализм на Древнем Востоке, но он совершенно ошибается, воспринимая рабовладение на Востоке как полный аналог античного рабовладения. Эта ошибка проистекает прежде всего из игнорирования им роли общины, которую Струве считает рано разложившейся, в то время как она была важнейшей составляющей всей древневосточной истории83. Данный тезис Никольского не только оказался удачным в плане критики слабых мест теории Струве (потому что он не был надуман, и здесь даже тот сравнительно редкий случай, когда обвинение в том, что Струве попросту пошел вслед за зарубежными учеными, оказывается справедливым), но и нашел ему достаточно союзников – и Ранович, и Авдиев были только рады указать Струве на необходимость корректировки его концепции.

