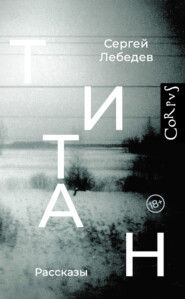По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дебютант
Автор
Серия
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Его долготерпение жертвы.
Когда он наконец сломался по-настоящему, заговорил без утайки, Шершнев мгновенно понял, как и кому позволил себя обмануть.
Мальчишку, наверное, еще можно было попытаться спасти. Отдать или продать родственникам, что день и ночь стояли у ворот базы, передавая из рук в руки затертые, неизвестно кем составленные списки. Так и поступали иногда со второстепенными арестантами – за живого давали гораздо больше денег, чем за мертвого.
Но Шершнев распорядился, чтобы мальчишку добили и похоронили в тайной яме за цементным заводом. Ошибка была слишком позорной.
Хорошо еще Евстифеев – недалекий, исполнительный чурбан – так, похоже, ничего и не понял. А если бы мальчишка заговорил, узнали бы и местные, и сослуживцы: слухи тут быстро расползаются.
Военные могли арестовать любого и выбить какое угодно признание; это было в порядке вещей. Но офицер, который купился так, как купился на разводку агента Шершнев, превратился бы для своих в лопуха, для чужих – в посмешище; заработанный авторитет улетучился бы в мгновение ока.
Шершнев не дождался исполнения приказа. Уехал. Вернувшись через неделю, спросил у сержанта Капустина, пьяницы, блудодея, палача, торговца пленниками: “Сделано?” И получил ожидаемый ответ: “Сделано, сделано, капитан”.
Капустин мог себе позволить тыкать старшим по званию. Он вел денежные дела с такими звездами, что четыре капитанские звездочки Шершнева смотрелись бледно.
Агента, который его подставил, Шершнев наказать не мог. Тот состоял на связи не только у него. Да и был не совсем осведомитель, странный типаж длительного военного безвременья, успел повоевать на обеих сторонах, завести насквозь темный – а другого и быть не могло – бизнес с армейскими, теперь ему прочили хорошее, не в первых рядах, но хорошее место в новой администрации. Агент, впрочем, молчал о том, как обхитрил капитана; не хотел, чтобы семья мальчишки узнала, кто его выдал федералам.
Так Шершнев и остался с кровью, пролитой напрасно. С изуверством, которое ничему не послужило. С ощущением, что сглупил в горячке охоты, взял щенка вместо волка, опозорился перед всем миром. Потратил тяжкую, дорогую деньгу смертной пытки на юнца, которому цена копейка.
Были в его подразделении и те, кто не понял бы сомнений Шершнева, рассудил просто: одним больше, одним меньше. Шершнев же простил бы себе попадание “в молоко”. А вот промах стрелка, умеющего направить пулю, но не умеющего отличить истинную мишень от ложной, – нет.
Евстифеев погиб через полгода. Нарвался при обыске на очередь из подпола. Капустина убили то ли чужие, то ли свои, когда он повез на цементный завод очередные трупы. Шершнев не считал, что это особенное совпадение. Война есть война. Он испытал только тайное облегчение, узнав от сослуживцев, что невольные свидетели его ошибки мертвы, – Капустин-то был пронырой, нюхачом, знал всех и вся, наверняка понял, как агент ловко поимел капитана.
Через месяц после возвращения домой Марина сказала ему, что беременна.
Шершнев знал разные ночи с ней. Умел, как ему казалось, различать, что происходит в сексе помимо самого секса, какое иное значение иногда получает плотская любовь.
Он особенно помнил одну ночь, точнее, поздний летний вечер. С утра поехали за город собирать грибы, видели, как у метро продают корзинами молодые опята. Но ничего почти не нашли, все уже срезали местные, рано вставшие грибники. Только папоротники были заломаны, затоптаны около пней да белели во мху кучные срезы опят.
Зато была река, качающийся навесной мост, купание в стремительной воде, неожиданно теплой, пронизанной от поверхности до дна мерцанием рыбьих стаек. Был день больше, просторнее, важнее других. А когда они вечером занимались любовью, Шершнев и буднично, и остро ощутил, что в такие, будто с особой пометкой, дни и зачинаются любимые, посланные дети.
Потом у Марины была задержка – будто телесное эхо, легкий всплеск мироздания. Но тест дал отрицательный результат. А вскоре он уехал в первую военную командировку, заставившую позабыть и мост, и реку, и объятия.
Ночь по возвращении была отравлена жалкой, бесполой наготой, которой Шершнев досыта навиделся в контейнере. Ночь без ласк, без нежности. Он страстно хотел кончить, будто выплеснуть в лоно жены все произошедшее с ним; не замечал, что Марина стонет уже от боли, а не от наслаждения.
Потом Шершнев заново привыкал к беззащитному, отданному ему во власть телу жены; они снова и снова занимались любовью, узнавая себя прежних. Но он внутренне знал, что Максим был зачат в ту, самую темную, самую первую ночь.
Вчера Максиму исполнилось шестнадцать. Шершнев предложил свозить его с одноклассниками за город, на шашлыки, надеялся, что Максим оценит. А сын неожиданно попросил в подарок пейнтбольный матч на полигоне, который он сам выбрал.
Шершнев сказал “да”, арендовал автобус. Марина и ее новый муж были против, боялись травм. Только поэтому Шершнев и согласился. Идея ему не очень нравилась. Максим знал, что его отец военный, что он бывал на настоящей войне. Но они никогда не говорили об этом; даже о том немногом, что Шершнев имел право рассказать.
Он не связывал судьбу сына с судьбой того, теперь безымянного, мальчишки, брошенного в яму на цементном заводе. Однако само совпадение – тот умер, а Максим был вызван к жизни, – оказалось слишком явным, чтобы Шершнев мог его игнорировать.
И вот Максим сам попросил поиграть в войну. Почему? Зачем? Шершнев подсознательно чувствовал в этой просьбе нехорошее сближение двух миров, которые он суеверно предпочитал удерживать на дистанции друг от друга. Пусть даже и пули в пейнтбольных ружьях были игрушечными. Хотя сослуживцы, знавшие кое-что о его семейных проблемах, порадовались: наконец-то парень показал натуру, отцовские гены взяли свое. Сыграете вместе. А Шершнев был уверен, что Максим попросит отца сыграть против него.
На Максиме он построил объяснение всему, что совершил: ради его мирной жизни. Шершнев не мог признаться себе, что сын важен и нужен ему только как оправдание. И теперь ждал какого-то мстительного подвоха, рикошета из прошлого.
Но и отказать не мог.
Заметив рекламный щит “Территория Х, пейнтбольный полигон”, Шершнев свернул с трассы. До поездки у него не нашлось времени изучить, куда, собственно, они едут. Наверное, заброшенные склады или старый санаторий, превращенный в потешные для понимающего человека декорации поля боя или мира ядерного постапокалипсиса.
Шершнев видел Грозный после двух армейских штурмов. Разбомбленные в щебень пригороды Дамаска. Сожженные села. Он заранее ощущал высокомерное превосходство. Ведь всей биографией, от училища до службы, он был выучен считать источником значимого опыта в первую очередь насилие, уважать его неподдельность, его истинные не проходящие следы.
Он посмотрел в зеркало заднего вида на сына и его товарищей. Птенцы. Мальки. Головастики. Он внезапно захотел ткнуть их носом в настоящие копоть и грязь, завернуть за поворот, где будет не пригородный истоптанный лесок, а выпотрошенное после зачистки село, в котором не осталось жилого духа, добрососедских прозрачных тайн, ибо все двери выбиты, занавески сорваны, шкафы выворочены, и в каждую щель заглянули глаза солдат.
Морок обезлюдевшего села вызвал, вытащил на свет злое, стойкое чувство хорошо слаженной облавы. Сколько раз они подъезжали так, в первые годы только на броне, а потом и в автобусах, проверяя оружие, готовясь окружить и ворваться! Он даже угадал суть, ритм этого чувства в стихотворении, что читал им на служебных курсах английского въедливый старик – преподаватель, знавший еще легендарных нелегалов времен Кембриджской пятерки. Поэзия обычно не интересовала Шершнева. Стихи со школы были его казнью, распадались в памяти, как мякина; он не мог понять, зачем люди их сочиняют, что это за странная прихоть. А это – единственное в жизни – он запомнил без повторения, так точно легло оно на рельеф его души. И теперь прошептал под нос, радуясь, что, как и прежде, может распознать свое в звуках чужого языка:
O what is that sound which so thrills the ear
Down in the valley drumming, drumming?
Only the scarlet soldiers, dear,
The soldiers coming.
O what is that light I see flashing so clear
Over the distance brightly, brightly?
Only the sun on their weapons, dear,
As they step lightly[2 - О, что там слышен за дробный звук,Будто бы грома раскаты, раскаты?– Это солдаты идут, мой друг,Идут солдаты.О, что это там засверкало вдруг?Издалека этот блеск так ярок!– Солнце на ружьях блестит, мой друг,Свет его жарок.(У. Х. Оден, перевод Е. Тверской)].
Шершнев хотел продолжить, но осекся. Они приехали.
Пейнтбольный полигон располагался в бывшем пионерском лагере.
Шершнев надеялся, что не придется играть среди контейнеров. Однажды он с коллегами выбрался развеяться, а оказалось, что полигон имитирует битву в порту. Дешево и сердито, набрал списанные контейнеры по цене металлолома, расставил в чистом поле, и вот тебе лабиринт. Владельцы сказали, что так многие делают, самый дешевый способ, главное – землю арендовать. Коллеги, что бывали на той войне, поухмылялись, постучали прикладами по ребристым бортам – гулко внутри, пусто; и Шершнев радостно ощутил то цепкое, общее, о чем не стоило говорить вслух. Но играть с Максимом в таком антураже он не хотел.
И получил другое.
Пионерский лагерь. Узнаваемый, типовой. В таком – на территории отцовского гарнизона – бывал сам Шершнев в детстве. Будка у ворот. Одноэтажные отрядные корпуса, крашеные желтой известкой, которую можно соскрести, развести водой и превратить в маркую жижу, чтобы плескаться ею друг в друга из консервных банок. Заросший травой плац с флагштоками. Бюст Ленина, выкрашенный серебряной колкой краской. Кирпичная приземистая баня. Клумбы из шин перед зданием администрации. Громкоговорители на столбах…
Потянуло дымком – поодаль жгли костры, чтобы создать мнимую атмосферу боя. Максим пошел в контору, он хотел сам оплатить матч, пусть и отцовскими деньгами. Друзья ждали у автобуса. Шершнев думал, они закурят, но никто не смолил. Он один достал сигарету, затянулся, выдохнул, отгоняя дурное предзнаменование, глядя в два пласта, два времени памяти.
Вот он командир пионерского звена. Они играют в лагере в “Зарницу”, которой ждали всю смену, ползут, таясь за криво стрижеными кустами, к штабу “синих”, расположенному в двенадцатом корпусе, слышат, как отдает указания чужой генерал, пионервожатый Веня Вальков, предчувствуют, как забегут внутрь, срывая с рубашек врагов пришитые на тонкую нитку синие лоскуты, и противники, досадуя, злясь, сядут на пол там, где их застигла понарошечная смерть.
А вот – внахлест, враспор – те же асфальтовые дорожки, запущенные кусты, желтобокие корпуса, баня красного кирпича. Только стенды с красно-белыми лозунгами прострелены, сожжены. На флагштоке висит самодельное знамя с оскалившимся волком. Тот же лагерь, та же надпись “юный ленинец” крутой дугой поверх ворот. Только лес вокруг другой, не разреженный сосновый, а густой лиственный, крученый, искривленный нутряным тяготением гор. Неподалеку течет бурная горная река, и рокот ее родственен голосам тех, кто занял теперь лагерь: будто кто-то собрал, сплавил воедино все самые чуждые, режущие слух звуки.
А он – командир звена, малой группы. Его дело сейчас наблюдать, потому что все уже предрешено, обработанные четки в резном ларце уже переданы, деревянные, грубо полированные четки, дерево так хорошо впитывает ароматические масла, заглушающие слабый запах спецпрепарата…
Шершнев очень удивился, когда ему дали под роспись придуманный руководством план. Осторожно сказал, что проще было бы навести ракету или ударить с вертолетов. Он не хотел рисковать группой, операцией ради чьих-то ученых степеней, ради полевых испытаний допотопного, отдающего театральным фарсом оружия – еще бы заставили из луков стрелять или сражаться кинжалами. Но теперь он буквально чуял движение скрытых в ларце четок, предчувствовал, как чужие руки откинут крышку, вынут нанизанные на суровую нить бусины, фальшивый, подмененный дар, пропустят, ощупывая, между пальцами, и раздастся верещащий, не знающий мужского стыда крик отравленного.
И когда однофамилец запытанного им мальчишки, долгожданный враг, полевой командир, а в недавнем прошлом – председатель колхоза “Рассвет”, ровесник Шершнева, закричал тонким подголоском своей беды, майор вознес языческую, хулительную, остервенелую хвалу Творцу – творцу той неприметной смерти, что напитала четки.
Он получил орден и следующее звание. Но дальше его стали несколько придерживать, как бы отложили в сторону, словно оправдавший свою мудреную форму, но редко нужный инструмент. На обычные задания чаще отправляли других, а по той особой линии операций больше не было. Во всяком случае, в их отделе.
Другие медленно, но верно обгоняли его в чинах, наградах, в неформальном рейтинге оперативников. Его же карьера оказалась отмечена тем загадочным веществом, о котором он ничего не знал, хотя давал перед рейдом отдельную подписку о неразглашении – в дополнение к обычным. Где-то наверху обращались тайны и приказы. Где-то в лабораториях их ведомства химики, думал Шершнев, продолжали создавать препараты. А подполковник ждал, когда одно совместится с другим: приказ и препарат, он – и следующая цель.
Шершнев докурил, растоптал окурок. Решение пришло само собой: сегодня он позволит сыну подстрелить себя. Не убить, но ранить. Так нужно. Пусть Максим увидит кровавую краску на теле отца, почувствует радость и смущение. Это красное пятно, этот удачный выстрел станет их первой взрослой историей, которую они будут вспоминать потом, – как ловко я тебя, ах, как ты меня.
Шершнев натянул игровой комбинезон. Команды разделились. Одним предстояло штурмовать “базу” – старый отрядный корпус, другим – защищать. Шершнев вызвался в атакующие. У них будет больше потерь. Он хотел как-то напутствовать сына, но, пока подбирал слова, Максим уже закрыл забрало шлема, показал ему два пальца – V, победа.
И снова Шершнев лежал за деревьями, глядя на желтые домики. Полз, стрелял, командовал своими подопечными: влево, вправо, обходи. Конечно, он играл в треть, в четверть силы, нарочно мазал или вовсе пропускал выстрел. Он мог бы перебить тут всех за десять минут, даже с неудобным пейнтбольным ружьем, стреляющим не прицельно и не далеко. Но дурачился, пытаясь сломать, пересилить годами выверенные навыки, заставить себя взять неверное упреждение. Шершнев искал глазами, где может быть Максим, пару раз, казалось, примечал его фигуру в проеме окна, его шлем с номером один. Форма у всех была одинаковая, шлемы тоже, и Шершнев волновался, как бы не ошибиться, как бы не допустить, чтобы сына “убил” или “ранил” кто-то из его игроков; незаметно встраивал в игру свою запланированную хитрость.
Когда он наконец сломался по-настоящему, заговорил без утайки, Шершнев мгновенно понял, как и кому позволил себя обмануть.
Мальчишку, наверное, еще можно было попытаться спасти. Отдать или продать родственникам, что день и ночь стояли у ворот базы, передавая из рук в руки затертые, неизвестно кем составленные списки. Так и поступали иногда со второстепенными арестантами – за живого давали гораздо больше денег, чем за мертвого.
Но Шершнев распорядился, чтобы мальчишку добили и похоронили в тайной яме за цементным заводом. Ошибка была слишком позорной.
Хорошо еще Евстифеев – недалекий, исполнительный чурбан – так, похоже, ничего и не понял. А если бы мальчишка заговорил, узнали бы и местные, и сослуживцы: слухи тут быстро расползаются.
Военные могли арестовать любого и выбить какое угодно признание; это было в порядке вещей. Но офицер, который купился так, как купился на разводку агента Шершнев, превратился бы для своих в лопуха, для чужих – в посмешище; заработанный авторитет улетучился бы в мгновение ока.
Шершнев не дождался исполнения приказа. Уехал. Вернувшись через неделю, спросил у сержанта Капустина, пьяницы, блудодея, палача, торговца пленниками: “Сделано?” И получил ожидаемый ответ: “Сделано, сделано, капитан”.
Капустин мог себе позволить тыкать старшим по званию. Он вел денежные дела с такими звездами, что четыре капитанские звездочки Шершнева смотрелись бледно.
Агента, который его подставил, Шершнев наказать не мог. Тот состоял на связи не только у него. Да и был не совсем осведомитель, странный типаж длительного военного безвременья, успел повоевать на обеих сторонах, завести насквозь темный – а другого и быть не могло – бизнес с армейскими, теперь ему прочили хорошее, не в первых рядах, но хорошее место в новой администрации. Агент, впрочем, молчал о том, как обхитрил капитана; не хотел, чтобы семья мальчишки узнала, кто его выдал федералам.
Так Шершнев и остался с кровью, пролитой напрасно. С изуверством, которое ничему не послужило. С ощущением, что сглупил в горячке охоты, взял щенка вместо волка, опозорился перед всем миром. Потратил тяжкую, дорогую деньгу смертной пытки на юнца, которому цена копейка.
Были в его подразделении и те, кто не понял бы сомнений Шершнева, рассудил просто: одним больше, одним меньше. Шершнев же простил бы себе попадание “в молоко”. А вот промах стрелка, умеющего направить пулю, но не умеющего отличить истинную мишень от ложной, – нет.
Евстифеев погиб через полгода. Нарвался при обыске на очередь из подпола. Капустина убили то ли чужие, то ли свои, когда он повез на цементный завод очередные трупы. Шершнев не считал, что это особенное совпадение. Война есть война. Он испытал только тайное облегчение, узнав от сослуживцев, что невольные свидетели его ошибки мертвы, – Капустин-то был пронырой, нюхачом, знал всех и вся, наверняка понял, как агент ловко поимел капитана.
Через месяц после возвращения домой Марина сказала ему, что беременна.
Шершнев знал разные ночи с ней. Умел, как ему казалось, различать, что происходит в сексе помимо самого секса, какое иное значение иногда получает плотская любовь.
Он особенно помнил одну ночь, точнее, поздний летний вечер. С утра поехали за город собирать грибы, видели, как у метро продают корзинами молодые опята. Но ничего почти не нашли, все уже срезали местные, рано вставшие грибники. Только папоротники были заломаны, затоптаны около пней да белели во мху кучные срезы опят.
Зато была река, качающийся навесной мост, купание в стремительной воде, неожиданно теплой, пронизанной от поверхности до дна мерцанием рыбьих стаек. Был день больше, просторнее, важнее других. А когда они вечером занимались любовью, Шершнев и буднично, и остро ощутил, что в такие, будто с особой пометкой, дни и зачинаются любимые, посланные дети.
Потом у Марины была задержка – будто телесное эхо, легкий всплеск мироздания. Но тест дал отрицательный результат. А вскоре он уехал в первую военную командировку, заставившую позабыть и мост, и реку, и объятия.
Ночь по возвращении была отравлена жалкой, бесполой наготой, которой Шершнев досыта навиделся в контейнере. Ночь без ласк, без нежности. Он страстно хотел кончить, будто выплеснуть в лоно жены все произошедшее с ним; не замечал, что Марина стонет уже от боли, а не от наслаждения.
Потом Шершнев заново привыкал к беззащитному, отданному ему во власть телу жены; они снова и снова занимались любовью, узнавая себя прежних. Но он внутренне знал, что Максим был зачат в ту, самую темную, самую первую ночь.
Вчера Максиму исполнилось шестнадцать. Шершнев предложил свозить его с одноклассниками за город, на шашлыки, надеялся, что Максим оценит. А сын неожиданно попросил в подарок пейнтбольный матч на полигоне, который он сам выбрал.
Шершнев сказал “да”, арендовал автобус. Марина и ее новый муж были против, боялись травм. Только поэтому Шершнев и согласился. Идея ему не очень нравилась. Максим знал, что его отец военный, что он бывал на настоящей войне. Но они никогда не говорили об этом; даже о том немногом, что Шершнев имел право рассказать.
Он не связывал судьбу сына с судьбой того, теперь безымянного, мальчишки, брошенного в яму на цементном заводе. Однако само совпадение – тот умер, а Максим был вызван к жизни, – оказалось слишком явным, чтобы Шершнев мог его игнорировать.
И вот Максим сам попросил поиграть в войну. Почему? Зачем? Шершнев подсознательно чувствовал в этой просьбе нехорошее сближение двух миров, которые он суеверно предпочитал удерживать на дистанции друг от друга. Пусть даже и пули в пейнтбольных ружьях были игрушечными. Хотя сослуживцы, знавшие кое-что о его семейных проблемах, порадовались: наконец-то парень показал натуру, отцовские гены взяли свое. Сыграете вместе. А Шершнев был уверен, что Максим попросит отца сыграть против него.
На Максиме он построил объяснение всему, что совершил: ради его мирной жизни. Шершнев не мог признаться себе, что сын важен и нужен ему только как оправдание. И теперь ждал какого-то мстительного подвоха, рикошета из прошлого.
Но и отказать не мог.
Заметив рекламный щит “Территория Х, пейнтбольный полигон”, Шершнев свернул с трассы. До поездки у него не нашлось времени изучить, куда, собственно, они едут. Наверное, заброшенные склады или старый санаторий, превращенный в потешные для понимающего человека декорации поля боя или мира ядерного постапокалипсиса.
Шершнев видел Грозный после двух армейских штурмов. Разбомбленные в щебень пригороды Дамаска. Сожженные села. Он заранее ощущал высокомерное превосходство. Ведь всей биографией, от училища до службы, он был выучен считать источником значимого опыта в первую очередь насилие, уважать его неподдельность, его истинные не проходящие следы.
Он посмотрел в зеркало заднего вида на сына и его товарищей. Птенцы. Мальки. Головастики. Он внезапно захотел ткнуть их носом в настоящие копоть и грязь, завернуть за поворот, где будет не пригородный истоптанный лесок, а выпотрошенное после зачистки село, в котором не осталось жилого духа, добрососедских прозрачных тайн, ибо все двери выбиты, занавески сорваны, шкафы выворочены, и в каждую щель заглянули глаза солдат.
Морок обезлюдевшего села вызвал, вытащил на свет злое, стойкое чувство хорошо слаженной облавы. Сколько раз они подъезжали так, в первые годы только на броне, а потом и в автобусах, проверяя оружие, готовясь окружить и ворваться! Он даже угадал суть, ритм этого чувства в стихотворении, что читал им на служебных курсах английского въедливый старик – преподаватель, знавший еще легендарных нелегалов времен Кембриджской пятерки. Поэзия обычно не интересовала Шершнева. Стихи со школы были его казнью, распадались в памяти, как мякина; он не мог понять, зачем люди их сочиняют, что это за странная прихоть. А это – единственное в жизни – он запомнил без повторения, так точно легло оно на рельеф его души. И теперь прошептал под нос, радуясь, что, как и прежде, может распознать свое в звуках чужого языка:
O what is that sound which so thrills the ear
Down in the valley drumming, drumming?
Only the scarlet soldiers, dear,
The soldiers coming.
O what is that light I see flashing so clear
Over the distance brightly, brightly?
Only the sun on their weapons, dear,
As they step lightly[2 - О, что там слышен за дробный звук,Будто бы грома раскаты, раскаты?– Это солдаты идут, мой друг,Идут солдаты.О, что это там засверкало вдруг?Издалека этот блеск так ярок!– Солнце на ружьях блестит, мой друг,Свет его жарок.(У. Х. Оден, перевод Е. Тверской)].
Шершнев хотел продолжить, но осекся. Они приехали.
Пейнтбольный полигон располагался в бывшем пионерском лагере.
Шершнев надеялся, что не придется играть среди контейнеров. Однажды он с коллегами выбрался развеяться, а оказалось, что полигон имитирует битву в порту. Дешево и сердито, набрал списанные контейнеры по цене металлолома, расставил в чистом поле, и вот тебе лабиринт. Владельцы сказали, что так многие делают, самый дешевый способ, главное – землю арендовать. Коллеги, что бывали на той войне, поухмылялись, постучали прикладами по ребристым бортам – гулко внутри, пусто; и Шершнев радостно ощутил то цепкое, общее, о чем не стоило говорить вслух. Но играть с Максимом в таком антураже он не хотел.
И получил другое.
Пионерский лагерь. Узнаваемый, типовой. В таком – на территории отцовского гарнизона – бывал сам Шершнев в детстве. Будка у ворот. Одноэтажные отрядные корпуса, крашеные желтой известкой, которую можно соскрести, развести водой и превратить в маркую жижу, чтобы плескаться ею друг в друга из консервных банок. Заросший травой плац с флагштоками. Бюст Ленина, выкрашенный серебряной колкой краской. Кирпичная приземистая баня. Клумбы из шин перед зданием администрации. Громкоговорители на столбах…
Потянуло дымком – поодаль жгли костры, чтобы создать мнимую атмосферу боя. Максим пошел в контору, он хотел сам оплатить матч, пусть и отцовскими деньгами. Друзья ждали у автобуса. Шершнев думал, они закурят, но никто не смолил. Он один достал сигарету, затянулся, выдохнул, отгоняя дурное предзнаменование, глядя в два пласта, два времени памяти.
Вот он командир пионерского звена. Они играют в лагере в “Зарницу”, которой ждали всю смену, ползут, таясь за криво стрижеными кустами, к штабу “синих”, расположенному в двенадцатом корпусе, слышат, как отдает указания чужой генерал, пионервожатый Веня Вальков, предчувствуют, как забегут внутрь, срывая с рубашек врагов пришитые на тонкую нитку синие лоскуты, и противники, досадуя, злясь, сядут на пол там, где их застигла понарошечная смерть.
А вот – внахлест, враспор – те же асфальтовые дорожки, запущенные кусты, желтобокие корпуса, баня красного кирпича. Только стенды с красно-белыми лозунгами прострелены, сожжены. На флагштоке висит самодельное знамя с оскалившимся волком. Тот же лагерь, та же надпись “юный ленинец” крутой дугой поверх ворот. Только лес вокруг другой, не разреженный сосновый, а густой лиственный, крученый, искривленный нутряным тяготением гор. Неподалеку течет бурная горная река, и рокот ее родственен голосам тех, кто занял теперь лагерь: будто кто-то собрал, сплавил воедино все самые чуждые, режущие слух звуки.
А он – командир звена, малой группы. Его дело сейчас наблюдать, потому что все уже предрешено, обработанные четки в резном ларце уже переданы, деревянные, грубо полированные четки, дерево так хорошо впитывает ароматические масла, заглушающие слабый запах спецпрепарата…
Шершнев очень удивился, когда ему дали под роспись придуманный руководством план. Осторожно сказал, что проще было бы навести ракету или ударить с вертолетов. Он не хотел рисковать группой, операцией ради чьих-то ученых степеней, ради полевых испытаний допотопного, отдающего театральным фарсом оружия – еще бы заставили из луков стрелять или сражаться кинжалами. Но теперь он буквально чуял движение скрытых в ларце четок, предчувствовал, как чужие руки откинут крышку, вынут нанизанные на суровую нить бусины, фальшивый, подмененный дар, пропустят, ощупывая, между пальцами, и раздастся верещащий, не знающий мужского стыда крик отравленного.
И когда однофамилец запытанного им мальчишки, долгожданный враг, полевой командир, а в недавнем прошлом – председатель колхоза “Рассвет”, ровесник Шершнева, закричал тонким подголоском своей беды, майор вознес языческую, хулительную, остервенелую хвалу Творцу – творцу той неприметной смерти, что напитала четки.
Он получил орден и следующее звание. Но дальше его стали несколько придерживать, как бы отложили в сторону, словно оправдавший свою мудреную форму, но редко нужный инструмент. На обычные задания чаще отправляли других, а по той особой линии операций больше не было. Во всяком случае, в их отделе.
Другие медленно, но верно обгоняли его в чинах, наградах, в неформальном рейтинге оперативников. Его же карьера оказалась отмечена тем загадочным веществом, о котором он ничего не знал, хотя давал перед рейдом отдельную подписку о неразглашении – в дополнение к обычным. Где-то наверху обращались тайны и приказы. Где-то в лабораториях их ведомства химики, думал Шершнев, продолжали создавать препараты. А подполковник ждал, когда одно совместится с другим: приказ и препарат, он – и следующая цель.
Шершнев докурил, растоптал окурок. Решение пришло само собой: сегодня он позволит сыну подстрелить себя. Не убить, но ранить. Так нужно. Пусть Максим увидит кровавую краску на теле отца, почувствует радость и смущение. Это красное пятно, этот удачный выстрел станет их первой взрослой историей, которую они будут вспоминать потом, – как ловко я тебя, ах, как ты меня.
Шершнев натянул игровой комбинезон. Команды разделились. Одним предстояло штурмовать “базу” – старый отрядный корпус, другим – защищать. Шершнев вызвался в атакующие. У них будет больше потерь. Он хотел как-то напутствовать сына, но, пока подбирал слова, Максим уже закрыл забрало шлема, показал ему два пальца – V, победа.
И снова Шершнев лежал за деревьями, глядя на желтые домики. Полз, стрелял, командовал своими подопечными: влево, вправо, обходи. Конечно, он играл в треть, в четверть силы, нарочно мазал или вовсе пропускал выстрел. Он мог бы перебить тут всех за десять минут, даже с неудобным пейнтбольным ружьем, стреляющим не прицельно и не далеко. Но дурачился, пытаясь сломать, пересилить годами выверенные навыки, заставить себя взять неверное упреждение. Шершнев искал глазами, где может быть Максим, пару раз, казалось, примечал его фигуру в проеме окна, его шлем с номером один. Форма у всех была одинаковая, шлемы тоже, и Шершнев волновался, как бы не ошибиться, как бы не допустить, чтобы сына “убил” или “ранил” кто-то из его игроков; незаметно встраивал в игру свою запланированную хитрость.