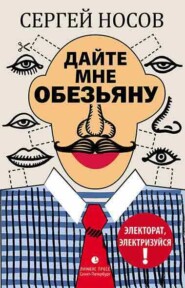По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Закрытие темы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Павловский любил петь эту частушку, потому что она была сочинена прямо у него на глазах, и он первый, кто частушку услышал (а вовсе не потому, что она правильно характеризовала стиль работы Павловского). А ещё он привёз жёваную-пережёванную, трёпаную-перетрёпанную брошюру профессора Стаховского «Уход за свиноматками и поросятами (для малограмотных)», – выпустило брошюру в 1931 году одно уже несуществующее издательство с очень длинным и сложным названием. «На, – сказал Павловский, – изучай, библиографическая редкость».
Шутки шутками (а Павловский любил подшутить над Виктором), но в глазах Быстровой корреспондент Ласточка действительно хотел выглядеть специалистом. Конечно, это мальчишество. Именно мальчишество: в детстве он много натерпелся из-за своей причудливой фамилии, оттого, быть может, и воспиталась в нём тяга к солидности и основательности. Увы, то, что ценит в себе Ласточка как основательность, есть попросту избыточное знание частностей. Имея весьма приблизительное представление о таком, например, предмете, каким является навоз – настоящий навоз! – он легко усвоил из литературы, что по ряду причин навозом не следует утеплять стены свинарников; или, допустим, что хряков необходимо выгуливать каждый день и купать в речке; или, к примеру, что должен быть микроскоп на ветеринарном пункте для ежемесячной проверки спермы производителей. Сейчас он мог бы, не моргнув глазом, спросить Антонину Быстрову: «А как вы боретесь с яловостью маток? А даёте ли вы железо малокровным поросятам? А в каких пропорциях?» В свой журналистский блокнот он выписывал «полезные» слова, вроде «отъёмыш» и «супоросная», – могут пригодиться ему в разговоре.
– А что, Радостный прибавляет в весе?
Вместо ответа Егорыч натягивает посильнее вожжи, – кобыла ровнее пошла, она кивает головой, не переставая, а на повороте ведёт мордой в сторону, будто хочет обернуться, чтобы посмотреть на Ласточку. Ласточка, поёживаясь на ветру, поднимает воротник рубашки. С листьев деревьев срываются дождевые капли – ветер порывист.
– Я не свинарь, – отозвался Егорыч. – Я конюх колхозный. Но, но, милай!..
В том-то и трудность, что «но, но, милай!..». В том-то и трудность… А то, что репортаж в газету или заметку, статью – это дело несложное. Но не стал бы Ласточка так готовиться к этой поездке, если бы тем всё и кончилось. Нельзя упускать возможности. Он способен на большее. Он сам не знает, на что он способен, во что это выльется… В крупный, быть может, проблемный очерк о судьбах колхозной деревни. Или в рассказ. Да, пожалуй, в рассказ. Не в газету, конечно, а как придётся… в журнал, если получится. Или что-нибудь путевое – ни слова неправды. Едет в деревню корреспондент… В том-то и трудность, что едет корреспондент.
Сотни едут. Корреспондент в деревне. И каждого встречают на станции, и каждый третий «но, но, милай» слышит, потому что дальше надо на лошади, и лошадиный зад у каждого перед глазами маячит, и хвост – тут уж как ни изображай, с чем ни сравнивай, ново не будет (а как не заметишь всё это, если самое что ни на есть заметное?). Или Егорыч: вот он, Егорыч, вожжою по сапогу похлёстывает в такт лошадиному шагу, – так ведь что из этого? Не он же один, и до него похлёстывали, и не Ласточка один это заметил. Нужно настраиваться на неповторимое, на то, что другие мимо глаз пропустят или увидят не так, по-другому. Лес над головой, как огонь зелёный. (Плохо.) Тот человек на станции, а под мышкой пила, как живая рыба. Пила как рыба. То есть не пила, как рыба, не глагол «пила», а то получилась двусмысленность… Двуручная пила, как живая рыба. Ласточка любит прозу Олеши. Он вообще многих любит. И Сергея Малашкина, и… Ну да ладно. Он глядит на ватник Егорыча. Недавно читал у одного автора – тоже про журналиста, и тоже встречают на станции, а тот, кто встречает, в «огненно-диком тулупе». Это же образ, «огненно-дикий тулуп»… Образности не хватает.
Лес кончился. Поле.
– «Высокое», – объявляет Егорыч.
Церковь, избы, внизу – коровник, на коровнике – ветряк. Село действительно расположилось на возвышенности.
– А где свиноферма?
– Дак то в ту сторону, – говорит Егорыч, указуя рукой туда, «в ту сторону», в сторону рощи осиновой. – Авонаси-насно-но-но-но!
И без того невнятный возглас Егорыча заглушается тележным скрипом – поднимаются в гору, проходит немало времени, прежде чем Ласточка распознаёт в неказистом сооружении, торчащем из-за деревьев, силосную башню.
– Высокая, – говорит Ласточка.
Товарищ Яровцев жмёт ему руку. Парторг. «Доеха ли-то как? Как, хорошо ли доехали?» – «Просто отлично, – отвечает Ласточка, – отлично доехал!» – «А у нас тут дожди. В Москве тоже, наверно, дожди, как погода?» – «Был дождь, когда уезжал, несильный был». – «А я был прошлым годом в Москве, – говорит Яровцев, – нет, в позапрошлом… это когда Карлу Марксу сто двадцать лет отмечали… это, значит, май месяц был, да?» – «Да, май был, – говорит Ласточка, – пятое мая».
Он вытирает ноги о вязаный половик. Он ещё не преодолел целиком смущение. Минуту назад, когда соскочили с телеги, – а Ласточка как-никак в ботинках калининской фабрики, с этаким рантом, шнурками светлыми, – получилось как-то неловко. Яровцев Пётр Кузьмич, встречая их на крыльце, резко остановил тогда торопливого Егорыча: «Погодь, погодь, под ноги смотри», – на что Егорыч отреагировал бормотанием: «Эк я вам брючину-то…» – делая шаг по направлению к Ласточке. Тут Ласточка и вообразил себе, что сейчас ему будут штаны отряхивать, – он отшатнулся от Егорыча и напугал в свою очередь лошадь. «Тпрру, окаянная, тпрру. Вы, товарищ корреспондент, сюда ступайте, тут сухо». Подоспел сам Яровцев – протянул руку Ласточке.
– Доехали-то как, хорошо ли доехали? (Тогда-то и спросил, как доехали.)
– Просто отлично, – сказал Ласточка, – отлично доехал.
Оба сидят за столом.
ВНИМАНИЮ КОЛХОЗОВ, СОВХОЗОВ, КОЛХОЗНИКОВ И ЕДИНОЛИЧНИКОВ! СОБИРАЙТЕ ШЕРСТЬ-ЛИНЬКУ!
– Места у вас очень славные, – говорит Ласточка.
СДАВАЙТЕ СОБРАННУЮ ШЕРСТЬ-ЛИНЬКУ НА СКЛАДЫ СЕЛЬПО И РАЙПОТРЕБСОЮЗА!
Пётр Кузьмич, проследив за ласточкиным взглядом, тоже смотрит на выцветший плакат:
– Коровью и конскую, – поясняет Яровцев.
Ласточка интересуется:
– Дорого стоит?
– Коровья пять сорок… Конская, боюсь наврать… три с чем-то… не сдавал… три с полтиной, кажется…
Ласточка понимающе кивает.
– Хозяйство у нас на сорок пять процентов свиноводческое, вы знаете. Что до успехов, так у меня кой-что выписано для вас… сто шесть деловых, значит… а то завтра давайте, лучше не сегодня про это… ни зоотехника сегодня, ни председателя, день трудный… поговорить… и вы с дороги…
– Нет-нет, я ничего.
– Сто шесть деловых поросят от девяти маток… за прошлый год… это одна бригада… а я в целом по хозяйству… за прошлый год восемьдесят четыре центнера живого веса, и ещё в план этого года сдали, значит, авансная сдача получается… тридцать шесть голов… Так что, смотрите, снизилось то, что это всё не считается в этом году, потому что снизилось, у нас всего, стал быть, тридцать голов, а наоборот, рост, потому что считается авансная сдача за этот, как за тот, в счёт мясозаготовок… в выполнение плана, правильно? Так ведь?
– Так, так, – говорит Ласточка.
– Если бы не отход… но мы с ним сурьёзно, с отходом… Яловость и отход враг номер один… карандаш, осторожно!.. Передовиков назову: Грачёва, Матвеева…
Он называет фамилии. Ласточка уже поднял карандаш с пола и теперь не знает, записывать или нет; пожалуй, ещё рано, пожалуй, нечего ещё записывать, успеется, и, чтобы не смущать парторга и самому не смущаться, он рукой накрывает блокнот. Всё от неопытности: и чувство скованности от неопытности, и эти кивки головой, будто бы с пониманием, и то, что на лице сосредоточенность отражается, основательность, поневоле закрепощающая собеседника, – всё от неопытности и очень мешает Ласточке, он сам это понимает, но ведь как-то надо слушать, смотреть, давать понять, что всё правильно, что согласен, так надо. Нужно быть проще. Необходимо дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление колхозной собственности. В третьей сталинской пятилетке поголовье свиней увеличится на сто процентов. Помните, Молотов на восемнадцатом съезде партии… Теперь это уже не тот Яровцев, что кричал только что «погодь, погодь» копотливому конюху, это совсем другой человек, внимательный, сосредоточенный, отвечающий за свои слова, помогающий жестами рук выговариваться своим словам – медлительным, неповоротливым, единственно необходимым.
Кроме всего прочего, Ласточка сидит спиной к двери, он не может никак понять, кто там так часто заглядывает в комнату; робость заглядывающего он объясняет своим присутствием, отчего испытывает ещё большую неловкость и неуверенность. Вместе с тем Ласточка примечает уверенность хозяйственной бабы Тани (Яровцев так и представил: баба Таня, двести трудодней, хотя и болела два месяца), домовито погромыхивающей за тонкой перегородкой. Чем она там погромыхивает?
Ухватом. По ряду признаков Ласточка догадывается, что его сейчас будут кормить, он спешит поинтересоваться насчёт Антонины Быстровой, подготовила ли она своего Радостного к сельскохозяйственной выставке, – ведь он должен быть в конце июля отправлен в Москву, потому что профилактический карантин объявлен с первого августа, – но не успевает грамматически верно построить вопрос и запинается на полуслове. Пётр Кузьмич тем временем, как бы продолжая свою мысль о росте свинопоголовья, но уже не словами, а свободным жестом руки, замирает, останавливает движение ладони по воздуху, ждёт секунду и, быстро опустив ладонь на колено, отрывисто произносит:
– Конечно.
Тут-то и происходят всякого рода перемещения, передвижения, вставания и опускания опять на стул, в результате чего Ласточка должен взять в руку ложку, в другую кусок хлеба и есть горячие щи со сметаной и пить парное молоко, совсем ещё тёплое. Яровцев удалился, чтобы не отвлекать Ласточку, и Ласточка ест один. На тарелке прихотливый рисунок – ветка сирени.
Потом ему вручают кирзовые сапоги, специально для него припасённые, и ведут через всё «Высокое» в отведённые для него апартаменты – большой, с виду богатый дом напротив бывшей церкви, в этом доме, говорит Яровцев, осенью будет школа.
Будет хорошо в этом доме, он будет один, никто не будет мешать Ласточке думать. Печь натоплена. За этим столом товарищ корреспондент сможет работать, записывать мысли. Баба Таня принесёт поесть, она рядом, если надо что, перейти только на ту сторону, вон в той избе у колодца. А сейчас, наверное, прикорнуть, на часок? Нет? Вона какая перина. А то порыбачить. Рыба хорошая водится: язь, плотва, подлещик…
Как же, как же, Ласточке надо идти на ферму. Ласточка сразу хочет пойти и увидеть своими глазами… Сразу. Зачем же сразу с дороги? До фермы километра три, да ещё по грязи. И нет председателя. А дождь? Дождь хлынет, дождь, такая погода. Лучше завтра, с утра. Завтра и председатель будет, и все. А куда же сегодня? Куда же сегодня?
Один. Он сидит на лавке.
Надо бы записать первые впечатления, но особых впечатлений, кажется, нет, как нет особого смысла в том разговоре, что он сейчас повторяет. Яровцев. Пётр Кузьмич Яровцев. Его лицо. Ласточка пытается подобрать эпитет к лицу Яровцева. Оно «волевое». Волевой подбородок, с ложбинкой. Глубокие складки на лбу. Выражение глаз. Только глаза он, между прочим, отводит. Чего это он глаза-то отводит? Смотрит куда-то в сторону. Что-то в нём есть не такое – такое… Волевое.
А кровать аккуратно заправлена, так аккуратно, что подойти страшно, не то чтобы лечь. И потом вот что сбивает – запах, чуть уловимый запах… он-то уж совсем не отвечает идее командировки – пахнет ладаном.
Ладаном!..
В соседней комнате на стене висит портрет Тимирязева. На столе глобус, чернильницы-непроливайки, в коробке – мелки. И ещё, опять-таки школьное: карта-схема за сундуком притулилась – Ледового побоища. Наша победа над немцами. Кстати, свиньёй, – немцы тогда построили свои ряды свиньёй, вспоминает Ласточка. Он осматривает дом. Сени, пустая кладовка, лесенка, упирающаяся в потолок, у каждой ступеньки свой поскрип. Поскрип, хорошее слово. Он приподнимает дверь-потолочину, хочет заглянуть на чердак, что там на чердаке. Мать-Богородица! Богородица там на иконе. Целый склад икон, штук двадцать. Разные. Есть в рост человека. Он ходит по чердаку. Битая под ногами посуда, знакомый рисунок – ветка сирени. Книги валяются. Ласточка берёт самую толстую. Библия. Он никогда не держал в руках настоящую Библию. Двенадцатое издание, девятьсот шестнадцатый год, он смотрит на титул: старинная, с ятями. Вот и Молитвослов с ятями, этот нетолстый. И другая, нетолстая, тоже Библия, только для детей, часть вторая, с картинками, странно…
Странно-то странно, только надо помнить о деле.
Надо идти к Быстровой. Самому.
Что за придурь такая терять зря время?
Он спускается вниз.
Шутки шутками (а Павловский любил подшутить над Виктором), но в глазах Быстровой корреспондент Ласточка действительно хотел выглядеть специалистом. Конечно, это мальчишество. Именно мальчишество: в детстве он много натерпелся из-за своей причудливой фамилии, оттого, быть может, и воспиталась в нём тяга к солидности и основательности. Увы, то, что ценит в себе Ласточка как основательность, есть попросту избыточное знание частностей. Имея весьма приблизительное представление о таком, например, предмете, каким является навоз – настоящий навоз! – он легко усвоил из литературы, что по ряду причин навозом не следует утеплять стены свинарников; или, допустим, что хряков необходимо выгуливать каждый день и купать в речке; или, к примеру, что должен быть микроскоп на ветеринарном пункте для ежемесячной проверки спермы производителей. Сейчас он мог бы, не моргнув глазом, спросить Антонину Быстрову: «А как вы боретесь с яловостью маток? А даёте ли вы железо малокровным поросятам? А в каких пропорциях?» В свой журналистский блокнот он выписывал «полезные» слова, вроде «отъёмыш» и «супоросная», – могут пригодиться ему в разговоре.
– А что, Радостный прибавляет в весе?
Вместо ответа Егорыч натягивает посильнее вожжи, – кобыла ровнее пошла, она кивает головой, не переставая, а на повороте ведёт мордой в сторону, будто хочет обернуться, чтобы посмотреть на Ласточку. Ласточка, поёживаясь на ветру, поднимает воротник рубашки. С листьев деревьев срываются дождевые капли – ветер порывист.
– Я не свинарь, – отозвался Егорыч. – Я конюх колхозный. Но, но, милай!..
В том-то и трудность, что «но, но, милай!..». В том-то и трудность… А то, что репортаж в газету или заметку, статью – это дело несложное. Но не стал бы Ласточка так готовиться к этой поездке, если бы тем всё и кончилось. Нельзя упускать возможности. Он способен на большее. Он сам не знает, на что он способен, во что это выльется… В крупный, быть может, проблемный очерк о судьбах колхозной деревни. Или в рассказ. Да, пожалуй, в рассказ. Не в газету, конечно, а как придётся… в журнал, если получится. Или что-нибудь путевое – ни слова неправды. Едет в деревню корреспондент… В том-то и трудность, что едет корреспондент.
Сотни едут. Корреспондент в деревне. И каждого встречают на станции, и каждый третий «но, но, милай» слышит, потому что дальше надо на лошади, и лошадиный зад у каждого перед глазами маячит, и хвост – тут уж как ни изображай, с чем ни сравнивай, ново не будет (а как не заметишь всё это, если самое что ни на есть заметное?). Или Егорыч: вот он, Егорыч, вожжою по сапогу похлёстывает в такт лошадиному шагу, – так ведь что из этого? Не он же один, и до него похлёстывали, и не Ласточка один это заметил. Нужно настраиваться на неповторимое, на то, что другие мимо глаз пропустят или увидят не так, по-другому. Лес над головой, как огонь зелёный. (Плохо.) Тот человек на станции, а под мышкой пила, как живая рыба. Пила как рыба. То есть не пила, как рыба, не глагол «пила», а то получилась двусмысленность… Двуручная пила, как живая рыба. Ласточка любит прозу Олеши. Он вообще многих любит. И Сергея Малашкина, и… Ну да ладно. Он глядит на ватник Егорыча. Недавно читал у одного автора – тоже про журналиста, и тоже встречают на станции, а тот, кто встречает, в «огненно-диком тулупе». Это же образ, «огненно-дикий тулуп»… Образности не хватает.
Лес кончился. Поле.
– «Высокое», – объявляет Егорыч.
Церковь, избы, внизу – коровник, на коровнике – ветряк. Село действительно расположилось на возвышенности.
– А где свиноферма?
– Дак то в ту сторону, – говорит Егорыч, указуя рукой туда, «в ту сторону», в сторону рощи осиновой. – Авонаси-насно-но-но-но!
И без того невнятный возглас Егорыча заглушается тележным скрипом – поднимаются в гору, проходит немало времени, прежде чем Ласточка распознаёт в неказистом сооружении, торчащем из-за деревьев, силосную башню.
– Высокая, – говорит Ласточка.
Товарищ Яровцев жмёт ему руку. Парторг. «Доеха ли-то как? Как, хорошо ли доехали?» – «Просто отлично, – отвечает Ласточка, – отлично доехал!» – «А у нас тут дожди. В Москве тоже, наверно, дожди, как погода?» – «Был дождь, когда уезжал, несильный был». – «А я был прошлым годом в Москве, – говорит Яровцев, – нет, в позапрошлом… это когда Карлу Марксу сто двадцать лет отмечали… это, значит, май месяц был, да?» – «Да, май был, – говорит Ласточка, – пятое мая».
Он вытирает ноги о вязаный половик. Он ещё не преодолел целиком смущение. Минуту назад, когда соскочили с телеги, – а Ласточка как-никак в ботинках калининской фабрики, с этаким рантом, шнурками светлыми, – получилось как-то неловко. Яровцев Пётр Кузьмич, встречая их на крыльце, резко остановил тогда торопливого Егорыча: «Погодь, погодь, под ноги смотри», – на что Егорыч отреагировал бормотанием: «Эк я вам брючину-то…» – делая шаг по направлению к Ласточке. Тут Ласточка и вообразил себе, что сейчас ему будут штаны отряхивать, – он отшатнулся от Егорыча и напугал в свою очередь лошадь. «Тпрру, окаянная, тпрру. Вы, товарищ корреспондент, сюда ступайте, тут сухо». Подоспел сам Яровцев – протянул руку Ласточке.
– Доехали-то как, хорошо ли доехали? (Тогда-то и спросил, как доехали.)
– Просто отлично, – сказал Ласточка, – отлично доехал.
Оба сидят за столом.
ВНИМАНИЮ КОЛХОЗОВ, СОВХОЗОВ, КОЛХОЗНИКОВ И ЕДИНОЛИЧНИКОВ! СОБИРАЙТЕ ШЕРСТЬ-ЛИНЬКУ!
– Места у вас очень славные, – говорит Ласточка.
СДАВАЙТЕ СОБРАННУЮ ШЕРСТЬ-ЛИНЬКУ НА СКЛАДЫ СЕЛЬПО И РАЙПОТРЕБСОЮЗА!
Пётр Кузьмич, проследив за ласточкиным взглядом, тоже смотрит на выцветший плакат:
– Коровью и конскую, – поясняет Яровцев.
Ласточка интересуется:
– Дорого стоит?
– Коровья пять сорок… Конская, боюсь наврать… три с чем-то… не сдавал… три с полтиной, кажется…
Ласточка понимающе кивает.
– Хозяйство у нас на сорок пять процентов свиноводческое, вы знаете. Что до успехов, так у меня кой-что выписано для вас… сто шесть деловых, значит… а то завтра давайте, лучше не сегодня про это… ни зоотехника сегодня, ни председателя, день трудный… поговорить… и вы с дороги…
– Нет-нет, я ничего.
– Сто шесть деловых поросят от девяти маток… за прошлый год… это одна бригада… а я в целом по хозяйству… за прошлый год восемьдесят четыре центнера живого веса, и ещё в план этого года сдали, значит, авансная сдача получается… тридцать шесть голов… Так что, смотрите, снизилось то, что это всё не считается в этом году, потому что снизилось, у нас всего, стал быть, тридцать голов, а наоборот, рост, потому что считается авансная сдача за этот, как за тот, в счёт мясозаготовок… в выполнение плана, правильно? Так ведь?
– Так, так, – говорит Ласточка.
– Если бы не отход… но мы с ним сурьёзно, с отходом… Яловость и отход враг номер один… карандаш, осторожно!.. Передовиков назову: Грачёва, Матвеева…
Он называет фамилии. Ласточка уже поднял карандаш с пола и теперь не знает, записывать или нет; пожалуй, ещё рано, пожалуй, нечего ещё записывать, успеется, и, чтобы не смущать парторга и самому не смущаться, он рукой накрывает блокнот. Всё от неопытности: и чувство скованности от неопытности, и эти кивки головой, будто бы с пониманием, и то, что на лице сосредоточенность отражается, основательность, поневоле закрепощающая собеседника, – всё от неопытности и очень мешает Ласточке, он сам это понимает, но ведь как-то надо слушать, смотреть, давать понять, что всё правильно, что согласен, так надо. Нужно быть проще. Необходимо дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление колхозной собственности. В третьей сталинской пятилетке поголовье свиней увеличится на сто процентов. Помните, Молотов на восемнадцатом съезде партии… Теперь это уже не тот Яровцев, что кричал только что «погодь, погодь» копотливому конюху, это совсем другой человек, внимательный, сосредоточенный, отвечающий за свои слова, помогающий жестами рук выговариваться своим словам – медлительным, неповоротливым, единственно необходимым.
Кроме всего прочего, Ласточка сидит спиной к двери, он не может никак понять, кто там так часто заглядывает в комнату; робость заглядывающего он объясняет своим присутствием, отчего испытывает ещё большую неловкость и неуверенность. Вместе с тем Ласточка примечает уверенность хозяйственной бабы Тани (Яровцев так и представил: баба Таня, двести трудодней, хотя и болела два месяца), домовито погромыхивающей за тонкой перегородкой. Чем она там погромыхивает?
Ухватом. По ряду признаков Ласточка догадывается, что его сейчас будут кормить, он спешит поинтересоваться насчёт Антонины Быстровой, подготовила ли она своего Радостного к сельскохозяйственной выставке, – ведь он должен быть в конце июля отправлен в Москву, потому что профилактический карантин объявлен с первого августа, – но не успевает грамматически верно построить вопрос и запинается на полуслове. Пётр Кузьмич тем временем, как бы продолжая свою мысль о росте свинопоголовья, но уже не словами, а свободным жестом руки, замирает, останавливает движение ладони по воздуху, ждёт секунду и, быстро опустив ладонь на колено, отрывисто произносит:
– Конечно.
Тут-то и происходят всякого рода перемещения, передвижения, вставания и опускания опять на стул, в результате чего Ласточка должен взять в руку ложку, в другую кусок хлеба и есть горячие щи со сметаной и пить парное молоко, совсем ещё тёплое. Яровцев удалился, чтобы не отвлекать Ласточку, и Ласточка ест один. На тарелке прихотливый рисунок – ветка сирени.
Потом ему вручают кирзовые сапоги, специально для него припасённые, и ведут через всё «Высокое» в отведённые для него апартаменты – большой, с виду богатый дом напротив бывшей церкви, в этом доме, говорит Яровцев, осенью будет школа.
Будет хорошо в этом доме, он будет один, никто не будет мешать Ласточке думать. Печь натоплена. За этим столом товарищ корреспондент сможет работать, записывать мысли. Баба Таня принесёт поесть, она рядом, если надо что, перейти только на ту сторону, вон в той избе у колодца. А сейчас, наверное, прикорнуть, на часок? Нет? Вона какая перина. А то порыбачить. Рыба хорошая водится: язь, плотва, подлещик…
Как же, как же, Ласточке надо идти на ферму. Ласточка сразу хочет пойти и увидеть своими глазами… Сразу. Зачем же сразу с дороги? До фермы километра три, да ещё по грязи. И нет председателя. А дождь? Дождь хлынет, дождь, такая погода. Лучше завтра, с утра. Завтра и председатель будет, и все. А куда же сегодня? Куда же сегодня?
Один. Он сидит на лавке.
Надо бы записать первые впечатления, но особых впечатлений, кажется, нет, как нет особого смысла в том разговоре, что он сейчас повторяет. Яровцев. Пётр Кузьмич Яровцев. Его лицо. Ласточка пытается подобрать эпитет к лицу Яровцева. Оно «волевое». Волевой подбородок, с ложбинкой. Глубокие складки на лбу. Выражение глаз. Только глаза он, между прочим, отводит. Чего это он глаза-то отводит? Смотрит куда-то в сторону. Что-то в нём есть не такое – такое… Волевое.
А кровать аккуратно заправлена, так аккуратно, что подойти страшно, не то чтобы лечь. И потом вот что сбивает – запах, чуть уловимый запах… он-то уж совсем не отвечает идее командировки – пахнет ладаном.
Ладаном!..
В соседней комнате на стене висит портрет Тимирязева. На столе глобус, чернильницы-непроливайки, в коробке – мелки. И ещё, опять-таки школьное: карта-схема за сундуком притулилась – Ледового побоища. Наша победа над немцами. Кстати, свиньёй, – немцы тогда построили свои ряды свиньёй, вспоминает Ласточка. Он осматривает дом. Сени, пустая кладовка, лесенка, упирающаяся в потолок, у каждой ступеньки свой поскрип. Поскрип, хорошее слово. Он приподнимает дверь-потолочину, хочет заглянуть на чердак, что там на чердаке. Мать-Богородица! Богородица там на иконе. Целый склад икон, штук двадцать. Разные. Есть в рост человека. Он ходит по чердаку. Битая под ногами посуда, знакомый рисунок – ветка сирени. Книги валяются. Ласточка берёт самую толстую. Библия. Он никогда не держал в руках настоящую Библию. Двенадцатое издание, девятьсот шестнадцатый год, он смотрит на титул: старинная, с ятями. Вот и Молитвослов с ятями, этот нетолстый. И другая, нетолстая, тоже Библия, только для детей, часть вторая, с картинками, странно…
Странно-то странно, только надо помнить о деле.
Надо идти к Быстровой. Самому.
Что за придурь такая терять зря время?
Он спускается вниз.