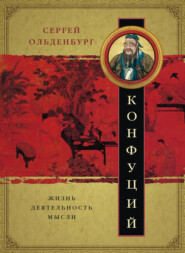По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Введение в историю индийского искусства
Год написания книги
1934
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Если легко было возразить на просто парадоксальное и чисто субъективное утверждение Лебона, то сложнее вопрос о мнении Сенара; мне представляется, однако, что, с одной стороны, мы имеем неудачную цитату Мендрона, который понимает слишком широко слова Сенара, с другой – последний сам выразился несколько неопределенно, слишком обобщающе, давая этим повод толковать его слова не в том смысле, какой он имел в виду, так как из произведений самого Сенара совершенно ясно, что ему хорошо известны и методичность, и дух системы индийских научных произведений, и чувство меры, которое всегда было присуще лучшим индийским умам. Все же в словах Сенара, даже столь ограничительно понимаемых, остается некоторый элемент, против которого приходится возразить. Прежде всего, оно может быть приложите только к индийской массе, а не к представителям ее духовной культуры; затем пример, им приведенный, не только малоубедителен, но я, напротив, показывает, каким именно образом слагаются суждения вроде общего суждения Сенара об отношении фактов действительности к индийскому воображению.
Вспомним, на самом деле, что такое представляет собою взгляд англо-индийского офицера на индийскую действительность: за редчайшими исключениями, это предвзятый взгляд свысока на то, что могут делать «ниггеры», низшая раса; не забудем, что это опять-таки только несколько преувеличенный взгляд «европейца» вообще на азиата, не допускающий даже и мысли о том, что там, в глубинах этой азиатской души, творится многое, что важно для европейца со всею его цивилизациею. Жизнь, празднества, искусство, литература «азиатов» этому европейцу кажутся просто смешными. Ведь это уже не простой английский офицер, а знаток индийских художественных ремесел говорит по поводу яванской статуи Будды, что «вареный жировой пудинг мог бы настолько же служить символом страстной чистоты и душевного спокойствия», как это «лишенное вдохновения медное изображение», причем изображение было каменное! А я привел слова известного знатока сэра Г. Бердвуда! – и вот я не знаю, кто был прав, туземные газеты или английский офицер, разочарованный туземным празднеством.
Боюсь, что, когда Сенар говорит об индийской «нелогичности, бессвязности», о противоречии между фактами жизни и индийским воображением, он стоит на европейской, обывательской точке зрения, а не на почве научного объективизма: стеклянная мозаика, фольга – вещи сами по себе грубые, но в известных комбинациях, на южном солнце, под южным небом они могут быть прекрасны, даже чарующи; многорукая, безобразная статуя индийского бога в шкафу европейского музея может показаться грубой, даже чудовищной и отталкивающей, отдаленно не напоминающей предмет искусства, и та же статуя в полумраке пещерного храма за алтарем, покрытым светильниками и их мерцающими огнями, курительными свечами, подобными светлякам, среди голубоватого дыма курений, окруженная цветами, может явиться нам бессмертным памятником искусства, живою душою храма, источником величайшего художественного наслаждения; те именно черты, которые оттолкнули нас в мертвой обстановке музея, здесь имеют удивительную, притягательную силу.
И Индия поняла это давно – тайна очарования ее искусства и литературы в том, что они слиты и с жизнью, и с природой. Об этом как-то невольно забыл даже такой тонкий ценитель прекрасного, как Сенар, когда он говорит о дешевых эффектах индийского великолепия, об этом даже не вспомнили другие, Я остановился несколько подробнее на отрицательных отзывах, только что приведенных, чтобы оттенить свою мысль, которую я ставлю в край угла изучения индийского искусства и которую я постараюсь теперь развить, – мысль о тесном единении искусства с другими сторонами духовной жизни Индии и необходимости рассматривать его поэтому при свете тех идеалов, которые выдвигала индийская жизнь; необходимо искать те теоретические взгляды на искусство, которые были всегда в Индии и которые только потому и не стали еще нашим достоянием, что не найдена соответствующая шастра или по крайней мере ее следы и отражение.
Мы имеем прежде всего многочисленные фактические указания на то значительное место, которое искусство, специально живопись, занимало в жизни образованного индийца с очень давних пор. Того, кто соприкасался непосредственно и теперь с подобного рода образованными людьми как Индии, так и Дальнего Востока, не могло не поразить, что у них и теперь вполне развита та грамотность, которую мы у себя пока развить не сумели, а именно графическая грамотность, главным образом выражаемая пониманием линии и громадного значения свободного обращения с нею. Кто из нас, нехудожников, обладает этой грамотностью, да и из художников нашего времени многие ли обладают ею? Если при этом для Китая и Японии эта грамотность по отношению к линии может связываться с графикою в силу характера китайского письма, то в Индии этой связи с письмом не может быть. Но грамотность книжная еще не делает человека образованным, так же и одна грамотность графическая не делает еще человека ни художником, ни даже ценителем искусства, она только в известной степени предрасполагает его к тому и другому. Потому нам необходимо показать, что из этого предрасположения получилось в действительной жизни, дабы не подвергнуться справедливому упреку в том, что мы принимаем за действительность то, что только рисовалось, причем мы настаиваем на том, что индийская литература заслуживает полного доверия как свидетель того, чем была индийская жизнь так, как ее понимали сами индийцы.
Я приступлю теперь к ознакомлению вас с некоторыми текстами, которые я снабжу моим комментарием. Начну с произведения, известного далеко за узким кругом востоковедов, с знаменитой драмы Калидасы «Шакунтала», которая, по всей вероятности, относится к первой половине V в. н. э. Сцена, которую я вам сейчас прочитаю, находится в VI акте.
Царь тоскует по отвергнутой им Шакунтале и велит принести себе ее портрет, который сам нарисовал. Пока прислужница идет за портретом, продолжается беседа царя с шутом о Шакунтале. Беседа эта подготовляет нас естественным образом к тому, что последует при рассмотрении портрета, мы чувствуем, как искусно, незаметно Калидаса создает соответствующее настроение ожидания и у действующих лиц, и у нас.
Царь (не обращая ни на кого внимания):
– Милая, сжалься надо мною, беспричинно тебя покинувшим, чье сердце сожжено раскаянием, дай мне вновь тебя увидеть.
Входит, держа в руках доску с картиною, прислужница:
– Государь, вот владычица, изображенная на картине.
Царь (взглянув):
– О, как верен замысел картины![2 - Следующий отрывок из «Шакунталы» приведен С. Ф. Ольденбургом в переводе К. Бальмонта: Калидаса. Драмы. М., 1916, с. 205–210.]
Над большими глазами изящные брови приподняты,
И от белых зубов на губах отражается свет,
Улыбается свет, рот же красен, как плод ароматнейший,
Лучезарность любви по всему разлилась лицу,
Вся картина живет, и о ней говорит для глядящего,
Это образ ее, но как будто сама она здесь.
Шут (смотря на портрет):
– Все в картине полно нежного значения. Глаза мои точно спотыкаются то тут, то там. Что больше могу сказать? Жду, чтобы она ожила и заговорила.
Мишракеши:
– Царь хороший живописец. Мне кажется, что я вижу милую девушку перед собою воочию.
Царь:
– Друг,
Если что в портрете некрасиво здесь,
то от неуменья моего,
Нечто из ее очарования
Все же воссоздал я.
Мишракеши:
– Это понятно, если любовь еще обострена раскаянием.
Царь (вздыхая):
Ее оттолкнул я с презрением,
Признать я ее не сумел,
И вот перед картиною чар ее
Терзается сердце мое.
Я путник, что был под течением
Живой многоводной реки,
И хочет напиться изжаждавшись,
В пустыне увидев мираж.
Шут:
– Я вижу на картине трех, и все они красивы очень. Кто же из них владычица Шакунтала?
Мишракеши:
– Этот бедняжка никогда не видел красоты ее. Глаза его бесполезны, ибо ни разу она не представала перед ними.
Царь:
– Ну как ты думаешь?
Шут (смотря внимательно):
– Я думаю, что вот это она, та, что касается лианы, которую она только что брызгала водой. Лицо у нее разгорячилось, и цветы падают из волос, потому что лента развязалась. Руки ее поникают, точно усталые ветви. Она распустила свой пояс и кажется несколько утомленной. Это, я думаю, и есть владычица Шакунтала, а две другие – ее подруги.
Царь:
– Ты хороший угадчик. Притом же тут рядом свидетельства моей любви.
Здесь я рукой коснулся нежно,
И краска несколько сошла
А здесь два-три пятна остались –
Следы от горьких слез моих.
Чатурика, я еще не кончил задний фон. Поди принеси мне кисти.
Девушка:
– Мадгавия, пожалуйста, подержи пока эту картину.
Царь:
– Я сам подержу ее (Держит. Девушка уходит).