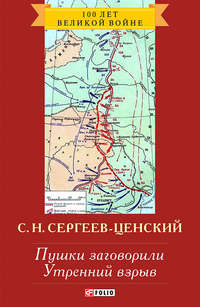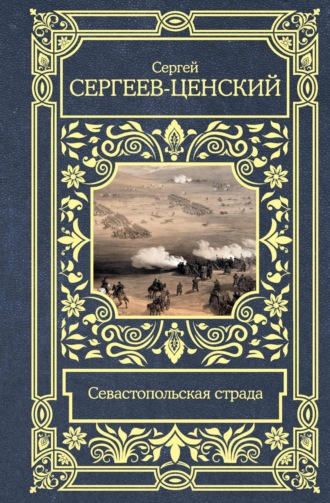
Севастопольская страда
Они сошлись, одетые в новую, залежавшуюся в их сундуках и пропахшую махоркой – от моли! – форму, очень стеснительную для них, кургузых, оплывших, привыкших к домашним халатам, и стали, выстроившись по старшинству в чинах, в шеренгу, при шпагах, а треугольные шляпы с позументом деревянно держа в неестественно вытянутых по швам руках…
Трепещущие, наполовину умершие от страха, воззрились они на огромного царя, когда губернатор услужливо отворил перед ним дверь его спальни, а Николай осмотрел внимательно всю шеренгу и сказал по-французски губернатору, милостиво улыбаясь:
– Но послушайте, ведь я их всех не только видел, а даже отлично знаю!
Губернатору была известна огромная память царя Николая на лица и фамилии, но он знал также и то, что до этого Николай никогда не был в Чембаре, и он спросил его недоуменно:
– Когда же вы изволили лицезреть их, ваше величество?
И Николай ответил, продолжая милостиво улыбаться:
– Я видел их в Петербурге, в театре, в очень смешной комедии под названием «Ревизор».
IV30 марта 1842 года Николай собрал членов Государственного совета на чрезвычайное заседание по крестьянскому вопросу.
Он вошел в зал совета одетый в блестящий конногвардейский мундир. С ним был наследник, а за великим князем Михайлом Павловичем послали нарочного.
Члены Государственного совета все были в сборе за исключением трех-четырех глубоких старцев, явно расслабленных и ни к какому передвижению не способных.
На этом собрании Николай произнес большую речь о крепостном праве, называя его «злом, для всех ощутительным и очевидным, но прикасаться к которому теперь было бы еще более гибельным делом».
Он говорил, что «никогда не решится дать свободу крепостным, так как это было бы преступным посягательством на общественное спокойствие и на благо государства. Пугачевский бунт показал, до чего может дойти буйство черни. Позднейшие попытки в таком же роде были до сих пор счастливо прекращаемы, что, конечно, и впредь будет точно так же предметом особенной и, с Божьей помощью, успешной заботливости правительства, но нельзя скрывать от себя, что теперь мысли уже не те, какие бывали прежде, и каждому наблюдателю ясно, что нынешнее положение не может длиться вечно».
В этой перемене мыслей Николай обвинял в первую голову тех либеральных помещиков, которые давали и дают образование своим крепостным и тем вообще расширяют круг понятий крестьян.
Однако, хотя и не высказываясь за уничтожение крепостного права, Николай говорил о том, что «надобно приготовить пути для постепенного перехода к другому порядку вещей и, не устрашаясь перед этой переменой, обсудить ее пользу и последствия. Не должно давать вольности, но должно проложить дорогу к переходному состоянию, а с этим связать ненарушимое охранение вотчинной собственности на землю…»
Минута была торжественная: своего грозного императора слушали старые заматерелые крепостники; он же говорил без всяких видимых усилий и без запинок: вопрос этот был им продуман, речь приготовлена заранее.
Звучный голос его – голос площадей, марсовых полей, учебных плацев – здесь, в строгом зале Государственного совета, свободно доходил до слуха даже наиболее тугоухих за преклонностью лет. Они встревоженно переглядывались иногда украдкой, стараясь угадать, как все-таки далеко способен зайти преобразовательный пыл царя и что, собственно, означает эта «дорога к переходному состоянию».
Но дальнейшая часть речи царя давала уже порядочные надежды, чтобы остаться спокойными. Николай говорил: «Невозможно ожидать, чтобы дело принялось вдруг и повсеместно, – это даже не соответствовало бы и нашим видам…»
Но самое утешительное для старцев крепостников (на собрании их было всего тридцать четыре) ждало впереди. Даже на этом торжественном заседании высших чинов и в высшем государственном учреждении самодержец не мог обойтись без острастки.
Упомянув о том, что вопросом о крестьянах долго и обстоятельно занимался особый, по его приказанию, комитет, результаты работ которого он не решился подписать без особого пересмотра их в Государственном совете, Николай заявил, что он очень недоволен болтливостью членов совета, «той публичной, естественно преувеличенной народной молвой, источники которой отношу к неуместным разглашениям со стороны лиц, облеченных моим доверием».
Боязнь гласности проявилась в полной мере и здесь. Понятно, что после таких слов царя, закончивших его получасовое выступление, наступило подобострастное молчание, и все члены совета сидели неподвижно, глядели на царя неотрывно и молчали безукоризненно верноподданно, пока это молчание не надоело самому царю: он приказал наконец прочитать выработанный комитетом проект указа о крестьянах.
Однако лишь только по предложению царя члены совета начали высказывать свои мысли, и наиболее либеральный из них – князь Голицын – сделал замечание, что если предоставить улучшение участи крестьян доброй воле помещиков, как это было сказано в прочитанном проекте указа, то никаких улучшений нельзя будет дождаться, а лучше прямо указом царя-самодержца ограничить власть помещиков, – Николай торопливо перебил его:
– Я, конечно, самодержавный и самовластный монарх, но на такую меру никогда не решусь!
Совещание это кончилось ничем. Даже восстановить трехдневную барщину, введенную было его отцом, но отмененную братом Александром, Николай не решился, хотя едва ли кто-нибудь внимательнее его читал проекты декабристов об отмене крепостного права и выслушивал их пылкие молодые показания по этому предмету на допросах.
Комитетов для рассмотрения вопроса о крепостных учреждалось еще несколько и после того, но они ни к чему не привели, а революция 48‐го года в Западной Европе совсем сняла с очереди этот вопрос при Николае.
На заседании Государственного совета 30 марта не присутствовал князь Меншиков, сославшийся на болезнь, но он боялся просто, чтобы кто-нибудь из его многочисленных врагов в совете не напомнил ему публично о либеральной выходке его в юности, когда он, совместно с графом Воронцовым, графом Потоцким, князем Вяземским, Васильчиковым и двумя братьями Тургеневыми – Николаем и Александром, подал императору Александру декларацию об освобождении крестьян.
За этот смелый шаг он, как и все прочие, подвергся опале, исключен был из службы и должен был уехать в деревню. Но теперь взгляды его настолько радикально переменились, что он даже одним своим появлением в совете не хотел вызвать у кого-либо воспоминания о своем старом либерализме. Особую докладную записку, в которой «решительно преждевременной» назвал даже и саму мысль об освобождении крестьян, Меншиков подал Николаю потом, на обычном приеме им министров.
Еще года за четыре до чрезвычайного заседания Государственного совета Николай учредил новое министерство – государственных имуществ, которое должно было ведать не крепостными, правда, а государственными крестьянами, то есть крестьянами, не принадлежавшими помещикам, и во главе министерства этого поставлен был генерал Киселев.
По мысли Николая, новое министерство должно было поднять нравственность и зажиточность государственных крестьян, а также устраивать для них школы и больницы.
Но если великое множество чиновников, которые устроились на службу в новом министерстве, и обрели для себя неплохие средства к достаточной жизни, то на крестьян лишним бременем легло содержание их; что же касается больниц, то даже и к концу царствования Николая одна лечебница приходилась на миллион крестьян, ученых же повивальных бабок было не свыше сорока на все ведомство.
Когда же Киселев начал усиленно заботиться о благосостоянии государственных крестьян и вводить среди них усовершенствованные приемы сельского хозяйства, то это привело к «картофельным» бунтам, а в Шадринском уезде Пермской губернии в 43‐м году был довольно крупный, охвативший несколько волостей бунт на почве ложных слухов, будто государственных крестьян здесь казна продала помещику.
В наследство от своего брата Александра Николай получил военные поселения, насажденные и взлелеянные Аракчеевым; жизнь этих солдат-крестьян была беспросветно несчастна. Иногда они восставали и убивали свое начальство, как это было, например, во время холерного бунта в Новгородской губернии, но их усмиряли жестоко и беспощадно.
И, однако же, все эти крестьяне – крепостные, государственные, военнопоселенцы, – забритые в солдаты по рекрутскому набору или взятые в ополчение и украшенные здесь медными крестами на картузах и шапках, защищали своею грудью в Севастополе от натиска англофранцузов военную славу России.
VКогда Николай появился на свет, бабка его Екатерина II писала о нем своему старинному корреспонденту Гримму[33]:
«Сегодня мамаша родила большущего мальчика, которого назвали Николаем. Голос у него бас, и кричит он удивительно. Длиною он аршин без двух вершков, а руки немного менее моих. В жизнь мою в первый раз вижу такого рыцаря. Если он будет продолжать, как начал, то братья его окажутся карликами перед этим колоссом!..»
Поэт Державин не замедлил предречь ему великую будущность:
Он будет, будет славен!Душой Екатерине равен!Пушкин в 1826 году, когда Николай разрешил ему выехать из Михайловского, написал известные «Стансы» – напоминание о его пращуре Петре:
Семейным сходством будь же горд,Во всем будь пращуру подобен…Однако колоссального роста и могучего голоса оказалось далеко не достаточно, чтобы стать вторым Петром. Не помогли Николаю и огромная трудоспособность и память, если и отнюдь не «незлобная», то все же, по общим отзывам современников, выдающаяся.
Петр в умственном движении вперед своего народа видел прогресс, Николай – революцию; Петр делал из пирожников министров и из простых кузнецов – королей железа и стали; Николай – из людей государственного ума и способностей делал висельников и каторжников, из даровитейших поэтов – солдат.
Его долголетняя и упорная борьба с мыслью беспримерна в русской истории. Ее он начал с первых же дней своего царствования новым «уставом цензурным».
В уставе этом было 230 параграфов. Установлен был верховный цензурный комитет из трех министров: просвещения, внутренних и иностранных дел.
При выполнении всех правил этого устава литература русская могла существовать, только едва дыша.
Но после европейской революции 30‐го года петля цензуры затянулась гораздо туже.
Николай, как и во всех областях управления, стремился делать все лично и в этой области.
Он не только был цензором Пушкина, а находил время быть строжайшим цензором решительно всей тогдашней – правда, поневоле небогатой – литературы, особенно журнальной. Ходатайства о разрешении на издание новых журналов или газет шли непосредственно к нему, и он клал большей частью резолюцию краткую, но выразительную: «Не нужно!»
Журнал Киреевского «Европеец» запрещен был с первой же книжки за статью его «19-й век»; запрещена была «Литературная газета» Дельвига; запрещен журнал «Телескоп» Надеждина, причем сам Надеждин сослан в Усть-Сысольск за помещение «Философического письма» Чаадаева, который по царскому приказу объявлен был сумасшедшим…
Цензоров, пропустивших те или иные не одобренные царем статьи, сажали на долгие сроки на гауптвахту. Даже о дороговизне извозчичьих такс нельзя было писать в газете, так как это принималось за порицание действий полиции, составлявшей таксы. Лиц, заведовавших цензурой, было гораздо больше, чем всех книг, выпущенных в царствование Николая.
Когда начала строиться железная дорога между столицами и появились первые робкие статьи об этом в газетах, Клейнмихель испросил у Николая разрешения, чтобы все, что пройдет через цензуру по этому предмету, шло потом к нему на утверждение и без его ведома не печаталось.
Служащие военного и гражданского ведомств ничего не смели отправлять в печать без разрешения на то своего начальства. Гласности боялись как источника революции.
Могли быть миллионные хищения; губернаторы могли буквально грабить откупщиков и купцов; десятки тысяч людей могли умирать от голода, как это было в ряде губерний в исключительно неурожайный 1840 год, – ни слова об этом нельзя было помещать в газете.
А один из цензоров не пропустил даже такой строчки в учебнике географии Ободовского: «На севере России ездят на собаках». Он написал на полях книги: «Как будто в России не хватает лошадей! И что подумают об этом иностранцы?»
Литература русская была разгромлена. Погибли Грибоедов, Пушкин, Полежаев, Марлинский… Когда был убит на дуэли Лермонтов, Николай сказал: «Собаке собачья и смерть!» Ямская тройка с жандармами увезла в Вятку Салтыкова-Щедрина, который и пробыл там семь с лишком лет; угас Гоголь; за статью на его смерть был засажен под арест Тургенев, а через месяц отправлен в свое имение без права выезда оттуда куда бы то ни было; на каторге изнывал Достоевский; в эмиграцию ушли Герцен и Огарев; десять лет томился в Орской крепости, в Оренбургском крае, Шевченко, живописно-насмешливо сказавший о той эпохе, в какую пришлось ему жить:
От молдаванина до финна —На всех языках все молчит,Бо благоденствует!Николай процарствовал лет тридцать, а заморозил Россию на шестьдесят.
Глава вторая
Другой самодержец
IВ 1829 году, когда длилась еще война с Турцией, на русскую службу в армию Дибича хотел поступить волонтером двадцатилетний принц Луи Наполеон, племянник Наполеона I, сын бывшего короля Голландии Людовика, брата Наполеона, и падчерицы Наполеона – Гортензии Богарне.
Когда доложили об этом желании молодого принца Николаю, он отказал наотрез – даже топнул при этом ногою от возмущения: он вообще не выносил напоминания о ком бы то ни было из наполеонидов.
Луи Наполеон рос при матери, вполне унаследовав от пылкой креолки склонность к безбрежным фантазиям при внешнем спокойствии, чудовищный эгоизм при самом любезном обхождении с окружающими, решительность замыслов, не всегда связанную с решительностью действий.
Гортензия Богарне получила воспитание в светском Сен-Жерменском институте, где основным предметом было l’art de plaire – искусство нравиться; это искусство она постигла вполне, его же передала и своему сыну.
Между прочим она имела и талант к живописи и занималась ею под руководством знаменитого художника Изабе. Отец же Луи Наполеона тоже увлекался искусством и литературой, писал стихи, романы, кое-что из истории фамилии Бонапартов и прочее. Это тоже передалось будущему императору Франции.
Впрочем, муж Гортензии, Людовик, не считал Луи Наполеона за своего сына: он даже не приехал к его родинам и крестинам. Как настоящего и подлинного отца Луи Наполеона ему называли Деказа, будущего министра полиции, с которым познакомилась Гортензия, будучи одна на водах в Котере, в Пиренеях.
Впоследствии, разойдясь уже с мужем, Гортензия родила еще сына от графа Флахо; этот побочный брат Луи Наполеона стал известен под именем графа Морни и деятельно помогал своему брату Луи взобраться на престол Франции.
Николаю было тогда восемнадцать-девятнадцать лет, когда он, сопровождая своего старшего брата, победителя Наполеона, был в Париже в 1814 году. Он видел тогда и Гортензию, старавшуюся – и не без успеха – вскружить голову мягкосердечному Александру, и ее шестилетнего сынишку – Шарля Луи Наполеона. Он гостил даже вместе с братом в ее имении Сен-Ле, где, окончательно очарованный Гортензией и ее умением петь под игру на арфе романсы, причем и слова этих романсов и музыка к ним были сочинены ею, Александр обещал ей титул герцогини Сен-Ле, чего, конечно, без труда добился от Людовика XVIII Бурбона, им же и посаженного на французский престол на место отрекшегося и сосланного на Эльбу Наполеона.
Передавая лично патент на герцогство Сен-Ле Гортензии, к которой заехал по пути в Англию, Александр поручил секретарю русского посольства особую заботу о денежных делах герцогини и приказал сообщать непосредственно ему, если возникнут затруднения для нее в этих делах.
Такая забота о дочери Наполеона (которому вздумалось удочерить свою падчерицу, бывшую всего на четырнадцать лет моложе его) очень не нравилась юному Николаю.
Гортензия же, освободившись от всякой опеки со стороны своих близких (мать ее, Жозефина Богарне, первая жена Наполеона, неожиданно умерла), во всю ширь развернула свои познания в основном предмете аристократического Сен-Жерменского института, применяя их сразу в отношении нескольких венценосцев и их наиболее видных государственных деятелей.
Даже и сам Людовик XVIII был так очарован ею, что кое-кто советовал ему добиться ее развода с мужем и на ней жениться.
Однако, увлекаясь устройством своих личных дел, она забывала, что осталась единственной высокопоставленной бонапартисткой в Париже. Об этом ей часто напоминал муж в своих письмах, об этом ей напоминали немногие бонапартисты, приходившие к ней, чтобы пристыдить «дочь Наполеона», предавшуюся его врагам. Наконец, случилось то, чего она не ожидала: бежавший с Эльбы Наполеон появился в Париже, и Гортензия как ни в чем не бывало помчалась к нему. Теперь она была снова дочерью Наполеона.
Однако названый отец принял ее сурово. Он говорил ей, что она действовала позорно, вымаливая титул и земли у его победителей; он ужасался, как могла она даже вообще о чем бы то ни было говорить с его врагами…
Гортензия тихо плакала и молчала. Что могла она сказать в свое оправдание? Сильная в нескольких искусствах, она хорошо знала только одну науку – нравиться, и жизненный опыт ее доказывал ей на каждом шагу, что это самая полезная из наук. Единственное, что она могла сказать, наконец, – это о будущности двух детей, за которых она болела сердцем.
Но тут огромная толпа, собравшись под окнами дворца, кричала все громче и громче приветствия Наполеону, еще не вполне доверяя слухам о его возвращении с Эльбы, и он, сорвав с места рыдающую Гортензию и грозно приказав ей мгновенно осушить потоки слез и начать очаровательно улыбаться, появился рядом с ней в окне. Народ принял ее за Марию Луизу, народ снова видел императора в его спокойной семейной обстановке – все было в порядке, народ заревел от восторга.
Наполеон примирился с Гортензией: в королевском дворце Тюильри[34] нужна была хозяйка для приемов, так как жена Наполеона Мария Луиза бежала из Франции. Гортензия и стала этой хозяйкой на все сто дней новой наполеонады вплоть до конца ее при Ватерлоо.
Новое и явно непоправимое уже падение Наполеона заставило Гортензию выехать из Парижа, так как союзники отнеслись к ней теперь как к ярой бонапартистке, и она действительно впоследствии стала ею: культ Наполеона воцарился в замке Арененберг, в швейцарском кантоне Тургау, где она после долгих мытарств поселилась прочно.
В этом скромном замке сформировалась довольно сложная личность будущего противника Николая.
Если существует в богатой копилке человеческих типов этот странный тип заговорщика от молодых когтей, глядящего кругом подозрительно и исподлобья, не доверяющего не только своим близким, но и самому себе, зорко следящего за каждым своим движением, чутко слушающего каждое свое слово, то именно таким прирожденным заговорщиком и был в свои молодые годы принц Шарль Луи Наполеон.
IIСтаршего своего сына отобрал у Гортензии по суду Людовик Бонапарт и увез во Флоренцию, так что все материнские заботы ее сосредоточились только на Луи.
В доме матери еще при жизни ее в Париже маленький Луи видел только наиболее знаменитых людей своего времени. Как м-м Рекамье[35] или Сталь[36], имевшие свои салоны, Гортензия стремилась привлекать к себе в дом людей, о которых говорил Париж. Среди них были не только наполеоновские генералы и полковники, но иногда и писатели, художники, композиторы, даже ученые, которые как истые французы умели быть интересными в разговоре с хозяйкой дома, несмотря на свою ученость.
С тех пор как Гортензии предложено было выехать из Парижа и она попала под надзор дипломатических агентов Священного союза, переезжая из города в город, она поняла, что время пения романсов под аккомпанемент арфы и время акварельных этюдов и автопортретов в манере ее учителя живописи Изабе прошло надолго, если не навсегда.
По иронии судьбы категорический приказ короля Людовика XVIII о немедленном выезде из Парижа ей привез тот самый Деказ, которого молва называла отцом Луи.
Из иных городов ей приказывали выехать уже через два часа после приезда. Она была доведена этим до такого отчаяния, что говорила не раз: «Мне остается только броситься в озеро!»
Так усиленно считали ее ярой бонапартисткой, что ей ничего больше и не оставалось, как сделаться ею. И вместо былых поэтов и художников ее стали окружать исключительно бонапартисты.
Однако в 1821 году Наполеон умер в своем заточении. Казалось бы, с его смертью должна была умереть и бонапартистская идея. Нет, она питалась надеждами на сына Наполеона от Марии Луизы, на рождение которого поэты того времени написали тысячу триста стихотворений.
Провозглашенный еще в колыбели римским королем, сын Наполеона назывался теперь скромнее – герцогом Рейхштадтским, жил вместе с матерью при дворе императора Австрии Франца.
И, признавая его первым претендентом на французский престол, Гортензия внушала своему сыну, что второй и совершенно бесспорный претендент – он.
Внушение – великая вещь; из заядлого труса оно может сделать героя, из Альдонсы[37] – Дульцинею, а принц Луи Наполеон был от природы больших способностей. Ему не нужно было сомневаться в том, что он принц: он был принцем; ему не нужно было сомневаться и в том, что он Наполеон: это было его имя; ему оставалось только силой или хитростью пробиться к престолу Франции: это он и сделал целью всей своей жизни.
История народов представлялась ему в свете сказочной судьбы его дяди, которому казалось, что он все смеет и все может, и потому он сделался тем, кем хотел, – покорителем Европы.
Фееричность и блеск его карьеры, несмотря на печальные последние шесть лет его жизни, буквально ослепляли Луи. Ничего, кроме этого, не видел он ни позади, ни впереди истории. История же прельщала его только своим драматизмом, шумихой войн, сильными жестами. Как и дядя его, он обучался артиллерии, как и дядя его, он верил в свою звезду.
И если отец его в его годы писал сонеты, если даже его идеал – дядя Наполеон I – написал пьесу «Граф Эссекс», то он, возвратясь из Италии после подавления восстания, в котором участвовал вместе с братом, написал книжку «Политические мечтания» и продолжал заниматься артиллерией в Туне в Бернском кантоне.
Брата он потерял: тот умер от какой-то болезни, которой не переболел в детстве. Теперь исключительно на нем одном сосредоточились смутные, но тем не менее сильные надежды Гортензии.
Июльская революция в Париже изгнала Бурбонов; престол перешел к Орлеану, Луи Филиппу. С английскими паспортами для себя и сына Гортензия отважилась явиться в Париж, повидаться с новым королем. Тот принял ее ласково, но попросил все-таки скрывать свой приезд с сыном.
Однако Гортензия отнюдь не хотела делать из этого тайны. Она устраивала совершенно открыто свои денежные дела, показывала теперь уже взрослому сыну все то великолепие, которое он видел только в детстве и которое «по праву», в чем она не переставала убеждать Луи, должно было принадлежать ему, а принадлежало Орлеанам. Наконец, ей предложили выехать из Франции.
Между тем началась революция в Польше, и горячая голова Гортензии переполнилась мечтаниями о польском троне, который пока мог бы занять ее сын. Но революция в Польше была раздавлена войсками Паскевича, Варшава взята.
Временно можно бы было успокоиться двум «политическим мечтателям» – матери и сыну. Но вот неожиданно умирает в Вене болезненный сын Наполеона, герцог Рейхштадтский, и для Гортензии стало как нельзя более ясно, что теперь единственный претендент на престол Франции ее сын.
Но к престолу нужно было идти уверенными шагами, и беспокойная мысль Луи стала усиленно работать над планом военного переворота.
Он хорошо изучил истории всех вообще переворотов и отлично понимал, что стоило ему только овладеть Парижем, и он овладел бы всей Францией. Однако пробраться в Париж не представлялось возможным: там его хорошо за последний приезд рассмотрела полиция. Был выбран большой город в Эльзасе – Страсбург, был разработан план военного восстания. Гортензия сначала испугалась такой затеи сына, но ведь она так же верила в его счастливую звезду, как и он сам. Она согласилась, наконец, с его планом, тем более что время шло, она старела, Луи шел уже двадцать восьмой год.
А между тем единственным человеком, на кого мог рассчитывать Луи, был полковник артиллерии Водре, который только своих подчиненных мог убедить в том, что в Париже произошла революция, что Луи Филипп свергнут с престола, а нового императора, племянника великого Наполеона, они скоро увидят в Страсбурге и в артиллерийской казарме.
И принц Луи Наполеон действительно явился, в сером сюртуке и треугольной шляпе – историческом костюме своего дяди, несколько загримированный под Наполеона I для полноты иллюзии и с теми немногими орденами на сюртуке, которые обычно сопутствовали изображениям корсиканца.