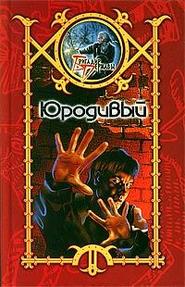По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Покушение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Такого откровенно небрежного признания он от меня никак не ожидал.
– Вы – крестьянкой? Так это правда? – не удивился, а скорее испугался он. – То есть, вы хотите сказать, что вы… были?.. Ну, я хочу сказать…
– Именно. Я была крепостной крестьянкой, иначе говоря – холопкой, и умею доить коров, – спокойно ответила я. – Вы знаете, что такое корова?
– Корова? – глупо переспросил он. – Это, кажется, такое животное?
– Совершенно справедливо, для флигель-адъютанта вы удивительно сообразительны, – подтвердила я, демонстративно теряя к нему всякий интерес.
Татищев вспыхнул, хотел ответить резкостью, но вовремя сдержался. Кажется, только теперь он посмотрел на меня с интересом. Однако я отстраненно смотрела в окно и не обращала на него внимания.
Ну, погоди, чертовка, сердито подумал он, я покажу тебе, как надо мной смеяться! Ничего, посмотрим, что ты запоешь ночью! Тогда-то я с тобой поговорю по-другому!
– И каково это – доить коров? – стараясь, чтобы голос звучал ровно и бесстрастно, спросил он. – Кажется, они ужасно плохо пахнут?
– Так же как и люди, когда сильно потеют и плохо моются, – не оглядываясь, ответила я.
Для нежного флигель-адъютанта намека оказалось достаточно, и он незаметно отодвинулся от меня на самый край сидения.
Дальше мы ехали молча. Он тихо меня ненавидел и придумывал самые язвительные замечания, но вслух их не произносил. Мне было забавно наблюдать, как его недоброжелательный интерес ко мне все возрастает. Это и не удивительно, для столичного аристократа было необычно, что его таким образом ставит на место мужичка. Наконец Татищеву надоело вести со мной внутренний монолог. Он решил смилостивиться, и снисходительно, спросил:
– Я слышал, вы недавно вышли замуж?
– Да, – подтвердила я, – за очень достойного человека, причем безо всяких сомнительных предков.
От такой оплеухи Иван Николаевич очухался не сразу, а когда придумал, как мне достойно ответить, я повернулась к нему и с ласковой улыбкой спросила по-французски:
– А вы, Иван Николаевич, любите балы? Говорят, что они в этом сезоне в Петербурге не модны?
Он смешался, посмотрел на меня, как на чудо морское, и пробурчал себе под нос что-то совершенно невнятное. Я ничего не заметила и продолжала ласково ему улыбаться.
– Да, государь не любит праздных развлечений, – наконец смог придумать он хоть какой-то ответ. – Дворяне должны выполнять свой долг и служить престолу, а не выплясывать на балах. Хотя он иногда и сам присутствует на придворных вечерах.
Хотите, я расскажу вам пару забавных анекдотов…
– Да, конечно, только как-нибудь в другой раз, когда у нас с вами будет общий досуг, – ответила я.
Анекдоты, которые он решил мне рассказать, я прочитала в его мыслях, они были не слишком остроумны и приличны. Флигель-адъютанта опять споткнулся на полуслове и окончательно рассердился.
– Воля ваша, – надменно заявил он, отвернулся и начал смотреть в окно.
Я не стала ему мешать и занялась своими проблемами. Мой арест был непонятен и нелогичен. Правда, пока он не нес угрозу жизни, а только женской чести, лишить которой меня все больше хотел Иван Николаевич, но, тем не менее, когда мы доберемся до Петербурга, как там сложится моя судьба, я не знала.
Случись со мной такое несчастье еще месяц назад, до того, как я научилась проникать в чужие мысли и черпать из них информацию, я, несомненно, сошла бы с ума от страха, рыдала с утра до ночи и, кланяясь блестящему графу в пояс, величала его не иначе, как «батюшкой-барином».
Теперь, благодаря знаниям, почерпнутым у мужа, человека совсем другой эпохи, я совсем иначе представляла себе жизнь и отношения между людьми. Может быть, именно поэтому так легко и непринужденно обращалась с самоуверенным флигель-адъютантом.
А он, между тем, сердито смотрел в окно кареты и клялся сам себе, что как только ему перекуют лошадь, сразу же пересядет в седло и перестанет меня замечать. Вот тогда-то я пойму, как много потеряла, не ответив на его искренние и невинные знаки внимания. После того, как Татищев окончательно решил больше со мной не разговаривать, неожиданно для самого себя спросил:
– Вы мне давеча сказали, что вы крестьянка, откуда тогда ваш прекрасный французский?
– А что, разве французские крестьяне разговаривают по-русски?
– Но вы же отнюдь не француженка, а совсем наоборот, русская! – довольный собственной проницательностью, уличил он меня в нелогичности и сам рассмеялся шутке.
– Вы полагаете? – ответила я, и мы засмеялись вместе.
Тотчас в оконце кареты возникла мужская голова в медном шлеме, и к нам в карету заглянул штабс-ротмистр Вяземский. Ему было скучно и он искал повод хоть как-то рассеяться.
– Иван Николаевич, что-нибудь случилось? – спросил он Татищева.
– Да вот, Алевтина Сергеевна говорит, что французские крестьяне не могут говорить по-русски, – продолжая смеяться, ответил тот.
Вяземский глубокомысленно сморщил нос, и, не поняв, что я сказала смешного, меня поддержал.
– А откуда бы им знать русский язык, если они французы?
Теперь мы смеялись втроем, причем безо всякого повода. Просто мы были молоды, и от того нам стало весело.
– А как, голубушка, вы меня остро подцепили с предком, – отсмеявшись и с удовольствием глядя на меня, добродушно заговорил Иван Николаевич, – ведь, правда ваша, тать – слово ругательное.
После этого разговора наши отношения наладились, и флигель-адъютант больше не смотрел на меня, как на провинциальную дурочку и легкую добычу. Конечно, обо мне, как о женщине, он думать не перестал, но тут уж ничего не поделаешь, видно, такова наша печальная женская доля и их мужская сущность. Однако делал он теперь это не грубо, а даже с известной деликатностью, как о приятной мечте.
Между тем жара все усиливалась, и к трем часам пополудни стало так душно, что в нагревшейся на солнце карете стало решительно нечем дышать. Теперь уже не только Ивана Николаевича можно было укорить за потный запах. Я сама чувствовала, что самое большое удовольствие, которое я могла сейчас получить, это купание в прохладной реке.
– Бедные кирасиры, им в медных доспехах сейчас совсем плохо, – сказала я, обмахивая лицо платком покойного Ломакина. – Почему они их не снимут, на нас же не собирается напасть никакой враг?
– Такое совершенно невозможно, – серьезно объяснил Иван Николаевич, – военные должны легко сносить тяготы службы. Форма их полка такова и ее нельзя менять по своему произволению.
– А ежели нам встретится река, им можно будет в ней купаться?
Флигель-адъютант задумался, сам не нашел ответа и подозвал в окно Вяземского. Тот поехал рядом, пригнулся к холке коня, заглядывая обветренным и загорелым до красноты лицом в карету.
– Денис Александрович, – спросил его Татищев, – кирасирам во время похода купаться дозволено?
– Купаться? – озадачено, переспросил Вяземский. – Не припомню такого параграфа в новом кавалерийском уставе. Да и где здесь купаться, когда кругом одно поле!
– А если нам встретится река? – вмешалась в разговор я.
– Если глубокая, то дозволено, – с улыбкой, подсказал командиру совсем юный корнет. – Мы сами можем и не купаться, а просто помыть в ней лошадей.
– Да, жара стоит чрезвычайная, – пожаловался флигель-адъютант, – как бы ни начались лесные пожары.
На этом разговор оборвался. Я откинулась на спинку дивана и попыталась хоть ненадолго вздремнуть. Иван Николаевич смотрел на меня с сочувствием и, чего уж таить, с нежностью. Думал он о том, как мне тяжело переносить дальнюю дорогу, жару и искренне желал, чтобы нам встретилась деревня, в которой можно было бы переждать зной. Однако крутом, сколько хватало взгляда, простирались заросшие кустарником пустоши, и не было никаких признаков человеческих поселений.
– Алевтина Сергеевна, не желаете ли попить водицы? – спросил Татищев, лишь только я открыла глаза.
– Нет, благодарю вас, Иван Николаевич, я предпочитаю терпеть, чтобы не дразнить жажду, – ответила я.
– Вы – крестьянкой? Так это правда? – не удивился, а скорее испугался он. – То есть, вы хотите сказать, что вы… были?.. Ну, я хочу сказать…
– Именно. Я была крепостной крестьянкой, иначе говоря – холопкой, и умею доить коров, – спокойно ответила я. – Вы знаете, что такое корова?
– Корова? – глупо переспросил он. – Это, кажется, такое животное?
– Совершенно справедливо, для флигель-адъютанта вы удивительно сообразительны, – подтвердила я, демонстративно теряя к нему всякий интерес.
Татищев вспыхнул, хотел ответить резкостью, но вовремя сдержался. Кажется, только теперь он посмотрел на меня с интересом. Однако я отстраненно смотрела в окно и не обращала на него внимания.
Ну, погоди, чертовка, сердито подумал он, я покажу тебе, как надо мной смеяться! Ничего, посмотрим, что ты запоешь ночью! Тогда-то я с тобой поговорю по-другому!
– И каково это – доить коров? – стараясь, чтобы голос звучал ровно и бесстрастно, спросил он. – Кажется, они ужасно плохо пахнут?
– Так же как и люди, когда сильно потеют и плохо моются, – не оглядываясь, ответила я.
Для нежного флигель-адъютанта намека оказалось достаточно, и он незаметно отодвинулся от меня на самый край сидения.
Дальше мы ехали молча. Он тихо меня ненавидел и придумывал самые язвительные замечания, но вслух их не произносил. Мне было забавно наблюдать, как его недоброжелательный интерес ко мне все возрастает. Это и не удивительно, для столичного аристократа было необычно, что его таким образом ставит на место мужичка. Наконец Татищеву надоело вести со мной внутренний монолог. Он решил смилостивиться, и снисходительно, спросил:
– Я слышал, вы недавно вышли замуж?
– Да, – подтвердила я, – за очень достойного человека, причем безо всяких сомнительных предков.
От такой оплеухи Иван Николаевич очухался не сразу, а когда придумал, как мне достойно ответить, я повернулась к нему и с ласковой улыбкой спросила по-французски:
– А вы, Иван Николаевич, любите балы? Говорят, что они в этом сезоне в Петербурге не модны?
Он смешался, посмотрел на меня, как на чудо морское, и пробурчал себе под нос что-то совершенно невнятное. Я ничего не заметила и продолжала ласково ему улыбаться.
– Да, государь не любит праздных развлечений, – наконец смог придумать он хоть какой-то ответ. – Дворяне должны выполнять свой долг и служить престолу, а не выплясывать на балах. Хотя он иногда и сам присутствует на придворных вечерах.
Хотите, я расскажу вам пару забавных анекдотов…
– Да, конечно, только как-нибудь в другой раз, когда у нас с вами будет общий досуг, – ответила я.
Анекдоты, которые он решил мне рассказать, я прочитала в его мыслях, они были не слишком остроумны и приличны. Флигель-адъютанта опять споткнулся на полуслове и окончательно рассердился.
– Воля ваша, – надменно заявил он, отвернулся и начал смотреть в окно.
Я не стала ему мешать и занялась своими проблемами. Мой арест был непонятен и нелогичен. Правда, пока он не нес угрозу жизни, а только женской чести, лишить которой меня все больше хотел Иван Николаевич, но, тем не менее, когда мы доберемся до Петербурга, как там сложится моя судьба, я не знала.
Случись со мной такое несчастье еще месяц назад, до того, как я научилась проникать в чужие мысли и черпать из них информацию, я, несомненно, сошла бы с ума от страха, рыдала с утра до ночи и, кланяясь блестящему графу в пояс, величала его не иначе, как «батюшкой-барином».
Теперь, благодаря знаниям, почерпнутым у мужа, человека совсем другой эпохи, я совсем иначе представляла себе жизнь и отношения между людьми. Может быть, именно поэтому так легко и непринужденно обращалась с самоуверенным флигель-адъютантом.
А он, между тем, сердито смотрел в окно кареты и клялся сам себе, что как только ему перекуют лошадь, сразу же пересядет в седло и перестанет меня замечать. Вот тогда-то я пойму, как много потеряла, не ответив на его искренние и невинные знаки внимания. После того, как Татищев окончательно решил больше со мной не разговаривать, неожиданно для самого себя спросил:
– Вы мне давеча сказали, что вы крестьянка, откуда тогда ваш прекрасный французский?
– А что, разве французские крестьяне разговаривают по-русски?
– Но вы же отнюдь не француженка, а совсем наоборот, русская! – довольный собственной проницательностью, уличил он меня в нелогичности и сам рассмеялся шутке.
– Вы полагаете? – ответила я, и мы засмеялись вместе.
Тотчас в оконце кареты возникла мужская голова в медном шлеме, и к нам в карету заглянул штабс-ротмистр Вяземский. Ему было скучно и он искал повод хоть как-то рассеяться.
– Иван Николаевич, что-нибудь случилось? – спросил он Татищева.
– Да вот, Алевтина Сергеевна говорит, что французские крестьяне не могут говорить по-русски, – продолжая смеяться, ответил тот.
Вяземский глубокомысленно сморщил нос, и, не поняв, что я сказала смешного, меня поддержал.
– А откуда бы им знать русский язык, если они французы?
Теперь мы смеялись втроем, причем безо всякого повода. Просто мы были молоды, и от того нам стало весело.
– А как, голубушка, вы меня остро подцепили с предком, – отсмеявшись и с удовольствием глядя на меня, добродушно заговорил Иван Николаевич, – ведь, правда ваша, тать – слово ругательное.
После этого разговора наши отношения наладились, и флигель-адъютант больше не смотрел на меня, как на провинциальную дурочку и легкую добычу. Конечно, обо мне, как о женщине, он думать не перестал, но тут уж ничего не поделаешь, видно, такова наша печальная женская доля и их мужская сущность. Однако делал он теперь это не грубо, а даже с известной деликатностью, как о приятной мечте.
Между тем жара все усиливалась, и к трем часам пополудни стало так душно, что в нагревшейся на солнце карете стало решительно нечем дышать. Теперь уже не только Ивана Николаевича можно было укорить за потный запах. Я сама чувствовала, что самое большое удовольствие, которое я могла сейчас получить, это купание в прохладной реке.
– Бедные кирасиры, им в медных доспехах сейчас совсем плохо, – сказала я, обмахивая лицо платком покойного Ломакина. – Почему они их не снимут, на нас же не собирается напасть никакой враг?
– Такое совершенно невозможно, – серьезно объяснил Иван Николаевич, – военные должны легко сносить тяготы службы. Форма их полка такова и ее нельзя менять по своему произволению.
– А ежели нам встретится река, им можно будет в ней купаться?
Флигель-адъютант задумался, сам не нашел ответа и подозвал в окно Вяземского. Тот поехал рядом, пригнулся к холке коня, заглядывая обветренным и загорелым до красноты лицом в карету.
– Денис Александрович, – спросил его Татищев, – кирасирам во время похода купаться дозволено?
– Купаться? – озадачено, переспросил Вяземский. – Не припомню такого параграфа в новом кавалерийском уставе. Да и где здесь купаться, когда кругом одно поле!
– А если нам встретится река? – вмешалась в разговор я.
– Если глубокая, то дозволено, – с улыбкой, подсказал командиру совсем юный корнет. – Мы сами можем и не купаться, а просто помыть в ней лошадей.
– Да, жара стоит чрезвычайная, – пожаловался флигель-адъютант, – как бы ни начались лесные пожары.
На этом разговор оборвался. Я откинулась на спинку дивана и попыталась хоть ненадолго вздремнуть. Иван Николаевич смотрел на меня с сочувствием и, чего уж таить, с нежностью. Думал он о том, как мне тяжело переносить дальнюю дорогу, жару и искренне желал, чтобы нам встретилась деревня, в которой можно было бы переждать зной. Однако крутом, сколько хватало взгляда, простирались заросшие кустарником пустоши, и не было никаких признаков человеческих поселений.
– Алевтина Сергеевна, не желаете ли попить водицы? – спросил Татищев, лишь только я открыла глаза.
– Нет, благодарю вас, Иван Николаевич, я предпочитаю терпеть, чтобы не дразнить жажду, – ответила я.