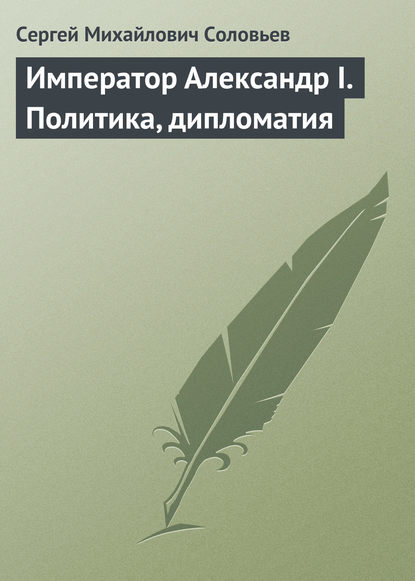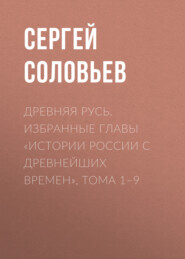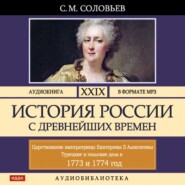По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Император Александр I. Политика, дипломатия
Год написания книги
1877
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но есть еще другая сила вне Франции: это Талейран. Фуше уверяет, что он возвращает Бурбонов и должен удержать за это при них первенствующее значение. Талейран также хочет иметь первенствующее значение: он в прошлом году настоял на возвращении Бурбонов; он в Вене поднял значение Франции, без него Людовик XVIII со своим любимцем Блака, со своими эмигрантами наделал множество ошибок и потерял престол; он, Талейран, устроил новую коалицию против Наполеона, он поддерживал Бурбонов; Людовик XVIII возвратится теперь снова по его милости и, чтобы удержаться на престоле, должен подчиниться вполне его руководству, чтобы не было при дворе никакого другого влияния. На другой день после Ватерлооской битвы Талейран приехал в Брюссель, возвращаясь из Вены; он остановился здесь, не поехал к королю в Гёнт, явился особою, самостоятельной силой, с которой Людовик XVIII должен был договариваться. Талейран сейчас же стал разглашать условия договора: катастрофа 20 марта была прямым результатом ошибок некоторых министров, особенно Блака, прямым результатом действия эмигрантов, которыми окружил себя граф Артуа; Блака должен быть удален; министры должны действовать заодно и отвечать друг за друга; должно быть провозглашено всепрощение; людям и интересам революции должна быть дана полная безопасность. Талейран говорил, что королю нельзя возвратиться в Париж прямой дорогой чрез северные департаменты, вслед за иностранными войсками; что ему надобно явиться в южных областях, где народонаселение более предано Бурбонам, здесь окружить себя французами и, таким образом, заставить иностранцев уважать в себе независимую силу.
Но Веллингтон дал знать королю, что ему выгодно приблизиться к северной французской границе, 22-го июня Людовик XVIII оставил Тент и приехал в Монц в одно время с Талейраном; но последний и тут не поспешил представиться королю, занял дом на противоположном конце города, начал принимать посетителей и говорить с ними без всякой сдержанности о текущих событиях. Король не приглашал Талейрана, а между тем главное условие его было исполнено: Блака удален, потому что против любимца были и либералы, и эмигранты; первые требовали удаления человека, который, по их мнению, оттягивал короля к старой Франции; эмигрантам Блака мешал своей самостоятельностью: они надеялись без него совершенно овладеть слабым королем; со всех сторон кричали, что Блака страшно непопулярен во Франции; что с ним нельзя возвратиться. Блака подал в отставку и назначен был посланником в Неаполь. Людовик XVIII плакал на расставании со своим другом, который очень хорошо понимал старика. «Первые дни, – говорил Блака, – он обо мне потоскует, но скоро привыкнет без меня обходиться, скоро привыкнет к другому».
У Людовика XVIII недостало твердости удержать Блака; но у него достало твердости не послать за Талейраном, а Талейран не знал, в чем король слаб и в чем тверд. Составлялось новое министерство, а за Талейраном не посылали. Поццо-ди-Борго, Шатобриан и другие, считавшие в это время нужным иметь Талейрана в министерстве и его влиянием уравновешивать влияние графа Артуа с эмигрантами, уговаривали Талейрана ехать к королю: «Если вы не поедете, то он не станет вас дожидаться, уедет из Монса». Талейран улыбался. Это было вечером, а ночью ему дают знать, что король велел приготовить лошадей к четырем часам утра. Тут лицо знаменитого дипломата приняло другое выражение, улыбка исчезла; Талейран спешит одеться и скорее к королю. Тот принял его как победитель, и, быть может, ни один полководец так не торжествовал своей победы, решавшей судьбу царств, как Людовик XVIII торжествовал победу над Талейраном; он дал вполне почувствовать побежденному всю тяжесть поражения. Чтобы поправиться, сломить гордость победителя, Талейран грозит покинуть службу, просит позволения ехать в Карлсбад. «Карлсбадские воды превосходны, – отвечает король, – они вам очень помогут, до свидания!» Король уехал.
Выдержал, а Талейран все же остался министром, остался точно таким же образом, как Блака был удален: и свои, а главное, чужие, Поццо-ди-Борго, Веллингтон, представили необходимость удержать Талейрана, который и получил приказание вместе с другими министрами, остававшимися в Монсе, приехать к королю. Письмо от Веллингтона: советует ехать; и Талейран едет, в Камбрэ представляется королю и принимается благосклонно; ни слова о том, что было в Монсе. Но теперь пришла очередь Талейрану трубить победу: он убеждает министров, что королю при вступлении во Францию необходимо издать прокламацию, где он должен сознаться в своих ошибках и дать обещание исправиться. Прокламация написана; ее читают в Совете, где присутствуют принцы. Граф Артуа жалуется на унижение, которому хотят подвергнуть короля, заставляя его просить прощения в прошлых ошибках и обещать, что впредь не повторит их.
В прокламации говорится, что король был увлечен своими привязанностями. «Не хотят ли здесь указать на меня?» – спрашивает граф Артуа. «Да, – отвечает Талейран. – Вы сделали много зла». «Князь Талейран забывается», – говорит граф Артуа. «Быть может, я и забываюсь, но правда выше всего», – отвечает Талейран. «Только присутствие короля меня сдерживает, – кричит герцог Беррийский. – Иначе я не позволил бы никому так обращаться с моим отцом». Король спешит утишить бурю: объявляет, что ему одному принадлежит право судить о том, что говорится в его присутствии; что он не может одобрить ни прокламации, ни спора, который произошел по ее поводу; что надобно изменить ее. Составили новую прокламацию, которую король одобрил; но и в ней король признавал, что, может быть, сделаны ошибки, потому что бывают трудные времена, когда самые чистые намерения не могут направить на путь истинный; один опыт может научить, и он не будет потерян.
Король обещал, что отныне министры будут действовать заодно; уверял владельцев национальных имуществ (прежних церковных и эмигрантских), что приобретенная ими собственность неприкосновенна; обещал прощение тем французам, которые были увлечены другими к измене, но исключал из прощения главных виновников преступления. Партия графа Артуа была недовольна прокламацией: программа Талейрана была в ней слишком явна; не были довольны и те, которых именно хотелось удовольствовать, не были довольны исключениями из амнистии. Не прокламация прокладывала дорогу Бурбонам ко вторичному возвращению: как в прошлом году, так и теперь прокладывали им дорогу иностранные войска, которых государи считали возвращение Бурбонов простейшим разрешением трудного вопроса; и чем далее входили иностранные войска во внутренность Франции, тем биржевой барометр поднимался все более и более, и Париж оживился по-прежнему – самый верный знак, что Людовик XVIII поселится опять в Тюльери. Остатки императорских войск пошумели было против Бурбонов, представив на вид палатам, что войско было оскорблено Бурбонами, что ему нельзя с ними ужиться. На это не палаты, а само войско должно было отвечать, отвечать не словом, а делом, должно было победить иностранные армии; но так как никто не мог надеяться на эту победу, то обращение войска к палатам с просьбой о защите от Бурбонов было странно и бесплодно.
Исход дела был ясен для Фуше, и он завел сношения с Людовиком XVIII; роялисты ободрились и с разных сторон начали приезжать к королю. Но до какой степени господствовала смута, до какой степени все ходили в потемках, не могли различать предметов и создавали себе небывалые страхи, – доказательством служит то, что роялисты, приезжавшие к королю, говорили о могуществе Фуше, без которого ничего нельзя сделать; настаивали, что королю надобно сблизиться с ним во что бы то ни стало; граф Артуа со своими настаивал на то же самое; необходимость сближения с Фуше выставлял и Веллингтон. Впоследствии Шатобриан верно представил этот хаос, благодаря которому Фуше получил такое значение, верно представил, как все противоположное перемешалось, соединилось, чтобы превознести могущество колдуна, «религия и нечестие, добродетель и порок, роялист и революционер, иностранец и француз»; 6 июля Людовик XVIII, находившийся в С.-Дени, дал знать Веллингтону и Талейрану, что готов принять Фуше и назначить его министром полиции. На другой день Талейран ввел с торжеством Фуше в кабинет королевский: Бурбоны преклонились пред революцией, цареубийца сделался министром брата Людовика XVI. «Я знаю услуги, вами мне оказанные, – сказал король Фуше. – Герцог Веллингтон уведомил меня о них. Я назначил вас министром полиции; надеюсь, что в этом звании вы мне окажете новые услуги». Когда новый министр откланялся, король сказал: «Нынче я потерял свое девство».
На другой день, 7 июля, пруссаки и англичане вошли в Париж и расставили пушки на всех мостах; прусский офицер вошел в залу, где заседала исполнительная комиссия, и положил на бюро бумагу, подписанную Блюхером: в бумаге требовалось 100 миллионов военной контрибуции. Члены комиссии исчезли при виде магической бумаги, оставив ее в наследство Людовику XVIII; палаты разошлись; вместо трехцветного знамени на Тюльери поднялось белое, и 8 июля Людовик XVIII вторично вступил в Париж. Вечером Веллингтон и Касльри были приглашены в Тюльери и нашли короля в сильном волнении и восторге от приема, сделанного ему парижанами; по его мнению, он был принят еще радушнее, чем в прошлом году. И теперь, вечером, почти невозможно было разговаривать с королем: так оглушительны были крики народа, наполнявшего Тюльерийский сад, несмотря на темноту. На расставании король подвел Веллингтона и Касльри к открытому окну; свечи были поданы и дали возможность народу видеть короля вместе с герцогом; народ сбежался на это зрелище со всех концов сада, образовал огромную, густую массу и наполнил воздух восклицаниями.
Веллингтон ввел короля в Париж; но что скажут соседние государи? Зачем до них и без них произведена была втораяреставрация? Разумеется, всего опаснее могло быть неудовольствие русского императора; поэтому Касльри и Веллингтон почли за нужное отправить Поццо-ди-Борго навстречу к императору Александру с объяснением, почему надобно было спешить со второй реставрацией. Другой, большей заботой Веллингтона и Касльри было сдерживание Блюхера и его пруссаков: кроме огромной контрибуции, наложенной ими на Париж, они обнаружили твердое намерение взорвать Иенский мост, чтобы не было в Париже ненавистного памятника их бесславия. Веллингтон требовал, чтобы они удержались по крайней мере до приезда государей. Государи приехали 10 июля; Людовик XVIII бросился к императору Александру с мольбою о защите – и Блюхер был сдержан: контрибуция уменьшена до 8 миллионов и мост Иенский спасен от разрушения. Обнаружилось ясно могущество русского императора; ясно было, что при решении вопроса о будущем положении Франции относительно соседей в нем одном Франция могла найти защитника. За это ручался характер императора, известная его любовь к французскому народу и, наконец, расчет политический: Франция была опасна России менее, чем какой-нибудь другой державе европейской; для России выгодно было сблизиться с Францией и уничтожить возможность возобновления талейрановского тройного союза между Францией, Англией и Австрией против России и Пруссии; союз Англии и Австрии не был опасен для тройного союза России, Франции и Пруссии.
Если в 1814 году, во время Венского конгресса, Талейран хлопотал о союзе бурбонской Франции с Англией и Австрией против России и Пруссии, то после 20 марта приверженцы Наполеона хлопотали о подобном же союзе бонапартовской Франции с Англией и Австрией против России и Пруссии, старались отвести Англию от союза с Россией, возбуждая опасение англичан насчет могущества императора Александра. Знаменитая Стааль, сделавшаяся из непримиримого врага Наполеона его защитницей, когда он стал играть в конституцию и сблизился с ее приятелем Бенжамен-Констаном, – Стааль писала в Англию в апреле 1815 года: «О, да будет принц-регент велик, великодушен! Пусть он станет посредником; пусть скажет народам: я хочу мира, и вы останетесь в мире! Чрез это Англия может быть владычицею мира, тогда как во время войны она будет только частью целого, уже разделенного. Принц-регент не может начальствовать английскими войсками; он может владычествовать народами, только предписывая им всем мир. Если они устремятся на войну, то владыкою их станет император русский, Агамемнон, царь царей! Принцу-регенту дается на выбор: или быть богом мира, или позволить русскому императору стать царем этой войны».
В Англии и без внушений Стааль очень хорошо понимали, что русский император будет снова Агамемноном союза, и очень хорошо понимали также, что с русским императором возможен мир, а с Наполеоном он не возможен, и потому прежде всего хотели покончить с бонапартовской Францией, для чего общее действие с Россией было необходимо. Император Александр со своей стороны делал все возможное, чтобы не возбуждать подозрительности и зависти Англии, сохранить с нею доброе согласие. В мае 1815-го в Вене, разговаривая с лордом Каткартом о движениях русских войск, он сказал: «Надеюсь, пришло время, когда увидят, что могущество России может быть только полезно для Европы, а не опасно для нее». Теперь в Париже император выразил лорду Касльри свое желание действовать сообща с принцем-регентом для упрочения европейского мира и спросил его прямо, не питает ли принц-регент какого-нибудь неудовольствия против него за его поведение в Лондоне в прошлом году. Сообщая об этом вопросе лорду Ливерпулю, Касльри прибавил, что император Александр оказывает необыкновенное внимание герцогу Веллингтону и английскому войску. Чрез несколько дней Касльри получил ответ: принц-регент поручал ему передать русскому императору, что он совершенно удовлетворен заявлением, что, если что-нибудь было, то было совершенно ненамеренно и что он, принц, не может питать к его императорскому величеству других чувств, кроме чувства искренней дружбы.
Таким образом спешили отстранить все препятствия к дружному действию при решении предстоящего вопроса: на каких условиях заключать новый мир с Францией; какие обеспечения нужны для того, чтобы страшный народ не нарушил снова мира Европы? Благодаря преимущественно Англии последовало и второе «восстановление» Бурбонов; но именно потому, что Англия была главной виновницей дела, она больше всех и должна была беспокоиться насчет его последствий. 10 июля лорд Ливерпуль писал Касльри тревожное письмо: «Очевидно, что у короля нет партии; геркулесова работа – дать вещественную силу этому правительству; что это за король, который не поддерживается общественным мнением, войском или сильною национальною партией? Я рад, что он принял в службу Фуше. Фуше может изменить королю, но он может понять, что ему выгодно, и спасти его. При отчаянном положении дел мы должны употреблять и отчаянные средства. Чем более я рассматриваю настоящее внутреннее состояние Франции, чем менее нахожу обеспечения для безопасности Европы в характере и силе французского правительства, тем более мы должны искать безопасности на границах в материальном ослаблении могущества Франции. Это мнение быстро распространилось у нас».
Таким образом, взгляд английского министерства, руководимого общественным мнением страны, совпадал со взглядом немецких патриотов. Но немецкие патриоты не впадали в противоречия: они были равнодушны к вопросу, кто будет царствовать во Франции, – лишь бы Франция была ослаблена и не грозила более Германии. Англия же хлопотала об утверждении Бурбонов, видела слабость короля, от этой слабости заключала к необходимости ослабить Францию и тем сильнее наносила удар восстановленной династии, отнимая у нее популярность, возбуждая против нее упрек, что иностранцы, ее союзники, ее восстановители, обрезали, унизили Францию. Положение императора Александра было самое выгодное: он не настаивал на возвращении Бурбонов, но он во всяком случае за Францию, и потому все французы, которым дорога честь и сила родной страны, должны обратиться к нему как единственному своему покровителю, и прежде всех должен обратиться к нему король.
Ливерпуль в письмах своих к Касльри твердил свое, что слабость французского правительства очевидна; что уступки, которые оно делает, суть следствия слабости, а не милосердия. Король распустил армию, но какую надежду можно возложить на новую армию, составленную из старого материала? Да если бы можно было создать и совершенно новое войско, то какая опасность будет грозить от 40.000 отставных офицеров, людей без средств к жизни и между тем обладающих значительною долей талантов и энергии. Строгое наказание заговорщиков, вызвавших Бонапарта с Эльбы, могло бы послужить спасительным примером; но его трудно ожидать теперь, когда король принужден дать правительственные места членам якобинской партии. При таком положении дел надобно принять иные меры безопасности, и союзники сделают непростительную ошибку, если оставят Францию, не устроивши границы, достаточной для защиты соседних государств. В Англии господствующая мысль, что союзники имеют полное право воспользоваться настоящим случаем и взять у Франции назад главные приобретения Людовика XIV. Все равно Франция никогда не забудет унижения, которому уже подверглась, и воспользуется первым удобным случаем для восстановления своей военной славы; следовательно, союзники обязаны воспользоваться настоящим временем и предупредить вредные последствия собственных успехов; в прошлом году союзники были великодушны – и какие оказались результаты этого великодушия? Теперь надобно промыслить самим о себе. Понятно, что русский император пожелает принять роль покровителя французского народа; но это расположение его императорского величества должно быть сдержано в разумных пределах; он не должен забывать о соседних с Францией державах; он, как посредник, естественно, должен сдерживать чрезмерные и неразумные претензии некоторых из союзников; но он не должен безопасность союзников приносить в жертву претензиям французского народа, «Мы не должны забывать, – писал Ливерпуль лорду Касльри, – что Австрия и Пруссия во всем этом вопросе имеют с нами горазда более общих интересов, чем Россия».
Так смотрели на дело англичане, находившиеся в Англии; несколько иначе должны были смотреть на него англичане, находившиеся во Франции. «Я совершенно согласен с вашим заключением, – отвечал Касльри Ливерпулю, – что основные интересы Великобритании в настоящее время тождественнее с интересами Австрии и Пруссии, чем России; но в то же самое время я должен заметить, что за этими обоими дворами надобно внимательно смотреть, как они преследуют свои частные цели, чтоб нам не впутаться в такую политику, с которою Великобритания не имеет ничего общего. Ни Австрия, ни Пруссия и ни одна из меньших держав не имеют искреннего желания поскорее окончить настоящее положение дел, потому что оно доставляет им возможность кормить, одевать и платить жалованье своему войску на счет Франции, откладывая при этом себе в карманы английские субсидии. Австрийцы ввели целую армию в Прованс, чтоб кормить ее на счет этой бедной и верной королю страны. Пруссаки кормят на счет Франции 200.000 войска. Баварцы, чтоб не потерять удобного случая покормиться на чужой счет, поспешили перевезти на телегах свое войско от Мюнхена на берега Луары, когда в их помощи уже не было более никакой нужды, и перевозка, разумеется, поставлена на счет Франции. Теперь во Франции союзных войск не менее 900.000, содержание которых стоит ежедневно стране 112.000 фунтов стерлингов.
Безупречно в этом отношении ведет себя русский император: он согласился со мною, что треть контрибуции, которую возьмут союзники с Франции, должна идти на пограничные укрепления: если взять в расчет отдаленный интерес России в этом деле, то это очень бескорыстно со стороны его императорского величества. Он привел в движение свою вторую армию без всяких уговоров с нами насчет субсидий, прежде чем получил малейшее уверение в помощи; он остановил свои войска, велел им возвратиться назад в Россию, как только я представил ему, что в них нет более нужды. Теперь он торопит нас, чтобы как можно скорее оканчивали с Франциею в собственных наших интересах, ибо мир освободит нас от обязанности платить субсидии, причем император желает отправить свои войска назад».
26 июля граф Каподистриа, уполномоченный императора Александра в конференциях между министрами союзных государей, представил мемуар, в котором заявлялось, что целью союза было: освобождение Франции от Бонапарта и революционной системы; восстановление для нее внутренних и внешних отношений, установленных Парижским договором; обеспечение для нее и для всей Европы постановлений этого договора и Венского конгресса. Так как поддержание Парижского договора было выставлено причиной войны, то для прекращения войны нельзя требовать его изменения. Притом если посягнуть на целость французской территории, то надобно будет все снова переделать, переменить и венские постановления, служащие основой европейского равновесия. Союзники, восстановившие Людовика XVIII на троне, должны по справедливости и в собственных интересах утвердить его власть, помочь ему основать нравственную силу его правительства на общем и национальном интересе. Принудить короля к уступкам, которые будут в глазах французов доказательством неуверенности союзных держав в прочности их собственного дела, – значит нанести смертельный удар реставрации. Соглашаясь в недостаточности одних нравственных обеспечении, Каподистриа предлагал, чтобы союзники объявили Наполеона Бонапарта и его фамилию лишенными права когда-либо царствовать во Франции; чтобы они с согласия Людовика XVIII приняли во Франции военное положение и сохраняли его до тех пор, пока новое правительство не утвердится во Франции и пока союзные государства не успеют усилить свою оборонительную систему; наконец, взять с Франции контрибуцию, которая пойдет на покрытие военных издержек и на устройство новых укреплений, которые союзные государства выставят против громадной линии французских крепостей. Каподистриа объявил, что пора прервать грозное молчание союзников относительно Франции; что надобно войти в прямые, откровенные объяснения с народом в высшей степени гордым и самолюбивым, способным еще обнаружить сильную энергию, – с народом, которого нельзя доводить до отчаяния.
Мемуар Каподистриа встретил сильные возражения со стороны немецких дипломатов и генералов: Гарденберг, Вильгельм Гумбольдт, генерал Кнезебек, Меттерних, фон-Гагерн подали мемуары, в которых старались доказать необходимость изменить границы Франции. Франция, говорилось в немецких мемуарах, перешла свои естественные границы, отнявши со времен Людовика XIV естественные границы у своих соседей. Чтобы получить теперь мир продолжительный и прочный, надобно, чтобы Франция отдала своим соседям их оборонительную линию, которую она у них отняла, то есть Эльзас и крепости нидерландские, крепости Мааса, Мозеля и Сарры: тогда только и Франция получит свою настоящую оборонительную линию, то есть Вогезские горы и двойную линию крепостей от Мааса до моря. На основании этих мемуаров Франция должна была лишиться почти всей Фландрии, северной части Шампаньи и Лотарингии, всего Эльзаса и значительной части Франш-Конте и Бургундии; должна была потерять не менее трех миллионов народонаселения. Немцы, разумеется, настаивали на том, что союзники имеют полное право отнять все это у Франции: смешно было бы думать, говорили они, что последняя война велась против одного Наполеона; что французы в ней не участвовали.
Английское министерство также вооружилось против мемуара Каподистриа; в замечаниях на этот мемуар, пересланных Ливерпулем лорду Касльри, говорилось: «Если бы французский народ отозвался на призыв, сделанный в декларациях союзников из Вены в марте и мае месяцах, и материально содействовал низвержению Бонапарта, то союзные державы могли бы считать себя связанными Парижским трактатом и не могли бы претендовать на вечные уступки земель со стороны Франции по праву завоевания. Но если обратить внимание, как велики были пожертвования союзников кровью и деньгами в последнюю войну; если обратить внимание на то, что король Людовик XVIII был восстановлен союзными войсками; что крепости французские сопротивлялись до тех пор, пока оставалась хотя малейшая надежда на помощь, и что занятие союзными армиями страны к северу от Луары есть действительно занятие вследствие завоевания, то не может быть сомнения, что союзники имеют право на плоды завоевания, на приобретения, которые, по их мнению, необходимы для их собственной безопасности». Несмотря на такой взгляд, английское министерство заявляло, что союзники должны были получить себе обеспечение уменьшением наступательных средств французского народа; но это уменьшение могло произойти или посредством территориальных приобретений, или посредством временного занятия французских областей союзными войсками.
Относительно права союзников требовать обеспечения от Франции, не стесняясь Парижским договором 1814 года, Англия соглашалась с немцами; относительно же того, в чем должно было заключаться это обеспечение, она не решала вопроса, допуская возможность и того средства, какое предлагала Россия, то есть временного занятия некоторых частей Франции союзными войсками. Но английское министерство скоро должно было принять русское предложение, потому что за него высказались и герцог Веллингтон, и лорд Касльри. Последний писал Ливерпулю, что он не может не признать справедливости мнения герцога Веллингтона, который предпочитает временное занятие французских областей совершенному их отторжению от Франции, потому что это отторжение соединит всех французов против Англии или скорее против того государства, которое возьмет себе отторженные области; по всем вероятностям, король Нидерландский первый подвергнется нападению со стороны Франции, и потому надобно хорошенько подумать об этом. Временное же занятие, напротив, не представляет никакой опасности: известно, что Людовик XVIII и его министры желают, чтобы иностранные войска остались во Франции; если дело уладится с обращением внимания на чувства и на интересы французского народа, то король, его правительство и роялистская партия будут на стороне союзников. Король, поддержанный ими, будет иметь возможность постепенно утвердить свою власть, что важнее для союзников всех других обеспечении. Если он падет, то союзники будут свободны от упрека, что ускорили его падение, и будут иметь время принять все нужные предосторожности. Если же, наоборот, союзники будут вести дело до крайности, то они оттолкнут от себя короля, который будет принужден или вести народ свой на войну, или уступить престол более смелому и предприимчивому сопернику. Этот взгляд основывается на убеждении, что дело королевское во Франции вовсе не безнадежно, если будет хорошо ведено, и европейский союз может поддержать его, если при взятии обеспечении не будут действовать враждебно к Франции.
23 августа Ливерпуль отвечал Касльри, что лондонский кабинет согласен с мнением герцога Веллингтона. Франция должна была сделать несколько земельных уступок, но ничтожных в сравнении с немецкими требованиями; но она должна была заплатить союзникам 600 миллионов контрибуции да 200 миллионов на постройку крепостей, долженствующих охранять соседние государства от Франции; наконец, 150.000 иностранного войска, содержимого Францией в продолжение семи лет, должно было занимать 18 крепостей. Но при том значении, какое имел Париж, самым тяжелым и оскорбительным следствием вторичного занятия иностранными войсками столицы Франции была отдача по принадлежности произведений искусств, забранных Наполеоном в разных странах и сосредоточенных в Лувре. Еще 15 июля лорд Ливерпуль писал Касльри: «Принц-регент поручил мне обратить внимание на собрание статуй и картин, которые французызахватили в Италии, Германии и Нидерландах. Решат ли возвратить их по принадлежности или разделить их между союзниками, – во всяком случае союзные войска имеют относительно их то же право завоевания, какое имели французы, овладевая ими. Желательно удалить их из Франции с политической точки зрения, ибо, находясь в ней, они будут необходимо поддерживать воинственный дух и тщеславие народа». Французское правительство, соглашаясь на все другие условия, не согласилось на это; картины и статуи были взяты насильно немецкими и английскими солдатами; герцог Веллингтон принял деятельное участие в этом деле и навлек на себя сильную ненависть французов; тем еще сильнее стала популярность русского императора.
Занятие союзными войсками французских крепостей считалось необходимым для укрепления правительства Бурбонов; но кто же мог мешать этому укреплению? Наполеон, упустив благоприятное время для отправления в Америку, отдался англичанам и был отправлен на остров Св. Елены. Если Наполеон по возвращении с Эльбы говорил, что Бурбоны своими ошибками восстановили его, то теперь Бурбоны в свою очередь имели право говорить, что Наполеон своим стодневным царствованием оказал им большую услугу. Им страшна была слава знаменитого императора, страшно было сожаление о нем в народе: император надолго помрачил свою славу при Ватерлоо. Им страшно было императорское войско, жившее воспоминаниями о своем непобедимом вожде: этот вождь явился, и под его предводительством войско потерпело сильное, окончательное поражение. Наполеон истощил все средства своей партии, которая была так грозна во время первой реставрации. С падением Бонапарта Бурбонам нечего было бояться других партий: республиканская была слишком слаба, орлеанская – только в зародыше. Отсюда кроме истощения народа, жаждущего отдыха, мира, причиной страдательного положения Франции было отсутствие знамен, около которых можно было бы сосредоточиться для действия. Одно только знамя было поднято – знамя Бурбонов, поднято было иностранцами, без ведома и сочувствия народного большинства – нет нужды! Все же это было единственное поднятое знамя, которому других противопоставить было нельзя; кто хотел действовать, шел под это знамя; кто не сочувствовал знамени, тот осуждал себя на страдательное положение, не имея на что опереться. Бурбонская партия была так бессильна, что не могла собственными средствами восстановить короля; она поднялась чужими средствами – именно когда союзники ввели Людовика XVIII в Париж, но все же поднялась и могла действовать на просторе, без помехи со стороны других партий, была во времени – и воспользовалась своим временем.
Во всяком обществе есть люди, которые хотят дать волю страстям своим, разнуздать их, побушевать. В спокойное время, при правильном общественном движении, эти люди связаны, и если позволят себе что-нибудь, то испытывают очень неприятные для себя последствия; но когда происходит в обществе неправильное революционное движение, эти люди тут и предлагают свои услуги сильнейшей партии, знаменем которой прикрываются. Партии обыкновенно имеют неосторожность принимать услуги подобных людей, набирать из них себе войско и таким образом брать на себя ответственность за их действия, брать на себя обязанность оправдывать эти действия, как бы они ни были возмутительны. Так было и теперь во Франции, когда бурбонская партия хотела воспользоваться своим временем: на юге, где народонаселение склонно к страстной борьбе партий, обнаружилось движение против бонапартистов и вообще людей, не сочувствующих Бурбонам; их сотнями запирали в тюрьмы не по судебному решению, а вследствие народной воли; убийства и пожары распространились по деревням: в Ниме в продолжение трех дней толпы убийц бегали по улицам, врываясь в дома бонапартистов или тех, кому захотели дать это имя. Так начался «белый террор юга», который обнаруживался в разных местах в продолжение нескольких месяцев.
Приверженцы Бурбонов считали необходимым, чтобы некоторые лица были исключены из амнистии, дарованной королем при его возвращении во Францию; английское министерство и английские журналы высказывали то же требование; 57 имен внесено было в этот список исключенных, и два имени стояли впереди: Ней и Лабедуайер – оба были расстреляны. Господство бурбонской партии, исключительно действовавшей на юге белым террором, естественно, произвело то, что новая палата наполнилась роялистами; возраст депутата, определенный хартией в 40 лет, теперь был понижен до 25; возраст избирателя в 30 был понижен до 21 года; число депутатов вместо прежнего 258 было увеличено до 402. Исключением людей, замешанных в перевороте 20 марта, и назначением новых членов в палате пэров также перевесил роялистский элемент; звание пэра объявлено наследственным.
Чем более прежде при дворе боялись сопротивления Бурбонам и соглашались на разные сделки и уступки для его ослабления, тем более теперь раскаивались в этих уступках и стыдились их, когда видели, что сопротивления нет, что были обмануты, напуганы ложными страхами. Человек, в приближении которого к королю была сделана самая тяжелая уступка, который обманул фальшивою важностью своего значения, которым понапрасну напугали, – этот человек должен был скоро поплатиться за обман. Как скоро увидали, что бури нет, то Фуше, могущественный чародей, призванный заклинать бурю, превратился в ловкого обманщика – не больше, и судьба его была решена. Относительно Фуше при дворе чувствовали такое же раздражение, какое чувствует знатный барин, когда по ошибке протянул руку простолюдину и обошелся с ним, как с равным себе. Как только исчез первый страх и началась роялистская реакция, так начались нападки на Фуше: в одной из роялистских брошюр упрекали Людовика XVIII за презрение, оказанное им французскому народу тем, что он сделал своим министром Фуше, «чудовище, запятнанное всеми преступлениями». Не будучи в состоянии плыть против течения, желая показаться усердным, Фуше представляет длинный список лиц, которых должно исключить из амнистии; роялисты недовольны, что не все тут, которых надобно; побежденные партии озлоблены тем, что Фуше выдает людей, которых был сам недавно соумышленником, товарищем. Академик Арно поутру завтракал вместе с Фуше, который не сказал ему ничего, а вечером узнал, что осужден на изгнание; он бежит к Фуше с вопросом, что это значит. Тот отвечает ему: «Что же делать! Проливной дождь: надобно спрятаться под большое дерево, быть может, ваше изгнание послужит некогда для вас правом на почести и благосклонность».
Колдун опять принялся за предсказания будущего, но теперь эти предсказания не спасут его. Напрасно он прибегает к своим обычным средствам, напрасно пугает, напрасно читает в Совете министров в присутствии короля мемуар, что поведение союзных войск довело народ до крайнего раздражения, вследствие которого самые противоположные партии сливаются, и готовится всеобщее восстание, страшная резня, причем король снова должен будет удалиться. Напрасно читает другой мемуар, в котором доказывает, что роялисты сильны только в 10 департаментах, что в 15 уравниваются другими партиями, а в других департаментах составляют только ничтожное меньшинство; что Франция не снесет от Бурбонов того, что сносила от Наполеона, опиравшегося на свои победы и унижение Европы; что короля любят и уважают, но боятся его наследников; что равенство и свобода пустили такие глубокие корни, что нельзя безнаказанно до них дотрагиваться. Все это напрасно: прежде верили ложным страхам, теперь не верят и тому, что было справедливого в указаниях Фуше. Наконец, палата депутатов, с преобладанием людей, которых Фуше впервые назвал крайними (ultras), не допускала никакой возможности оставаться ему долее министром. Фуше все еще упорствовал, говорил, что палатой надобно управлять посредством мятежей, но никто из его товарищей, министров, не соглашался помогать ему устраивать эти мятежи.
Одинаковая участь грозила и Талейрану: и его оставили министром иностранных дел и даже сделали председателем Совета министров по настоянию герцога Веллингтона из страха перед сильными препятствиями, которые встретятся при вторичном утверждении Бурбонов на французском престоле, в надежде, что Талейран поможет преодолеть эти препятствия, особенно в отношении к союзникам. Но скоро увидали, что Талейран вместо помощи служит только препятствием: между союзными государями единственным доброжелателем Франции, единственным ее защитником являлся император Александр, которому король и должен был поэтому предаться вполне. Но император Александр очень хорошо помнил поведение Талейрана в Вене и оказывал к нему совершенную холодность. Таким образом, Талейран становился между Францией и Россией, и потому его надобно было отстранить. Людовику XVIII тем легче было это сделать, что ему навязали насильно Талейрана, властительных манер которого он не мог выносить. Ультрароялисты со своей стороны преследовали Талейрана как человека, более других напоминавшего революцию и империю; ультрароялисты преследовали его наравне с Фуше, преследовали как «отступника, чуждого всякой религии, всякой нравственности, всякого стыда».
Талейран и Фуше были удалены. Кто же мог заменить Талейрана на трудном месте министра иностранных дел? Выбран был человек, совершенно ему противоположный, безупречный в нравственном отношении, – герцог Ришелье. Внук знаменитого маршала, герцог покинул Францию в начале революции и вступил в русскую службу; при императоре Александре он был правителем Новороссийского края, где оставил по себе добрую память. Император очень любил его и уважал; Людовик XVIII, желая угодить покровителю Франции, назначил было Ришелье министром двора на место любимца своего Блака, но герцог отклонил предложение, не желая быть товарищем Фуше. Теперь, когда Фуше не было более между министрами, император и король настояли, чтобы Ришелье принял место Талейрана. Назначение министром иностранных дел человека, имевшего, можно сказать, два отечества, Францию и Россию, с одинаковыми обязанностями к обеим, было ясным знаком преобладающего влияния русского императора на дела Франции и тесного союза ее с Россией. Разумеется, многим и многим это сильно не понравилось; но делать было нечего, и Касльри в письмах к Ливерпулю старается успокоить министерство именно тем, что делать нечего и нет еще большой беды от преобладающего влияния русского императора; он писал: «Связь герцога Ришелье с русским императором и вмешательство Поццо во все дела, естественно, дает новому правительству сильный русский цвет, и на него уже нападают за это. Но, несмотря на тон покровительства, употребляемый императором, я не нахожу причины жаловаться на поведение его императорского величества. И он спокойно смотрит на нашу работу в Лувре. Зависть к преобладающему влиянию России, по моему мнению, не должна побуждать нас к ослаблению правительства герцога Ришелье. Главная наша цель – поддерживать на престоле Людовика XVIII; система умеренности, по моему мнению, есть самое лучшее к тому средство, и я не думаю, чтобы герцог вдался в крайности. У герцога много здравого смысла, и он мог бы быть отличным министром в честной стране; но публичная жизнь его ограничивается крымским губернаторством. Он мне сказал, что не знает в лицо ни одного из своих товарищей и что не был во Франции с 1790 года: можете представить себе трудности, которые он должен встретить».
Этот упрек Ришелье, что он знает лучше Россию, чем Францию, был в устах всех тех, которым не нравилось его новое назначение, начиная с Талейрана. «Это француз, который лучше всего знает Крым», – сказал свергнутый министр о своем преемнике, и острое слово с наслаждением повторялось противниками русского влияния. Это влияние сильно давало себя чувствовать, и Франция увидела ясно, как выгодно ей иметь министром иностранных дел человека, лучше всего знающего Крым: Франция удержала пять крепостей из числа тех, которые должна была уступить по прежнему плану; сумма контрибуции уменьшалась на сто миллионов; союзные войска должны были оставаться во Франции не семь, а пять лет.
Талейран и по выходе из министерства остался в Париже – ждать своего времени; знаменитый оракул не утратил своего авторитета, своих поклонников; дом его был открыт для всех, недовольных настоящим положением дел, для всех, недовольных влиянием России. Не то было с Фуше, которого деятельность была всегда мелка в сравнении с деятельностью Талейрана; ненависть ультрароялистов налегла со всею силою на жертву, которую никто не решался защищать. Фуше отправился в почетную ссылку – министром к саксонскому двору, а в следующем году почетная ссылка была заменена действительною. Понапрасну обращался Фуше к Касльри и Веллингтону; в длинном письме к последнему он наговорил много прекрасных вещей. «Разврат и неспособность губят государства, – писал он. – Добродетель и талант восстановляют их. Если господствует партия, то обязательства частные являются сильнее обязательств общих; теперь не союзные государи торжествуют над Францией – партия торжествует над народом; междоусобная война только переменила место; ультрароялисты победители, а все остальные французы – побежденные. Какую выгоду можно извлечь из господства партии? Конец ее близок, самый террор ее не поддержит, потому что террор исчезает при первом проблеске безопасности. Придет черед господству другой партии. Что станется с Францией, что станется с Европой, если нас будут терзать очередные и скоропреходящие торжества партий? При таком порядке вещей, где найти нацию? Нет более общих интересов; все пружины, все связи общественного существования сокрушены; сердце государства поражено; остается только тень отечества. В делах человеческих часто приходят к самым печальным крайностям, увлекаясь словами, которые их освящают. Не дай Бог, чтоб слово легитимностъ стоило нам так же дорого, как и слово равенство! Зло происходит почти всегда под священными предлогами. К счастию, заблуждение не бессмертно, как истина. Я не жалуюсь и не удивляюсь, что изгнан из Франции теми, которым я протянул руку, чтоб помочь им войти во Францию. Я знаю пороки сердца человеческого; я привык к капризам судьбы. В моем положении утешаюсь мыслию, что никто не может изменить природы вещей: ложь не может стать истиною. Правосудие и голос веков произнесут: в событиях, навлекших бедствие отечеству своему, виноваты или нет все стороны и на которой стороне самая большая вина». Фуше апеллировал к правосудию и голосу веков, но он произнес страшные для себя слова: «Ложь не может стать истиною».
Министром полиции вместо Фуше назначен был уже известный нам Деказ. Будучи самым младшим членом королевского парижского суда, Деказ обратил на себя внимание смелостью, с какою отказался подписать адрес и присягнуть на верность Наполеону после 20 марта. Этот поступок не мог быть забыт по возвращении Бурбонов, и Деказ был сделан префектом полиции под начальством Фуше. Подозрительность, какую питали к Фуше, заставила выдвинуть Деказа и ввести его в непосредственные сношения с королем. Префект полиции был тогда 35-ти лет; приятная наружность, талант, живость ума, быстрота, ловкость, неутомимость в исполнении, испытанная верность и в то же время отсутствие крайности в направлении обратили на него внимание Людовика XVIII; по удалении Фуше Деказ сделался министром полиции, и скоро увидали, что место Блака при старом короле замещается: Деказ становился любимцем.
Союзные государи оставили Париж; но посланники их здесь образовали постоянную конференцию, которая собиралась каждую неделю, чтобы рассуждать: о состоянии страны, о мерах, какие нужно было принимать со стороны союзных государей; о советах, какие должны были подавать их посланники французскому министерству. Главную роль между дипломатами играл русский посланник Поццо-ди-Борго; но Александр не вполне на него полагался по страстности, порывистости его характера и потому оставил в Париже Каподистриа. Английским посланником был кавалер Стюарт, брат лорда Касльри, человек, не выдававшийся вперед своими личными достоинствами и, кроме того, уступавший первое место герцогу Веллингтону, который жил в Париже как главный начальник союзных войск, оставленных во Франции.
Положение Веллингтона было незавидное, потому что поведение Англии в последнее время возбудило сильную ненависть в французах; особенно не могли простить Веллингтону его деятельного участия в опустошении Лувра; при дворе не могли простить ему того, что не нашли в нем ожидаемой поддержки. Видя всеобщее ожесточение, видя холодность при дворе, тогда как он привык находить там одни восторженные приемы, герцог сердился и не старался сдерживаться в выражениях своего гнева. Он удалился из роялистского общества, где имели неосторожность показать к нему презрение, и начал посещать общества; отличавшиеся противоположными политическими мнениями; особенно часто стали видеть его у госпожи Гамелэн, которая у роялистов пользовалась дурной репутацией; о которой шла молва, что она сильно интриговала в пользу Бонапарта перед его возвращением с Эльбы. Поццо-ди-Борго обеспокоило такое поведение герцога; он боялся, что противные правительству партии станут пользоваться его неудовольствием. Разговор со Стюартом еще более усилил его опасения: английский посланник стал открыто жаловаться на короля и окружавших его; объявил, что негодование Веллингтона достигло высшей степени, и прибавил, что если с Бурбонами случится новое несчастие, то народное негодование в Англии воспрепятствует министерству вооружиться за них. Спустя несколько времени сам Веллингтон, разговаривая с Поццо-ди-Борго в том же смысле, кончил словами: «Неужели мы должны еще обнажить шпагу и драться за них?»
Поццо после совещания с графом Каподистриа и герцогом Ришелье предложил королю и графу Артуа приласкать Веллингтона. Граф Артуа поехал к нему, и герцог остался доволен посещением и разговором наследника престола. Спустя несколько времени герцог поехал к королю и был обласкан; при прощании король подал ему руку; герцог нагнулся было, чтобы ее поцеловать, но король сказал ему: «Позвольте мне поступить по французскому обычаю» – и поцеловал его. На другой день Ришелье имел разговор с Веллингтоном и остался очень доволен; когда он намекнул, что заговорщики в своих движениях против Бурбонов рассчитывают на его равнодушие, то Веллингтон сказал: «Пусть попробуют: узнают меня!» Между тем пруссаки предложили Ришелье, что в случае новых волнений прусская нижнерейнская армия будет готова вступить во Францию. Но король не хотел принимать никаких предложений ни от кого без ведома русского императора. По мнению Поццо, французское правительство должно было гнать от себя мысль об иностранной помощи или вмешательстве; если Франция, к своему несчастью, снова принуждена будет просить помощи у иностранцев, то погибель ее будет неминуема; ее внутреннее спокойствие должно поддерживаться собственными средствами, и Поццо изъявлял полную уверенность, что эти средства можно найти.
Средства действительно были, опасности для Бурбонов сильно преувеличивались. Главная опасность заключалась в них самих, в слабости короля, который не умел сдержать своих, который дал приверженцам Бурбонов разделиться на две партии – ультрароялистов и приверженцев конституционной монархии; позволил им вступить в ожесточенную борьбу друг с другом, благодаря которой противные партии поднялись и окрепли. Представители иностранных держав, видя, что ультрароялистская партия не имеет глубоких корней во французской почве, боясь новых переворотов, какие могли произойти от неблагоразумных ее стремлений, внушали королю и его министерству, чтобы они не следовали увлечениям графа Артуа и окружающих его, соблюдали умеренность, давали своему правлению либеральное направление и таким образом привлекали к себе сочувствие большинства. Но советовать слабому умеренность и либеральность – значит побуждать его к послаблению и либеральничанью, точно так как советовать ему твердость – значит побуждать его к жестокости и к задерживанию живых сил народа, к погашению в обществе света, необходимого для правильной его деятельности.
Осенью 1815 года бурбонская реакция была в полном ходу и отразилась на выборах в новую палату депутатов (chambre introuvable, по выражению Людовика XVIII); надежды ультрароялистов сначала были возбуждены и тем, что министерство было Очищено от людей, представляющих новую Францию, Талейрана и Фуше; члены палаты пэров Полиньяк и Лабурдоннэ прямо отказались присягать в соблюдении хартии. В палате депутатов прошли строгие законы против лиц, которые бы вздумали устно или письменно возбуждать народ против правительства, хотя бы их поступки не имели следствий и не были связаны ни с каким заговором; учрежден был в каждом департаменте превотальный (военный) суд; в палате слышались слова: «Время положить конец милосердию». Между ультрароялистскими депутатами обозначился человек, которому суждено было играть важную роль в истории реставрации: то был Виллель. Обиженный природой, которая дала ему вовсе не видную наружность и неприятное произношение, Виллель привлекал внимание верностью, практичностью своих замечаний. Его административная деятельность началась далеко, на острове Бурбоне, где он укрылся от революционных бурь; во время империи он возвратился во Францию, купил землю подле Тулузы и занимался сельским хозяйством. При отправлении административных должностей в провинции он выказал те же способности, как и на острове Бурбоне, и теперь принес в палату свой здравый смысл, свой практический, но часто узкий взгляд, следствие прежней узкой сферы деятельности и недостатка научного образования. Сочинение его, написанное против конституционного правления, определяло его место и значение в палате.
В то время, когда в палате строгими мерами хотели сдержать всякое публичное выражение несочувствия к бурбонскому правительству, хотели также очистить администрацию от людей, заявлявших прежде каким бы то ни было образом свое несочувствие к нему, и здесь не ограничились людьми, занимавшими важные должности, но коснулись людей самых мелких, отыскивая в прежнем их поведении, в увлечениях молодости во время революции причины к удалению. Все эти люди, которые при сильном правительстве, умеющем дать направление деятельности своих служителей, спокойно подчинились бы этому направлению и остались полезными работниками, теперь, удаленные и лишенные средств к жизни, явились в первых рядах недовольных. Но этим очищением администрации дело не ограничивалось: по поводу правительственного предложения об амнистии в палате был составлен проект закона, который грозил смертью, тюремным заключением, изгнанием огромному числу лиц (не менее тысячи). Страстные крики членов господствующей партии в палате и в салонах напоминали страстные крики революционеров девяностых годов, и теперь, как тогда, женщины превосходили мужчин. «Неужели думают, – говорила одна знатная дама, – что мы удовольствуемся двумя головами (Нея и Лабедуайера) за 20-е марта?»
Между господствующей партией и министерством произошел явный разрыв, потому что министерство не разделяло крайних стремлений партий. Против министерства была господствующая партия, с одной стороны, с другой – работал против него Талейран, окруженный интриганами всякого рода. Не имея возможности действовать в Париже, они перенесли свою сцену действия в Лондон, установили политическую корреспонденцию, которую публиковали посредством журналов. Здесь король и королевская фамилия подвергались постоянным нападкам; Талейран представлялся гонимым мудрецом, удаление которого из министерства было причиной всей смуты; подкапывались под русское влияние, порицая зависимость королевского правительства от с. – петербургского двора. Герцог Орлеанский, находившийся в Англии, под рукою ободрял эту тактику, и его сторонники в Париже приняли в ней участие. Английский посланник в Париже Стюарт, человек ограниченный и мелочный, раздраженный тем, что не мог играть при французском дворе первенствующей роли, поддерживал интригу покровительством, какое оказывал корреспонденции, зная очень хорошо ее содержание.
Подвергаясь нападениям с разных сторон, министерство Ришелье не находило подпоры в короле, слабость которого оказывалась для всех самым очевидным образом, ибо направление господствующего движения перешло к графу Артуа, к партии павильона Марсан, как тогда выражались (потому что граф Артуа жил в части Тюльерийского дворца, носившей это название). Слабость короля послужила предлогом новой интриги, направленной против министерства Ришелье. Партия павильона Марсан и партия Талейрана подали друг другу руку; с обеих сторон пошло предложение возвратить бывшего любимца Блака; на конференцию представителей иностранных держав действовали тем, что призвание Блака есть единственное средство вывести короля из бездейственного положения. Сопротивление Ришелье, поддержанного Поццо, расстроило интригу.
Так кончился 1815 год. 1 января 1816 года депутация второй палаты обратилась к королю с такою краткою речью: «Государь! Ваши верноподданные палаты депутатов желают и приготовляют вам более счастливый год!» На другой же день в палате начались жаркие прения об амнистии. Послышались речи против «новой филантропии, этой революционной выдумки, которая покрыла Европу преступлениями, кровью и слезами»; послышались горькие упреки нерешительному поведению министров, которые хотят возобновить слабую политику 1814 года, рискуя навлечь на Францию те же самые бедствия. Главные ораторы умеренной партии – Роайе-Коллар, Пакье, де-Серр произнесли также сильные речи в пользу амнистии как акта политической необходимости. Большинство палаты отвергло ту обширную проскрипцию, на которой настаивали ультрароялисты; но приняло исключение из амнистии для людей, участвовавших в осуждении Людовика XVI: им определено изгнание, и король согласился с решением палаты.
В провинциях перестала литься кровь; но сцены насилия и грабежа продолжались по деревням. Во многих местах протестантское богослужение было прервано; администраторы и суды или по духу партии, или по слабости, из страха пред мятежными толпами, не могли обеспечить полного правосудия протестантам и людям, считавшимся бонапартистами. Большая часть людей, виновных в убийствах, оставались нетронутыми; те из них, которых притягивали к суду, были торжественно оправдываемы, потому что никто не смел против них свидетельствовать. В Тарасконе, в департаменте Устьев-Роны, два человека были отданы под суд за участие в народных волнениях: мятежная толпа освободила их из тюрьмы с криками: «Долой бонапартистов! Долой богачей!» – и принудила суд произнести приговор об освобождении обвиненных. В палате, если кто-нибудь из депутатов был так смел, что указывал на такие явления, то голос его был заглушаем. Очищения администрации продолжались; очищено было и учебное ведомство, или так называемый Университет: больше трети ректоров академий и целая толпа инспекторов, профессоров и учителей были отставлены; вакантные кафедры были замещены духовными лицами; многие высшие школы были закрыты из экономии. Закрыта была и Политехническая школа, подозрительная по своему духу; но обратили внимание на первоначальное народное обучение: первоначальные школы были вверены надзору комитетов, учрежденных в каждом кантоне под председательством священника. Верховная комиссия народного просвещения должна была постановить правила и указать методы преподавания; ежегодно назначалось 50.000 франков на издание нужных книг, на учреждение образцовых школ и на награды отличным учителям. Религиозные и благотворительные общества были допущены к учреждению и ведению школ с условием, чтобы их правила и методы были одобрены комиссией народного просвещения и чтобы школы их подвергались общему установленному надзору. Епископы, объезжая епархии, имели право осведомляться о преподавании Закона Божия в школах; префекты, супрефекты и мэры сохраняли свой прежний административный надзор. Этим регламентом и некоторыми другими постановлениями, благоприятными для народного образования, Франция была преимущественно обязана деятельности председателя верховной комиссии народного просвещения Роайе-Коллару.
Роайе-Коллар принадлежал к небольшому кружку людей, которые в палате выставляли открытое сопротивление «крайним». Эта борьба между двумя роялистскими партиями – крайней и умеренной – очень важна, потому что объясняет многое в положении Франции. «Крайние» стремились к восстановлению старого порядка вещей, как было до революции; но, видя министерство против себя и в то же время видя свое выгодное положение в палате, пользовались парламентскою формою для достижения своих целей и временно стояли за эту реформу, прикрывались ею; уважение к конституции было у них условною фразою; но иногда они проговаривались не в палате, а в салонах; так, однажды один из «крайних», Бувилль, сказал: «Говорят, что я не люблю хартии; я на ней сижу верхом, но стану гнать лошадь до тех пор, пока она издохнет». Монморанси сказал одному из политических противников: «Да, вы любите короля точно так же, как мы любим хартию». В палате они стояли горой за конституцию; а умеренные, или приверженцы конституционной монархии, наоборот, настаивали на усилении королевской власти, королевского значения; утверждали, что французская конституция не должна быть совершенно похожа на английскую.
Во время сильных прений по вопросу, должна ли палата возобновляться по частям, как постановлено было в хартии, или всецело, как хотели «крайние», Роайе-Коллар говорил: «В Англии инициатива, высшая администрация и большая часть правительства находятся у палаты общин; у нас правительство всецело находится в руках короля, который нуждается в содействии палаты, только когда надобен новый закон и для бюджета. Как только правительство перейдет к большинству палаты, как скоро палата получит возможность низвергать министров короля и навязывать ему других, так будет покончено не только с хартией, но и с независимою королевскою властью – у нас будет республика. Если вместо французской хартии вы дадите нам британское правление, то дайте нам все физические и нравственные условия Англии; сделайте, чтоб английская история была нашею; дайте нам сильную аристократию, неразрывно связанную с короною; сделайте еще более: вместе с теориею, на которой зиждется ее политическая система, дайте нам злоупотребления Англии, злоупотребления столь могущественные, что самая теория находится под их охраною. У нас нет еще аристократии, мы должны получить ее с течением времени. Аристократия, созданная хартиею, есть еще только фикция; она получит действительное существование только тогда, когда будет верным выражением превосходства, действительно существующего и всеми признанного. До тех пор не думайте, что если королевская власть будет ослаблена, то палата пэров будет в состоянии прийти к ней на помощь и поднять ее. Раз униженная, королевская власть поднимается только посредством революции и бурь. Учение о представительстве страны есть предрассудок, и депутаты вовсе не уполномоченные народа. Палата у нас есть власть, а не представительство; она существует только благодаря хартии; она выражает только собственное свое мнение, а не мнение народа. Где существует народное представительство, там в нем сосредоточены все силы: перед ним остаются только власти подчиненные или враждебные, осужденные повиноваться или исчезнуть. Революция есть не иное что, как учение о народном представительстве, приведенное в действие». «Англия не монархия, – говорил де-Серр. – Хартия французская не похожа на хартию британскую; в Англии существуют партии, давно образовавшиеся, тесно связанные с конституцией), следовательно, не опасные; король обязан избирать министров между их вождями; присоединяя к их влиянию влияние двора, он легко получает перевес и овладевает на факте, хотя не прямо, инициативою в законодательстве. Во Франции, наоборот, не должно быть партий, и, если они есть, король должен возвышаться над всеми; королевская власть во Франции не должна быть бездейственною, неподвижною, но деятельною; ей не следует скрываться под покрывалом, но являться постоянно, сиять пред глазами всех».
В прениях о бюджете «крайние» обнаружили ясно свое намерение низвергнуть министерство Ришелье. Посланники четырех союзных держав пришли в сильное волнение: если министерство будет свергнуто, то произойдет страшная смута. Представителей Англии, Австрии и Пруссии особенно беспокоило то, что во время этой смуты нельзя будет получить с Франции денег, которые она обязалась платить по последнему договору. Посланники пригласили в конференцию герцога Веллингтона и упросили его написать письмо к королю, представить печальное положение дел и выразить надежду, что его величество побудит свой двор содействовать интересам правительства. Веллингтон написал письмо: «Вашему величеству известны начала, на которых союзные державы основали систему временного занятия части ваших владений, инструкции, ими мне данные, и ответственность, ими на меня возложенную. Хотя я смотрю на это занятие как на средство для поддержания мира, однако я могу быть принужден опять поставить всю Европу под ружье; моя обязанность предуведомить ваше величество, когда обстоятельства будут клониться к такому кризису. Известно, что фамилия вашего величества, лица, принадлежащие к вашему двору и к двору принцев, действуют в палате наперекор министрам. В настоящее время необходимость требует, чтоб ваше величество высказались с твердостию и поддержали свое министерство всем влиянием двора, который до сих пор имел только вредное влияние на дело».
Отославши письмо к королю, Веллингтон спустя несколько времени отправился к графу Артуа с теми же представлениями – переменить вредное влияние на полезное. Артуа отвечал, что ни он, ни сыновья его не вмешиваются ни во что и не имеют никакого влияния на дела: а между тем в павильоне Марсан было положено отправить Полиньяка к Веллингтону выведать, как союзные державы примут низвержение министерства Ришелье. Веллингтон отвечал ему, что примут очень дурно.
Посланники дожидались, какое впечатление произведет на короля письмо Веллингтона. Впечатление было неблагоприятное: король рассердился; ему не понравилось, что его хотели учить. Но резко высказать свой гнев было нельзя, чрез несколько недель он сказал герцогу: «Действия правительства должны были вам показать, что на ваши советы обращено внимание». Герцог и тут опять повторил свои советы. Поццо-ди-Борго со своей стороны сделал подобные же представления, и ему отвечали также уклончиво, а граф Артуа решился сказать, что император Александр получил неверные известия о положении дел во Франции, тогда как эти известия мог сообщить ему не кто другой, как Поццо. С посланником императора Александра стали обходиться с холодною учтивостью при дворе; но против герцога Веллингтона и англичан вообще ожесточение «крайних» дошло до высшей степени; уже начали поговаривать, что Бурбоны могут сделаться популярны только посредством войны.
Заседания палаты прекратились. Депутаты, наиболее потрудившиеся в деле реакции, были с торжеством приняты в своих провинциях; в Тулузе в честь Виллеля устроили триумфальную арку; народ отпряг его карету и повез ее на себе; вечером город был освещен; в театрах пели куплеты в честь ему. По-видимому, торжество «крайних» было полное: такое сочувствие народа! Хотели пользоваться своим временем, упрочить торжество:15 депутатов большинства, жившие в Париже, образовали под покровительством графа Артуа комитет, который сносился с депутатами, жившими в департаментах, передавал им, как нужно действовать. Неудовлетворительное состояние здоровья Людовика XVIII, ожидание скорой перемены на престоле усиливали также партию «крайних», в челе которых находился наследник престола: честолюбцы со всех сторон примыкали к партии, за которой было скорое будущее. Но для людей, смотревших беспристрастно на состояние Франции, все более и более оказывалось ясным, что «крайние» составляют незначительное меньшинство; что большинство раздражено и волнуется, волнуется бессильно, потому что нет пока вождей и знамен, но в некоторых местах прорываются восстания, рассчитанные на сильное раздражение в народе.
Видя, что во Франции играют в опасную игру, император Александр не хотел оставаться спокойным зрителем этой игры. В июне месяце Поццо-ди-Борго по приказанию императора прочел Людовику XVIII мемуар, в котором указывалось несоответствие действий французского правительства видам союзных держав, какие они имели при восстановлении Бурбонов, несоответствие поступков французского правительства советам императора Александра. Король оправдывался как мог. И другие союзные державы, как их ни тяготило то, что Россия делает первый шаг в этом деле, должны были признать необходимость поддерживать представления русского правительства. Но одних представлений было мало: надобно было указать средства, как унять «крайних». Необходимое следствие слабости – употребление сильных крайних средств. Король, по слабости своей, не умел взять в руки своих ярых приверженцев, сдержать и направить их деятельность; позволил брату стать в их челе. Они наделали вреда своею ревностью не по разуму; король, потеряв над ними всякую власть, не был в состоянии их остановить, и потому нужно было прибегнуть к крайним средствам, к распущению палаты, которую король называл «бесподобною» (introuvable), которая состояла из его ревностных приверженцев!
Бессмыслица, и бессмыслица страшно вредная по своим последствиям; но другого средства нельзя было придумать. Поццо начал настаивать на распущении палаты и на избрании новой порядком, определенным в хартии. Чтобы побудить короля к принятию этой меры, он представил ему, что император Александр очень желает уменьшить тягость военного занятия французских областей; но что помощь, которую император может оказать в этом случае, зависит совершенно от мудрости и твердости королевского правления. Король отвечал: «Уверьте императора, что я останусь конституционным государем». Но Поццо-ди-Борго, зная, что здесь надежда на будущую свою твердость только прикрывает настоящую слабость, начал представлять, что его величество, желая теперь пощадить себя от тяжелого усилия воли, увидит себя принужденным сделать еще большее усилие впоследствии, среди смятения и скандала прений, придворных интриг и шума парижских салонов. Король отвечал, что министры занимаются этим вопросом в Совете; что он сам думает о нем беспрестанно и подвергнет его обсуждению после самого серьезного исследования.
Ришелье был совершенно согласен с Поццо, что против «крайних» нет другого средства, кроме распущения палаты. Но ни Поццо, ни Ришелье не могли бы достигнуть своей цели без помощи любимца королевского, министра полиции Деказа, который мало-помалу умел привести Людовика XVIII к убеждению в необходимости распустить палату. Он представлял ему донесения главных полицейских агентов о состоянии страны; а в донесениях ярко изображалось всеобщее неудовольствие в стране на «крайних», ужас от их речей и предложений во время заседаний палаты. Когда король подчинился влиянию этих донесений, то Деказ поставил вопрос: хочет ли он быть королем партии или королем Франции? Было употреблено и другое сильное средство: донесено, как оскорбительно отзываются «крайние» о короле; какую радость изъявляют они каждый раз, как пойдут слухи о плохом состоянии его здоровья. Надобно распустить палату – и страшно: как распустить? Король колеблется, и Ришелье колеблется; Деказ настаивает: надобно уничтожить палату, которая постоянно мешает правительству, ослабляет его авторитет, похищает его власть, стремится унизить его, поднимаясь выше трона, ставя свою волю выше воли королевской, приучая народ к мысли, что настоящая верховная власть находится у собрания депутатов, им избранных. Надобно уничтожить палату, которая обнаружила свою несовместимость со всякой мыслью о примирении; которая оскорбляла и раздражала армию, оскорбляла народ во всех его чувствах; тревожила все интересы, подрывала публичный кредит и, поддерживая беспокойство и неудовольствие в народе, отнимала у правительства возможность установить спокойствие внутреннее и приобрести независимость внешнюю. Бюджет невозможен с палатою, которая ввела в честь банкротство; которая объявила войну всякому, кто даст правительству деньги взаймы; которая не побоялась возвести в принцип, что никакой контракт не обязателен для казны, если депутатам угодно освободить ее от него. Идея о чем-нибудь прочном не может укорениться в делах народа, когда члены большинства палаты при каждом удобном случае обнаруживают свою ненависть к хартии и надежду на восстановление старого порядка.