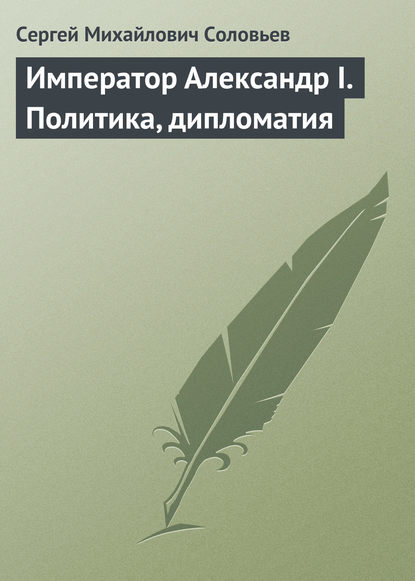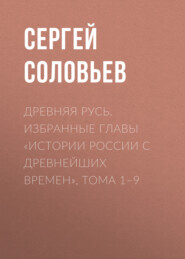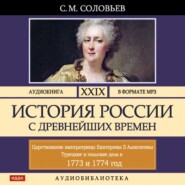По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Император Александр I. Политика, дипломатия
Год написания книги
1877
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
2 апреля (н. ст.) приехал в Мемель император Александр. К нему приступили со всех сторон с политическими и военными планами. Гарденберг, которого император хотел непременно сделать министром иностранных дел вместо Застрова и достиг наконец своей цели, – Гарденберг предлагал употребить все усилия, чтобы поднять Австрию против Наполеона и побудить Англию помогать решительнее. Император Александр, разумеется, был с этим совершенно согласен, но ни Австрия, ни Англия не двигались. Гарденберг предполагал, что Пруссия не в состоянии сопротивляться малейшему удару со стороны Франции, если не сделать ее сильнее увеличением территории, лучшим округлением и лучшими границами: Наполеон, чтобы отвлечь Саксонию от Пруссии, сделал саксонского курфюрста королем; по мнению Гарденберга, хорошо было бы этого нового короля перевести в Польшу, а Пруссию за потерю польских областей вознаградить Саксонией.
И это было принято во внимание, но нельзя было делить шкуру, не убивши медведя. Чтобы убить медведя, предлагались разные планы, но ни одного из них нельзя было принять. Находясь в крайнем затруднении, не находя ни между своими, ни между чужими людей, которых можно было бы выставить против Наполеона, император Александр пришел к мысли заняться самому изучением военного искусства – сначала теоретически, для чего принял в свою службу из прусской генерала Фуля, имевшего известность отличного теоретика, хотя и сомневались в его способности прилагать к делу свои познания.
Любопытный проект военно-политического свойства был представлен князем Радзивиллом: никто не сомневался в намерении Наполеона употребить Польшу орудием для достижения своих целей в Восточной Европе, то есть для подчинения и ее своему влиянию, как подчинялась ему Западная Европа; отсюда у людей, боровшихся с Наполеоном, естественно, должна была явиться мысль идти тем же ходом, употреблять Польшу орудием против Наполеона, но Польшу можно было поднять против кого бы то ни было только обещанием ее восстановления. О чем до сих пор только тайком толковалось в петербургских дворцах между императором Александром и другом его юности князем Чарторыйским, о том теперь явно рассуждалось в совещаниях между государями и их министрами. Мы видели, что Гарденберг предлагал восстановление Польши с чисто прусской точки зрения: отдать Польшу саксонскому королю, а Саксонию присоединить к Пруссии, но это могло случиться, разумеется, только при сведении счетов после поражения Наполеона. Радзивилл предлагает другое: поляки поднимаются по внушению Наполеона, который манит их независимостью; надобно возбудить между ними восстание противоположное – против Наполеона, обещая им независимость со стороны Пруссии и России. Король Прусский должен был принять титул короля Великой Польши, император Русский – титул короля Литовского, великого герцога Подольского и Волынского; оба государя должны устроить польские легионы и тем отвлечь поляков от Франции; князь Радзивилл хотел сам стать в челе прусско-польских легионов. Король был согласен на проект Радзивилла, который сбирался в мае месяце ехать в Вену чрез Галицию, чтобы по дороге переговорить с разными поляками.
Но что же главнокомандующий Беннигсен – какие были его планы? Он о них молчал, и напрасно император Александр предлагал ему произнести суждение о чужих планах или начертать свой. Беннигсен упорно молчал; молчал и человек, пользовавшийся полною его доверенностью, – генерал-квартирмейстер Штейнгейль; и вот образуется мнение: генерал Беннигсен – человек лично храбрый и хладнокровный на поле сражений, но у него нет способностей главнокомандующего, ему чужды великие стратегические замыслы, притом же он человек болезненный. Решение насчет справедливости этого приговора мы предоставляем специалистам, военным историкам. Мы сообщим только результат своих наблюдений. Мы видим, что лучшие генералы в борьбе с Наполеоном имеют один план: они советуют прежде всего не начинать с ним войны; когда же война начата, стараются уклониться от решительных битв, отступают; принужденные принять сражение, даже когда им удавалось сделать исход его нерешительным, они опять отступали, поставляя главным средством успеха завлечь гениального полководца в положение для него новое, крайне затруднительное, воспользоваться особенными условиями места и времени года, наконец, задавить многочисленностью.
План тяжкий для личного и народного самолюбия, но тем более мы должны поставить его в заслугу людям, которые им руководствовались. Мы видели поведение эрцгерцога Карла, поведение нашего Кутузова, его нежелание принять Аустерлицкое сражение. На него пало обвинение, зачем он ненастойчиво высказал это нежелание, зачем не отступил в Венгрию и т. д. Генерал, которому суждено было иметь главное начальство над русскими войсками во второй борьбе с Наполеоном, хорошо воспользовался опытом прошлого: он избегает наступательных движений; принявши поневоле сражение, выдержавши резню, он отступает, он протягивает время, затягивает неприятеля; Наполеону теперь еще желательнее, чем в 1805 году в Моравии, сразиться с неприятелем, победить его, кончить войну и с торжеством возвратиться во Францию, которую нельзя оставлять на такое долгое время; Беннигсен твердо стоит на том, чтобы не исполнять желание врага, не давать ему битвы. План его ясен; зачем же Беннигсен молчит? Высказаться трудно: он в таком же положении, в каком был Кутузов в Моравии.
Нет ничего затруднительнее, как вести войну в земле союзника, для поддержания, спасения которого война и ведется. Народ потерпел страшное поражение; земля его занята неприятелем самым бесцеремонным образом в отношении к побежденным, но остается надежда избавления: идет союзное войско! Чем сильнее страдания, тем сильнее желание избавиться от этих страданий как можно скорее; все сгорают от нетерпения, чтобы союзное войско поспешнее сразилось с неприятелем, побило его, выгнало из страны. В этой болезненной нетерпеливости избавиться от бедствий никто не рассуждает, что борьба идет с первым полководцем века, что первая обязанность его противника быть Фабием в отношении к новому Аннибалу. Медленность в движениях, избегание решительных битв, продолжая бедствия войны, страдания народа, вызывают вопли негодования, проклятия против медленного полководца. Больной в страшных спазмах кричит, чтобы лекарь как можно скорее дал ему чего-нибудь, что бы сейчас же облегчило его страдания, а лекарь говорит, что таких средств нет, что надобно потерпеть, припадок пройдет сам собою, надобно действовать медленно и радикально против причины болезни; естественно, против лекаря раздаются проклятия со стороны больного и людей, к нему близких: что это за лекарь? нет у него средств прекратить немедленно страдания! Такие же вопли раздавались против Беннигсена от болезненно нетерпеливых пруссаков.
А тут еще новые причины к неудовольствиям. Продовольственная часть в русском войске далеко не отличалась правильностью и бескорыстием людей, ею заведовавших; разделения занятий не было: все зависело от главнокомандующего, который был обременен не свойственными ему занятиями. Если голодные солдаты воспользуются случаем утолить свой голод на счет местных жителей, то отсюда новые вопли: «Союзники вместо помощи разоряют землю! Москвитяне думают об одном – как бы опустошить страну и защитить себя этою пустынею. Если Австрия и Англия нам не помогут, надобно хлопотать о мире. Русские не избавят нас от ига; предположим, что вместо Беннигсена будет другой полководец, который будет после своих побед ходить вперед, а не назад, то мы все же получим от него не страну, а пустыню».
Относительно беспорядков по части продовольственной обвиняли самого главнокомандующего, по крайней мере его жену, будто бы бравшую богатые подарки. Мы не имеем теперь средств ни принять, ни отвергнуть этого обвинения, но легко понять, как подобное мнение вредило Беннигсену, тем более что личные средства защиты были у него слабы: он не мог быть популярен в войске, ибо не только носил иностранную фамилию, что нисколько не мешало бы ему быть истым русским и популярным между русскими, но он не владел русским языком, не мог говорить с солдатом. Говорят, что сознание этого бессилия своего, невозможности приобретения популярности заставляло Беннигсена быть слабым относительно нарушения дисциплины, что имело чрезвычайно вредные следствия и не могло ни в ком поднять уважения к главнокомандующему, тем менее в недавних товарищах его, генералах, которые простили бы внезапное возвышение победителю-полководцу, блистательно ведшему кампанию, но не хотели оказывать должного уважения человеку, отступавшему или державшему войско в бездействии, скрытному и – к довершению всего – нерусскому. Вражда генералов к Беннигсену достигла такой степени, что государь принужден был отправить к войску Новосильцева для потушения этих распрей, но этот самый приезд Новосильцева для того, чего Беннигсен сам не мог сделать, не мог поднять значения последнего. Наконец, на Беннигсене лежало пятно участия в мрачном событии, предшествовавшем воцарению императора Александра. Жозеф де-Местр писал по этому случаю: «Внутренний голос говорит мне, что спаситель Европы не должен называться Беннигсеном».
Благодаря всему этому император Александр по приезде своем в Пруссию находился в самом затруднительном, печальном положении. Он вел войну для избавления союзного государства, но союзники не отходили от него с жалобами, что обещанного избавления нет, что война не ведется, что после битвы при Эйлау, произведшей такое сильное впечатление, русская армия почти четыре месяца стоит в бездействии: как смел Беннигсен вызвать императора к армии, чтобы сделать его свидетелем такого позора? Государь обращается к главнокомандующему: какой его план, когда же наконец и куда он двинется? Главнокомандующий молчит, не решается сказать государю, требующему движения вперед, что его план состоит в совершенно противном, что он не считает возможным действовать наступательно против Наполеона, а хочет выжидать, отступать, затягивать. Отсюда отношения, которые не могли повести ни к чему хорошему. Император Александр был подозрителен, не любил людей хитрых, скрытных и сейчас же заподозрил Беннигсена в этих качествах, следовательно, оттолкнулся от него; за подозрением в хитрости, естественно, следовало подозрение в неспособности, которую хотелось скрыть отнекиваниями и отмалчиваниями, и, конечно, не было недостатка в людях, которые утверждали государя в этом мнении; досада была тем сильнее, что надобно было признаться в своей ошибке: император прежде имел высокое мнение о способностях Беннигсена. Но этого было мало. Беннигсен отговаривался от движения, указывая на недостаточность продовольствия, но вокруг государя говорили, что Беннигсен сам виноват в этом. Государь взял у него продовольственную часть и поручил старику Попову, известному своею деятельностью при Потемкине. Это, разумеется, оскорбило Беннигсена; оскорбляло его и то, что государь и по чисто военным делам больше обращался к другим, чем к нему. Беннигсен жаловался, что к нему нет доверия, что ему связывают руки, и прямо объявлял, что будет просить увольнения по причине болезни – болезни действительно тяжкой.
Наконец, к довершению затруднений между русскими и людьми, близкими к государю, приехавшими вместе с ним в Пруссию, образовалась сильная партия, требовавшая мира, с двумя оттенками: одни говорили, что нельзя из-за чужого – прусского – интереса приносить такие жертвы людьми и деньгами; другие признавали, что война начата в общих европейских, а следовательно, и русских интересах, но теперь нет средств продолжать ее. Главами этой партии были так называемые «неразлучные» (inseparables): Чарторыйский, Новосильцев и Строганов. За войну сильнее всех стоял министр иностранных дел Будберг. Партия мира усилилась с приездом в главную квартиру, по дороге в Вену, князя Александра Бор. Куракина, пользовавшегося особенною доверенностью императрицы Марии Федоровны. И желавшие продолжения войны, и желавшие мира, и Будберг, и Чарторыйский с Новосильцевым обратились к Куракину с просьбою убедить государя возвратиться в Петербург или по крайней мере утвердить свое пребывание в каком-нибудь близком к границам русском городе. Но убеждения были напрасны: кроме живой природы, не допускавшей императора быть зрителем издалека важнейших для него событий; кроме неудовлетворительного хода этих событий, чему государь считал своею обязанностью помогать непосредственно, у императора Александра была еще цель, которую он высказал Куракину: наблюдать за пруссаками.
Потом Чарторыйский и Новосильцев открыли Куракину свои взгляды насчет войны и мира: по их мнению, благоприятная минута для начатия переговоров с Наполеоном была пропущена: это после битвы при Эйлау, когда он не получил еще подкреплений, нуждался в продовольствии и был ошеломлен стойкостью русского войска. Они, Чарторыйский и Новосильцев, представляли тогда об этом императору на словах и на бумаге, но их представления не имели успеха; они сильно желают мира и не ждут ничего хорошего от продолжения войны; они жалеют, что у России такая тесная связь с Пруссией, и боятся, что ответ, ожидаемый из Вены, будет уклончивый, ибо там увидят, что мы находимся под прусским влиянием и наши требования менее служат к удовлетворению наших интересов, чем прусских. Если бы мы ценою всех наших пожертвований достигли восстановления Пруссии по всей целости, то никогда мы не можем положиться на продолжительную преданность Пруссии: как только мир будет заключен, она опять по слабости и привычке подпадет под власть Франции. Чарторыйский и Новосильцев обратились даже к Гарденбергу с представлениями о необходимости мирных переговоров с Наполеоном. Положение Гарденберга было крайне неприятное, потому что император Александр прямо запретил ему говорить о политике с Новосильцевым, а только с одним Будбергом. Между последним и Чарторыйским была вражда: кроме разницы во взглядах Чарторыйский питал естественное нерасположение к человеку, его заместившему в заведовании иностранными делами, и Будбергу было неприятно, что экс-министр все еще пользуется большим значением. Чарторыйский и Будберг взаимно унижали друг друга перед Гарденбергом; Будберг твердил, что император ни слова не говорит о политике ни с Новосильцевым, ни с Чарторыйским, и прибавлял, что у последнего одно в голове – восстановление Польши.
Во второй половине мая начались значительные военные действия, в которых русские имели явный успех, но в отзывах императора Александра выражалось раздражение против главнокомандующего – мнение, что трудно ожидать от него чего-нибудь важного. Император объявил, что посмотрит, как будет действовать Беннигсен, и если опять остановится, то будет сменен генералом Эссеном 1-м, между тем Куракин писал императрице Марии: «Не перестаю повторять, что, не теряя времени, надобно подумать о мерах, по обстоятельствам необходимых для наших истинных интересов. Здесь одно желание у всех – желание мира. Новосильцев и Чарторыйский продолжают утверждать, что, чем долее будут отлагать, тем менее мир будет выгоден, и я думаю согласно с ними. Пруссия продолжает войну, потому что мы этого хотим и потому что она нас боится. Пруссаки, министры и генералы, дипломаты и военные, единодушно желают мира и кричат, что война опустошает их страну без всякой цели». Сказавши о последних блестящих действиях русских войск, Куракин продолжает: «…по умеренному счету, мы уже потеряли до 30.000 людей, не приобретя никаких важных выгод, и если бы даже мы одержали более решительную победу, то недостаток в продовольствии и трудность его приобрести помешает нам преследовать неприятеля и двигаться далеко вперед. Что я говорю – повторяется всеми, повторяется военными, самыми опытными в своем деле. Как же не желать окончания такой упорной и кровопролитной войны, которая может увеличить затруднения и жертвы всякого рода и вести только к потерям и бедствиям?»
Неожиданный приезд великого князя Константина Павловича еще более усилил это мирное настроение. Между великим князем и Чарторыйским, с одной стороны, и Будбергом – с другой, был сильный спор: Будберг горячо доказывал необходимость и возможность продолжения войны, говорил, что наша армия еще не разбита, что у нас есть еще большая армия в резерве, что мы можем положиться на верность наших польских провинций и вообще император может рассчитывать на свой народ. Чарторыйский возражал, что Будберг сильно ошибается насчет наших польских подданных, что они поднимутся против России, как только Бонапарт перейдет наши границы; а великий князь прибавил, что нет никакой большой армии в резерве, а только 35.000 человек, что у нас нет ни оружия, ни припасов, ни денег, а что касается народа, то он знаменит храбростью и преданностью государям, но что он должен быть защищаем правильными военными силами, а сам не может сопротивляться победоносной армии, когда та нападет на него.
Между тем Чарторыйский и Новосильцев опять обратились к Гарденбергу, чтобы он склонил императора и короля к открытию мирных переговоров с Наполеоном. Гарденберг отвечал, что каждый день ожидаются известия от лондонского и венского дворов и, когда эти известия отнимут всякую надежду на поддержку, тогда только можно будет приступить к мирным переговорам. Гарденберг все ждал, что Австрия объявит себя против Франции. По его словам, у него всегда был в голове план немецкого союза, главами которого с равным вполне интересом были бы Австрия и Пруссия, одинаково сильные, чтобы поддерживать свою независимость и свои права против России и Франции; теперь для оправдания своего плана он ссылался и на то, что в русских отношениях большой беспорядок. В начале осени 1806 года, когда Пруссии грозил разрыв с Францией, берлинский двор высказал венскому желание, чтобы австрийские войска были сосредоточены в Богемии и в нужном случае без потери времени соединились с прусским и саксонским войсками, ибо Австрия и Пруссия фактически находятся в тесном соединении и падение одной влечет за собой неминуемо и падение другой.
В Вене, разумеется, естественно рождался вопрос: почему берлинский двор не находил такой тесной связи между обоими государствами, когда недавно Пруссии для поддержания Австрии следовало сделать именно то, чего она теперь желает от Австрии? По мнению Стадиона, только страх заставлял Пруссию сближаться с Австрией; чтобы не нести одной всей тяжести войны и разделить опасность или совершенно отклонить ее от себя, она желает загородиться Саксонией и Австрией. Решили признать принцип взаимного охранения, но этим и ограничиться; наблюдать осторожность в выражениях, чтобы в них не заключалось ничего более, кроме надежды, чтобы не было ничего похожего на обещание; а император Франц наказывал Стадиону, чтобы содержание депеш, отсылаемых в Берлин, сделать в еще более общих выражениях и менее обязательным. Но в Вене хотели воспользоваться удобным случаем, чтобы начать вооружения, не возбуждая против себя гнев Наполеона: когда он спросит, зачем идут вооружения, отвечать, что хотят составить наблюдательный корпус против Пруссии.
Наполеон по обычаю не хотел драться с двумя врагами вдруг и по обычаю закидал пестрыми речами графа Меттерниха, австрийского посланника в Париже. «Я не хочу, – говорил он, – быть германским императором, я хочу только некоторые земли теснее соединить с Францией, что делали и прежде французские короли и без чего Австрия и Пруссия прикарманили бы себе Германию. Я не хочу от вас ничего более; мы теперь будем жить мирно. Я знаю вашу армию: она так же хороша, как и моя, только деморализована. Мой солдат идет на битву с уверенностью в победе, а у вас – наоборот: вы можете бить пруссаков, русских и турок, но никогда – французов. Поверьте мне, все требует времени, и вы нуждаетесь в покое. Новая коалиция подвергла бы Австрию большим опасностям; две первые имели религиозную цель: то была борьба религии против неверия, монархии против республики. Генуя не была причиною войны; зачем вы ничего не требовали? Хотите знать основания прусских вооружений? Люккезини распространил слух, что я при переговорах с Россией поставил условием восстановление Польши под властью Константина, а герцог Клевский (Мюрат) должен приобресть Вестфалию. И вот прусский король бросает миллионы за окно, а я над этим смеюсь. Константина посадить на польский престол! Мысль об европеизме и здравая политика должны это отвергнуть. К чему тут русские? У меня 200.000 солдат в Германии; Пруссии надобно четыре месяца для окончания своих вооружений: я буду скорее в Берлине. Что прусская армия хочет драться – понятно, потому что она со мною еще не мирилась. Я хочу мира. Когда хотят создать флот, то нельзя драться на суше; тратить 250 миллионов ежегодно на корабли да еще держать 500.000 войска – дело неподходящее. А если бы Англии не было! Господь Бог нашел Францию уже очень красивою и потому посадил ей шишку: эта шишка – Англия!» Талейран предлагал Меттерниху союз между Австрией и Францией, предлагал забыть недавнее прошедшее и помнить, что лучшее время для Франции и Австрии было то, когда они были соединены теснейшим союзом. Но в Вене не хотели союза, то есть полного порабощения; Стадион твердил, что надобно пользоваться обстоятельствами и как можно скорее вооружаться. «Каждый час дорог, – писал он, – и малейшее промедление в такое важное время может потом повести к гибели монархии». Относительно России в Вене было решено поступить точно так же, как и относительно Пруссии; Стадион предписывал австрийскому посланнику в Петербурге говорить так, чтобы не отнимать у России надежду иметь Австрию впоследствии своею союзницей, но быть при этом крайне осторожным, чтобы не высказать чего-нибудь такого, что могло бы быть сочтено за обещание или обязательство.
Хотя в Вене не ожидали и не желали блестящих успехов Пруссии в войне, но весть о совершенном погроме Пруссии после Иены и Ауерштедта страшно перепугала. «Такой же разгром грозит теперь всей Европе», – писал Стадион. Не знали, что делать; император Франц спрашивал у всех мнения. Разумеется, нашлись люди, которые советовали сделать то, что в старину делали жители деревень при первом крике нападающих разбойников, – лечь ничком и не шевелиться, пока разбойники будут всем распоряжаться; нашлись люди, которые советовали принять совершенно пассивную политику и прекратить вооружения. Последнего не исполнили – в Богемию ввели войско, несмотря на запросы с французской стороны, задаваемые вместе с требованиями союза. Так как война затягивалась вследствие участия в ней России, то Наполеону нужно было не только удержать Австрию в нейтралитете, но и вступить с ней в союз, чтобы отнять у коалиции всякую надежду иметь ее когда-либо на своей стороне. Французский посланник в Вене Ларошфуко не требовал от Стадиона, чтобы Австрия соединила свои войска с французскими, а только чтобы был заключен договор, где бы стояло слово «союз»; за это Австрия получит что-нибудь, а в случае отказа придется ей нехорошо: союз будет заключен между Францией и Россией.
Угроза эта для Австрии соединялась с двумя вопросами – Польским и Восточным. В Париже толковали о восстановлении Польши и называли будущим королем ее Иеронима, брата Наполеона. Меттерних писал, что сообщаются статистические сведения по вопросу, будет ли Австрия достаточно вознаграждена Силезией за уступку Галиции. Император Франц боялся восстания поляков в Галиции, боялся, что Наполеон убедит императора Александра сделать противоположное тому, на что Фридрих II-й уговорил Екатерину, – отказаться от Польши и получить за это богатое вознаграждение на счет Турции. Франц не верил также и выходке Наполеона насчет занятия польского престола русским великим князем; боялся, что Наполеон согласится на это, чтобы только Россия не помогала Пруссии. «Вообще, я боюсь, – писал Франц, – что Франция и Россия, наконец, согласятся поделить между собою Европу, что всего опаснее для нас». Разрыв между Россией и Турцией по интригам Франции страшно беспокоил венских государственных людей; боялись успехов России в Турции; боялись, что Наполеон на помощь султану пошлет свои войска чрез австрийские владения. «Пламя войны, зажженное на Востоке, произведет пожар в целой Европе», – писал Стадион. И с русской стороны не скрывали, что готовы на всякие соглашения для изгнания турок из Европы, что если Россия приобретет Молдавию и Валахию, то Австрия может приобрести Сербию, Боснию и турецкую Кроацию.
В Вене чувствовали себя очень неловко, и господствующее мнение было, что Россия покинет Пруссию и воспользуется случаем, чтобы удовлетворительно для себя решить Восточный вопрос, – как вдруг получается известие, что из Петербурга отправлено особое лицо для переговоров с австрийским правительством, – лицо, хорошо известное в Вене: то был Поццо-ди-Борго, корсиканец, один из глав национальной партии на острове, ведший ожесточенную борьбу с французами и их приверженцами, к которым принадлежали Бонапарты. При торжестве национальной партии Бонапарты были изгнаны, но когда французы овладели островом, то пришла очередь Поццо покинуть отечество; он приютился сначала в Англии, потом в 1804 году вступил в русскую службу, удержав из своего прошлого заклятую ненависть к Бонапартам. Легко было догадаться, с какими предложениями мог явиться полковник русской службы Поццо-ди-Борго в конце 1806 года. Он передал императору Францу письмо от императора Александра: «Как бы ни была велика уверенность русского государя в своих собственных средствах для поддержания своих прав, не может он, однако, при настоящих обстоятельствах надеяться один спасти Европу от удручающих ее зол. У государя Австрийского в распоряжении значительные силы и выгодное положение: судьба мира будет зависеть большею частию от его решения. Война, которую французы ведут в Польше, направлена одинаково и против безопасности австрийских владений. Какой государь более императора Австрийского испытал лживость французских обещаний? Если он теперь решится вступить в войну, то император Всероссийский не положит оружия до тех пор, пока не достигнет всего того, что необходимо для будущей безопасности обоих государств». Хорошо знали, что главным противником войны против Наполеона будет эрцгерцог Карл, и он получил лестное письмо от русского императора: «Одним из самых действительных средств к победе император считает содействие и великие таланты эрцгерцога, который в предстоящей борьбе, конечно, увидит случай приобрести славу, подобную которой не знает история».
Начались переговоры с Поццо; английский посланник, при них присутствовавший, спешил отстранить главное препятствие соглашению между Россией и Австрией, поручившись, что Россия, пока находится в союзе с Англией, не приобретет ничего из турецких областей. Несмотря на то, переговоры не повели ни к чему; и письмо к эрцгерцогу Карлу не помогло: по-прежнему высказался он сильно за мирную политику, и решили соблюдать нейтралитет, но ни у Франции, ни у России не отнимать надежды на будущее. «Австрия, – объявил Стадион Поццо, – основывает свою систему не на общих положениях относительно критического состояния Европы, но на точном и хладнокровном расчете своих собственных отношений. Россия сама затруднила решение Австрии в пользу коалиции своим поведением относительно Каттаро и военным движением против Порты; Австрия не может принять предложения императора Александра, не ставя на карту существования монархии».
Отделались и от французского союза. Наполеон предоставил Австрии на выбор – удержать за собою Галицию или променять ее на Силезию. Таким образом, Силезия была такою же приманкою для Австрии, как Ганновер для Пруссии. Но в Австрии не пошли на удочку; Стадион отвечал, что императору не угодно меняться владениями и что Силезия как страна, еще не завоеванная французами и не уступленная им никаким трактатом, не может быть предметом переговоров.
Но, отделавшись от союза с обеими сторонами, не хотели оставаться в страдательном положении, хотели приобресть даром важное значение посредников, примирителей; принять это значение побуждала и боязнь: а что, если воюющие стороны помирятся и Австрия останется предметом неприязни для обеих? В главную французскую квартиру отправился из Вены генерал Винцент, который в самом конце 1806 года нашел Наполеона в Варшаве и был закидан, по обычаю, пестрыми речами: «Зачем Австрия вооружается? Насчет Польши могут быть покойны в Вене: желания польских ветрогонов исполнены не будут с французской стороны. С Россиею надобно покончить и обеспечить независимость Порты, чему Австрия может содействовать, не впутываясь в войну. Что касается Пруссии, то судьба хотела, чтоб император французов уничтожил против своего желания истинную союзницу турок и свою собственную союзницу против России и Австрии. С Австрией он не прочь от союза, и рано или поздно союз будет». Когда Винцент упомянул о посредничестве, то Наполеон отвечал: «Я этого не требую, но и не отвергаю; с Пруссией я уже начал сношения; с Россией я веду войну только из-за Порты; если в России захотят отстать от восточных планов, то я ничего больше не потребую; затем будет следовать мир с Англией, которая также не может смотреть равнодушно на занятие Молдавии русскими». Тут Винцент, не понявши, что Наполеон никак не хочет допустить, чтобы кто-нибудь взял что-нибудь у турок, проговорился очень некстати, что Австрии желательно иметь свою долю в добыче. «Австрийский интерес требует, – сказал он, – не позволять России овладеть Белградом и Оршовою, и если бы Австрия была обеспечена с французской стороны, то заняла бы эти места». Наполеон притворился, что не понял смысла слов Винцента, повернул этот смысл так, что Австрия хочет занять названные города только временно, для турок, и отвечал: «Я ничего против этого не имею, если Австрия согласится наперед с Портою, но во всяком случае австрийцы должны явиться в пределы Порты переодетые турками или сербами. Придет время, когда я, которого представляют злейшим врагом Австрии, явлюсь пред Веною с 100.000 войска, чтоб защищать Австрию против русских».
Увидавши, какое чувствительное место составляет для Австрии Восточный вопрос, с французской стороны тотчас воспользовались им как ловушкою. Талейран предложил Винценту уладиться насчет восточных дел, и из этого соглашения разовьется союз, основанный на взаимных интересах; только Франция и Австрия могут иметь решительный голос относительно судьбы Порты; Австрия союзом своим с Францией может принудить Россию к миру. Но в Вене упорно отвергали союз, настаивая по-прежнему на посредничестве, тем более что из Петербурга приходили успокоительные известия насчет Турции: Россия соглашалась заключить мир с Портою без всяких приобретений; в Петербурге принимали и мысль Стадиона о всеобщем конгрессе. Россия предлагала не трогать турецких владений, но Наполеон из слов Винцента догадался о желаниях Австрии и предложил заключить договор, тайный или явный – все равно, в котором бы постановлено было делить Турцию или оставить ее в целости. Но и эта приманка не помогла. Стадион говорил императору Францу, что вступить в союз с Францией при настоящих обстоятельствах, отделиться от остальной Европы, вступить в дружбу с Наполеоном и способствовать к собственному вреду укреплению перемен, произведенных с Пресбургского мира в Италии и Германии, принять участие в войне и биться против собственных интересов было бы в его глазах величайшим несчастьем.
В Вене постоянно ставился вопрос: кто опаснее для Австрии: Наполеон или Россия? На этот вопрос Стадион отвечал: «Настоящие отношения Франции к Австрии сокрушают наши государственные силы, отнимают независимость у нашей политики, высасывают все средства администрации; уже и теперь это настоящее порабощение; что же будет, когда военным счастием такие отношения утвердятся навсегда? Ничего подобного нет в отношениях к России, импонирующей извне своею массою, пред которою мы никогда не будем в равенстве. При военном счастии по географическому положению России ее влияние на Западную Европу никогда не может превратиться в господство, каким пользуется теперь Франция, и Россия всегда будет принуждена делить влияние с нами. Наша настоящая слабость пред Россией происходит большею частию от гнета, уничтожающего все наши государственные силы, и как скоро мы избавимся от политического ига Франции, то это даст нам в будущем силы выставлять надлежащее сопротивление и русскому преобладанию. Нельзя отрицать, что внешние обстоятельства с последнего ноября чрезвычайно выгодны для Австрии. Все, чего мы желали, случилось. Две великие силы Европы борются друг с другом и взаимно себя ослабляют. Война удалилась от наших пределов; у нас пятью месяцами более времени для восстановления своих сил. Если мы теперь этим не воспользуемся, то мы пропадем, и по своей вине пропадем».
Как в недавние времена при Кобенцле, воинственному министру иностранных дел возражал миролюбивый полководец, тот же эрцгерцог Карл. «Войска собраны, – писал он, – но находятся далеко не в удовлетворительном состоянии, многого недостает, все еще молодо, в зародыше. Новая выставка военных австрийских сил без соглашения с Наполеоном есть объявление войны. Наполеона обмануть нельзя». Голос полководца пересилил голос министра. Стадиону оставалось одно посредничество, и 1-го апреля (н. ст.) Австрия предложила его обеим воюющим сторонам. Наполеон принял предложение с условием шестимесячного перемирия и чтобы прежде всего было упомянуто о целости Порты. Для каждого было ясно, что Наполеону нужно было побывать во Франции и приготовить громадные средства для борьбы, чтобы решить ее поскорее в свою пользу, и для этого он требовал шестимесячного перемирия. Будберг отвечал, что Россия согласна на австрийское предложение, если венский двор представит с французской стороны основания для мира, могущие успокоить насчет успешного окончания переговоров. В том же смысле был и прусский ответ. Надежда на блестящую роль примирительницы исчезла для Австрии, а между тем приходили страшные вести, что воюющие стороны хотят заключить мир и без нее. В Вене засуетились, начались толки, переговоры о приступлении к коалиции; решили отправить Штуттергейма в русскую главную квартиру, чтобы поддержать сторонников войны, отклонить отдельный мир; а между тем громко раздавался голос австрийской Кассандры, эрцгерцога Карла: «Как только вы вступите в войну с Францией, армия непременно потерпит поражение и государство будет разрушено!» В Вене продолжали суетиться, Штуттергейм не уезжал…
Австрия была неисправима в своем отставании – ее нельзя было дожидаться; Англия, в которой прежде так смеялись над отставанием Австрии, последовала ее примеру. Знаменитых соперников – Питта и Фокса – более не было, и шла борьба между их партиями, которая мешала заняться как должно европейскими делами. Коалиция не существовала; император Александр один на развалинах Пруссии должен был вести борьбу с Наполеоном, осаждаемый людьми самыми близкими, которым он привык доверять, и эти люди твердили о необходимости мира, о невозможности продолжать войну; главнокомандующий был того же мнения – если двигался, то двигался поневоле; военные действия возобновились, и с успехом; но после успехов Беннигсен по-прежнему отступает, что раздражает и приводит в отчаяние пруссаков, которые приступают с жалобами к императору. То же самое роковое положение, какое было и пред Аустерлицем! Когда пришла весть, что Беннигсен отступил после удачного для него сражения под Гёйльсбергом, Гарденберг приступает к императору с представлениями, что в армии у него интриги в пользу мира, что брат его, цесаревич, во главе мирной партии.
Александр с жаром отвечает, что относительно великого князя все неправда и что все старания помешать достижению цели поведут только к противоположному. В армию отправлен был Попов с полномочием отнять у Беннигсена главное начальство и передать его генералу Эссену, если Беннигсен не двинется вперед. Наконец 2-го июня Александр был выведен из невыносимого положения, хотя лекарство было так же тяжко, как и болезнь: 2-го июня больной Беннигсен потерпел поражение под Фридландом.
Нет сомнения, что император Александр имел в виду мир в случае неблагоприятного исхода решительной битвы и потому немедленно согласился на представление Беннигсена о необходимости перемирия вследствие печального состояния армии, немедленно согласился и на предложение Наполеона начать тотчас же переговоры о мире. Война должна была продолжаться только в том случае, если бы Наполеон потребовал тяжелых условий для России и слишком тяжелых для Пруссии. Война, разумеется, могла продолжаться не иначе как она велась после, в 1812 году: русские войска должны были перейти свои границы, отступать внутрь страны, не давая битвы и завлекая все далее и далее. Конечно, естественно прийти к мысли, что дело должно было увенчаться успехом, как увенчалось им после, и, следовательно, Европа выиграла бы шесть лет. Но историк не может рассуждать таким образом. Каждое дело постепенно развивается, зреет и достигает полного развития, зрелости тогда только, когда соединяются все благоприятные для того условия.
В 1807 году война велась, во-первых, из-за Пруссии, чтобы не дать этому государству исчезнуть с карты Европы и не сблизить русские границы с границами Наполеоновой империи; во-вторых, вследствие поднятия самых важных для России вопросов – Польского и Восточного – нельзя было позволить Наполеону распорядиться Польшею и хозяйничать в Константинополе. Перенесение войны в русские пределы не имело смысла относительно Пруссии, ибо тогда она подпадала окончательно владычеству Наполеона и Фридрих-Вильгельм должен был бы переехать в Россию; точно так же должно было бы оставить на произвол Наполеона и Польшу; что же касается Турции, то возможно ли было вести войну на Дунае, имея неприятеля во внутренних русских областях?! Наконец, вспомним, что около Александра была сильна партия мира, которая твердила, что нельзя вести такую кровопролитную и разорительную войну из-за чужих государств; что же было бы, если бы оставалась та же видимая причина войны и война эта переносилась в русские пределы?
Таким образом, перенесение войны внутрь России в 1807 году было немыслимо, исключая один случай: если бы Наполеон предложил тяжелые мирные условия. Но понятно, что Наполеон никогда не мог позволить себе предложить подобные условия Александру и затянуть войну в бесконечность переводом ее на русскую почву. Наполеон с восторгом схватился за русское предложение перемирия и потребовал немедленных мирных переговоров. Ему представился теперь желанный случай не только заключить мир, но и союз с Россией. До сих пор при всяком своем захвате, насилии он встречал протест со стороны России, которая служила опорою для всякого, кто был обижен и хотел защищаться от Наполеона; Россия подразумевалась во главе всякой коалиции против Наполеона, всякого сопротивления ему; привлечь Россию на свою сторону значило для Наполеона развязать себе руки относительно исполнения всех замыслов, всех распоряжений в Европе, сломить всякое сопротивление; ибо кто мог восстать против него без России?
Вот почему Наполеон принял с необыкновенною ласкою и радушием генерала князя Лобанова-Ростовского, отправленного к нему императором Александром для предварительных переговоров. Он продержал его более пяти часов, говоря без умолку с необыкновенною живостью и веселостью; пригласил обедать, пил здоровье императора Александра, превозносил его похвалами, клялся, что всегда его уважал, всегда желал его дружбы, а теперь желает это доказать заключением с ним союза, полезного для обеих империй и необходимого для спокойствия Европы.
Когда Наполеон таким образом выражал свое удовольствие в неумолкаемых речах пред князем Лобановым, Александра удручала мысль, что он первый принужден был обратиться к врагу с мирными предложениями; он старался пред самим собою и пред другими оправдать этот шаг и придумывал, какие могли быть честные условия, на которых следовало помириться. Границы России должны остаться нетронутыми, иначе мир невозможен, но на руках Пруссия; Наполеон в полном праве, как завоеватель, требовать всевозможных уступок с этой стороны, и, чтобы умерить эти требования, надобно ему чем-нибудь заплатить с русской стороны: союзом с ним, разрывом с его врагами; надобно уступить относительно Восточного и Польского вопросов. «Мы потеряли страшное количество офицеров и солдат, – говорил Александр Куракину, – почти все наши генералы, и именно лучшие, ранены или больны; в армии осталось пять-шесть генерал-лейтенантов, не имеющих ни опытности, ни военных талантов. Мне нельзя продолжать войну одному, без союзников; Англия дурно вела себя с самого начала и теперь дает ничего не значащие обещания выставить 10–12.000 человек, не означая срока; субсидий обещает не более 2.000.000 фунтов в год, и эта сумма должна быть разделена между Россией, Пруссией и Австрией: этого слишком мало. Думаю, что Франция не захочет ничего потребовать из русских областей, а для возвращения Пруссии ее владений я предложу занятые нашими войсками Молдавию, Валахию и семь Ионических островов. Наконец, бывают обстоятельства, когда надобно думать преимущественно о самих себе, иметь в виду единственно благо государственное».
Александр думал о мире и его условиях; Наполеон думал о союзе, для которого готов был на уступки, еще более готов был на всевозможные обещания: это ему ничего не стоило, ибо ему ничего не стоило их неисполнение. Но прельстить обещаниями, закидать пестрыми речами, обмануть притворною искренностью, фальшивым добродушием всего легче было при личных сношениях; прельщать таким образом послов уполномоченных не достигало цели: впечатление ослабевало, исчезало при передаче; притом эти люди имели инструкции, были под властью, могущею отвергнуть все ими постановленное; другое дело, если бы можно было войти в сношения с самим самодержцем, с ним обо всем условиться один на один, его прельстить! Все самые сильные побуждения желать свидания с императором Александром были на стороне Наполеона; со стороны русского государя были также сильные побуждения вести дело непосредственно с Наполеоном. При живости своей природы Александр был страстный охотник лично вести переговоры, иметь непосредственные сношения с государями, влиятельными министрами, направлять совещания, уговаривать, улаживать; страсть усиливалась тем, что тут Александр мог твердо положиться на свои способности, мог надеяться выйти с победою; сюда присоединялась недоверчивость к людям: в одном подозревал он недостаток надлежащих способностей; в другом – нравственных качеств; в третьем при отсутствии этих недостатков подозревал какое-нибудь убеждение, не согласовавшееся с его собственным и могшее повредить в данном случае. После Фридланда, имея при себе Будберга, Чарторыйского, Новосильцева, Александр поручил важное дело ведения переговоров князю Лобанову – к общему удивлению, ибо в наружности, приемах и способностях именно к этому делу у Лобанова никто не видал достаточных условий для такого выбора. Но Будберг был горячий сторонник войны, отъявленный враг Наполеона и потому уже не годился для примирения с Наполеоном; что же касается Чарторыйского и Новосильцева, то мы видели, какое поведение позволяли они себе во время войны: они явно шли наперекор желанию императора толками о необходимости мира, о невозможности продолжать войну; как люди приближенные к государю, видные по своим способностям, они своими речами производили сильное впечатление, смущали, отнимали дух у военных, смущали, раздражали пруссаков.
Конечно, Александр не рассердился бы на них, если бы они ему одному открыли свои мнения, убеждая к миру: он привык с ними рассуждать и спорить обо всем, но они сделали себя главами партии и дали своим действиям характер интриги. И страсть их к миру была новостью, ибо прежде они были за борьбу с Наполеоном; другое дело – князь Куракин, который постоянно, с самого начала был за мир. Здесь, в этом поведении Чарторыйского, Новосильцева и Строганова, заключается причина неудовольствия на них Александра, вследствие чего потом «неразлучные» уже перестали иметь при нем прежнее значение; по неудовольствию на их поведение до Фридланда Александр не сделал их участниками переговоров с Наполеоном после Фридланда, что, разумеется, произвело в них неудовольствие, а непринятие Александром Наполеонова предложения относительно восстановления Польши окончательно отталкивало Чарторыйского и «неразлучных» с ним.
Но неудовольствие на Чарторыйского и Новосильцева, неимение людей, которым можно было бы поручить ведение переговоров при таких важных, решительных обстоятельствах, заставляли императора Александра сильно желать свидания с Наполеоном, лично условиться с ним о мире, союзе; важно было принять к сведению и то, что промелькнет как будто невзначай в потоке пестрых речей. Таким образом, побуждения к личному свиданию были чрезвычайно сильны у обоих императоров, и если один предложил его, то другой должен был сейчас же с радостью согласиться; кто предложил – решить пока нельзя по разногласию свидетельств, но скорее всего предложил Наполеон по характеру и положению своему; первое движение принадлежит нападающему, а напасть хотел Наполеон – Александр должен был защищаться. Как бы то ни было, желанное свидание произошло у Тильзита, на плоту, построенном среди Немана, разделявшего русскую армию от французской; потом это свидание повторилось, и переговоры о мире и союзе кончились между двумя государями; князья Куракин и Лобанов – с русской и Талейран – с французской стороны только формально были уполномочены для ведения переговоров и заключения договора. Этот знаменитый Тильзитский договор был ратифицирован 27-го июня.
Целью Наполеона было заключение не мира только, а союза с Россией; целью Александра было, во-первых, спасти сколько можно больше остатков прусского корабля, потерпевшего страшное крушение, а во-вторых, охранить русские интересы по вопросам Польскому и Восточному. Достижение первой цели было чрезвычайно трудно. Наполеон не мог не понимать значения Пруссии в Германии. Чтобы она не служила более помехою для Франции, необходимо было если оставить ей существование, то самое ничтожное; дать же ей сколько-нибудь значительные средства значило создать в ней для Франции непримиримого врага, который никогда не забудет прежнего значения и употребит данные ему средства для возвращения этого значения в ущерб Франции; особенно было неприятно восстановлять Пруссию в угоду русскому императору, ибо этим, естественно, поддерживалась и затягивалась тесная связь между Россией и Пруссией.
В интересах Франции было, чтобы в Германии не существовало крупных независимых владений; ей нужно было прусскими землями увеличить германские владения, вполне зависевшие от Франции; на востоке, вблизи России и Австрии, Наполеон хотел создать значительное государство, вполне ему преданное: таким была Саксония. Чтобы иметь в своем распоряжении прусские земли, чтобы император Александр отказался от заступничества за Пруссию, Наполеон предложил ему приманку: взять себе Восточную Пруссию до Вислы; потом еще большую приманку: взять польские области, принадлежавшие Пруссии, и принять титул короля Польского, иначе польские области Пруссии должны быть вместо немецких отданы саксонскому королю, если немецкие останутся за Пруссией. Александр не принял предложения. Для улучшения условий для Пруссии Александр отказался от наследства Екатерины II, княжества Иеверского между Фрисландией и Ольденбургом, в пользу голландского короля; отказался в пользу Франции от Ионических островов и от Бокка-ди-Каттаро. Пруссия, сохранив свой состав от Эльбы до Немана, сохранила драгоценное наследство от Фридриха II – Силезию, которую Наполеон хотел было присоединить вместе с польскими областями к Саксонии и на престол этого значительного государства возвести своего брата Иеронима, а саксонский король должен быть вознагражден Гёссеном и прусскими владениями на левом берегу Эльбы. Такое соседство Иеронимовых владений с Россией найдено препятствием для сохранения союза между двумя империями, и Наполеон признал за лучшее, чтобы между ними была независимая Пруссия с владениями от Эльбы до Немана. Польские области Пруссии под именем герцогства Варшавского отходили к саксонскому королю, а для Иеронима Бонапарта из прусских владений за Эльбою образовано было новое королевство под именем Вестфальского.
Так покончил император Александр Прусский вопрос, и в первой статье Тильзитского договора говорилось: «Император Наполеон из уважения к императору Всероссийскому и во изъявление своего искреннего желания соединить обе нации узами доверенности и непоколебимой дружбы соглашается возвратить королю Прусскому, союзнику е. в. императора Всероссийского, все завоеванные страны, города и земли, ниже сего означенные». Король Прусский оставался союзником русского императора – так он назван в договоре. Для подкопания этого союза Наполеон настаивал, чтобы Александр присоединил к России кусок прусской земли, действительно очень выгодный, – от устья Немана к границам Курляндии с гаванью Мемелем. Александр не взял, но согласился взять из польских земель, уже из доли короля Саксонского, Белостокскую область. При поднятии Польского вопроса это приобретение могло иметь значение; кроме того, император мог желать заставить молчать тех, которые говорили, что кровопролитная война велась даром, из-за Пруссии.
В связи с Прусским вопросом решился Польский, также удовлетворительнее, чем сколько можно было надеяться по обстоятельствам. Восстановление Польши в интересах Наполеона было задержано, оставлено на первой ступени: часть польских земель получила самостоятельное устройство, но под именем не Польши, а герцогства Варшавского, и должна была находиться под властью не брата Наполеонова, но короля Саксонского, и некоторая часть польских земель отошла к России. Относительно Восточного вопроса было сделано такое соглашение: если Турция не примет французского посредничества для примирения с Россией или, приняв его, не заключит мира в продолжение трех месяцев, то Франция соединится против нее с Россией и обе договаривающиеся стороны согласятся насчет средств избавить от турецкого ига и притеснений все области Оттоманской империи в Европе, исключая города Константинополя и провинции Румелии.
V. Эрфурт и австрийская война 1809 года
Некоторые были в восторге от Тильзитского мира и союза. Князь Куракин писал императрице Марии: «Русский Бог не перестает бодрствовать над нами и распространять на нас свои благословения! Россия выходит из этой войны со славою и счастьем неожиданным; у нее заискивает враждебная держава, имеющая решительный перевес сил на своей стороне и победившая нас. Ничего не потеряв из своих владений, Россия приобретает новые, приобретает для своих польских областей новую военную границу. Россия становится ангелом-хранителем прусского короля, который видит в императоре своего спасителя и получит из его рук большую часть своих владений, которых не умел ни охранять, ни защищать».
Но далеко не все русские люди могли быть в таком восторге от Тильзитского мира. Самое непродолжительное спокойное размышление над явлением достаточно было для перемены взгляда, создавшегося под первым впечатлением. Естественно и необходимо рождался вопрос: для чего были эти заискивания со стороны победоносной силы у державы побежденной? – и ответ был один: для того, чтобы последняя, оставаясь еще достаточно сильной и опасной, не мешала победителю в дальнейших замыслах; и какие это могли быть замыслы? При тильзитских свиданиях у Наполеона вырывались слова искушения: «Разделим мир!» Но искушение должно было исчезнуть опять при первом спокойном размышлении. Дележ мог иметь одно основание: для Франции – Запад, для России – Восток; Франции на Западе оставалось добрать Пиренейский полуостров; России в соответствие следовал Балканский. Но император французов уже и теперь не допускал такого, по-видимому, столь естественного дележа; на Балканском полуострове оба императора должны были действовать вместе и делиться, там была уже указана и местность, на которой начертано: «пес plus ultra». Что же, спрашивается, остается России при дележе мира? Дележ был неравный и вел к новой борьбе по своей чересполосице. Очевидно, Тильзитский мир был только перемирием; выгода его для России состояла только в том, что давала ей необходимую передышку, время собраться с силами и дать для этого время другим. Наполеону нужно было перемирие, нужен был фальшивый союз с Россией, чтобы осуществить свои планы на Западе; Александру нужно было это перемирие и фальшивый союз с Францией, чтобы иметь известное время свободные руки для действий по вопросам Восточному и Польскому; дальнейший ход их, разумеется, должен был привести к борьбе с Наполеоном, но для этой-то борьбы и нужно было отдохнуть, приготовиться, не спуская глаз с Наполеона: что он еще задумает, как будет далее истощать меру долготерпения народов, где и как споткнется на пути захватов?
Тильзитский мир был необходим, и условия его были выгодны для обеих сторон: для Наполеона – тем, что останавливали помеху его замыслам со стороны России; для Александра – тем, что останавливали вредные для России замыслы Наполеона и относительно Германии – сохранением Пруссии, и относительно Польского вопроса – не восстановлением Польши, а образованием только герцогства Варшавского, следовательно, остановкою на зародыше, и относительно Восточного вопроса – посредничеством Франции вместо враждебного ее действия. Нет никакого основания предполагать, чтобы император Александр смотрел иначе на Тильзитский мир и видел в нем более необходимого перемирия. Он сам не мог быть доволен положением, которое было создано для него Тильзитским миром и союзом с Наполеоном; он, как государь, должен был наложить на себя тяжкую обязанность не выражать этого неудовольствия, но другие, многие и многие, будучи недовольны, громко жаловались и обвиняли того, кто принял на себя всю ответственность, устроивши непосредственно новые отношения. Сознательно и бессознательно в русских людях вкоренилось убеждение, что отношения России к Западной Европе, к Наполеону, как они существовали до сих пор, были самые правильные, согласные с достоинством и значением России; вкоренилось убеждение, что на Западе в лице Наполеона воплотилось хищничество, попрание всех международных прав, порабощение народов и что Россия высказала этому протест, не признала прав силы и насилия, постоянно боролась с насильником, защищая слабых. Аустерлиц произвел тяжелое впечатление, тем более что от неудач военных давно отвыкли, но неудача не переменила отношений, и после Аустерлица Россия осталась в том же возвышенном положении, готовая продолжать борьбу, защищать слабых от насилия. Но теперь, после Тильзита, это возвышенное положение было потеряно; русский государь, бывший постоянно верным святому знамени, которым гордилась Россия, теперь бросил его, протянул руку, побратался с тем, кого привыкли называть врагом рода человеческого.
И для чего? Настоящие побуждения, политические соображения были скрыты, и все отнесено к лицу, его чувствам и впечатлениям. Война была ведена дурно, потерпели поражение, испугались и отдались в руки победителю, заключили с ним союз – для чего? Союз с Наполеоном – значит, постоянная война, ибо он постоянно воюет, и Россия будет теперь ходить на войну, куда он захочет, – союз! И прежде всего ссора с Англией, естественной, всегдашней союзницей, прекращение выгодной, необходимой торговли, и за все это Наполеон дал Белостокскую область, отнятую у нашего же союзника, прусского короля. Начавшаяся немедленно Шведская война усилила неприятное впечатление: война с государем, который был нашим постоянным союзником, который стал виноват тем, что остался верен знамени, покинутому нами; вот прямые следствия союза с Наполеоном – война, бесконечная война в угоду врагу рода человеческого! И все приписывалось одному лицу, ибо все сделано им одним: не было никакого Гаугвица, никакого Ломбарда для отвлечения. Вот уже седьмой год – и ни в чем нет удачи!
Если тяжело было положение императора Александра после Аустерлица, то эта тяжесть не значила ничего в сравнении с тяжестью положения настоящего. Он знал все, знал даже в преувеличенном виде благодаря людям, находившим свои выгоды напугать его, представить слова делами или близкими к делу; он знал, как смотрели на Тильзит, и не мог не уважать оснований этого взгляда. Он не переменял системы, не отказывался от борьбы с Наполеоном, не верил его словам и обещаниям, ибо и человек с менее тонким умом, чем у императора Александра, не мог им верить; но не мог не признать, что имелось основание толковать о крутой перемене системы, о слабости, непостоянстве человека, способного к таким переменам, о невозможности полагаться на него; самый снисходительный отзыв мог состоять в том, что он был обольщен Наполеоном. Как страшно должно было страдать самолюбие!
Много было сделано для Пруссии; чувствовалась нравственная необходимость сделать это, потому что было обязательство, Пруссия была отклонена от отдельного мира с Францией в конце 1806 года и потом после Эйлау. В России люди, некогда самые близкие, не принимая во внимание нравственных отношений, упрекали за пожертвования чуждым интересам; но по крайней мере в Пруссии были довольны? Нисколько! Александр делал пожертвования, доказывая, что на него можно положиться, что он не изменяет своим союзникам, не забывает своих обязательств, но в Пруссии именно Александр объявлен был человеком, не способным выдерживать, человеком, бросающим своих союзников в беде, на которого поэтому полагаться нельзя. И этот обвинительный голос послышался из уст человека, который пользовался особенным расположением Александра, который ему был обязан настоящим своим положением, – Гарденберга.
Он стал толковать, что Александр был обойден Наполеоном при тильзитских свиданиях; Александру не следовало здесь вступать в борьбу при таком неравном оружии: Наполеон далеко превосходил его опытностью, лживостью и энергией, да еще опирался на хитрого Талейрана, тогда как от Александра он отстранил всех помощников, говоря: «Государь! Я буду вашим секретарем, а вы – моим». Гарденберг решился говорить, что помощь, оказанная Пруссии Александром при тильзитских переговорах, была не сильнее помощи, оказанной оружием. Наконец, Гарденберг решился сказать королю, что при всем его злополучии считает его счастливее Александра, у которого Наполеон умел отнять честь. Раздражение Гарденберга объясняется общим раздражением в Пруссии. Как во время войны надеялись, что с приходом русских сейчас же победа, изгнание французов и выгодный мир, и, когда надежда не исполнялась, начали кричать против русских, так и теперь, при мирных переговорах, надеялись, что император Александр выговорит для Пруссии самые выгодные условия, и, когда условия не понравились, начался крик против Александра.
До чего доходили несбыточные надежды в Пруссии при открытии мирных переговоров, свидетельствует прусский проект мирного договора. Гарденберг вообразил себя Фридрихом II-м, и не Фридрихом II-м после куннерсдорфского поражения, когда великий король в отчаянии хотел лишить себя жизни, что было бы сходно с положением после Фридланда, но Фридрихом II-м в семидесятых годах XVIII-го века, когда он благодаря счастливому выходу из Семилетней войны имел громадный авторитет, громадное влияние на дела Европы. Фридрих II-й в это время воспользовался благоприятными обстоятельствами, нежеланием России вести двойную войну с Турцией и Австрией, уговорил Екатерину II-ю удовольствоваться самыми умеренными приобретениями от Турции и вознаградить себя на счет Польши, причем и Австрия с Пруссией также получили вознаграждение от Польши неизвестно за что. Теперь Гарденберг хотел сделать то же самое, только наоборот: восстановить Польшу и разделить Турцию в пользу Пруссии, и хотел он это сделать после страшного погрома, который потерпела Пруссия, после того как почти все ее владения были заняты неприятелем, следовательно, хотел стать гораздо выше Фридриха II-го.
План состоял в том, что Пруссия уступала свои польские владения (кроме департаментов Познанского, Данцигского и Торнского) для восстановления Польши, которая отдавалась королю Саксонскому, а Саксония с Лужичами отходила к Пруссии. Последняя уступала Франции Вестфалию, но зато брала себе земли по северному берегу Майна, также города Любек и Гамбург; сверх того, приобретала верховную власть над мекленбургскими и саксонскими герцогствами и другими мелкими владениями Северной Германии. Хотели, таким образом, сделать неслыханное чудо: государство, потерпевшее страшное поражение, завоеванное и не сделавшее ничего для своего восстановления, выходило из борьбы более сильным и округленным, чем было прежде; хотели сделать, чтобы известные слова: «Горе побежденным!» – сменились словами: «Счастье побежденным!» Но чтобы Франция, Россия и Австрия не очень удивлялись этому чуду (другой причины не видно), Гарденберг предлагал им заняться войною с Турцией, после которой они получали право разделить между собою европейские владения Порты таким образом: Россия получала Молдавию, Валахию, Бессарабию, Болгарию, Румелию с крепостями на азиатском берегу; Австрия – Далмацию, Боснию, Сербию; Франция – Фессалию, Ливадию, Негропонт, Морею, Кандию и острова Архипелага; в Турции же получали долю: король Фердинанд Неаполитанский получал Албанию и семь Ионических островов взамен Сицилии, отходившей к Иосифу Бонапарту; король Сардинский получал Македонию. Понятно, что если таковы были надежды, то каково же было раздражение, когда узнали тильзитские условия относительно Пруссии с прибавкою, что ей возвращаются известнее земли только в угоду русскому государю.
Александр, заключая мир и союз в Тильзите, имел в виду Польский и Восточный вопросы, но Наполеон очень хорошо понимал, что эти вопросы могут повести очень рано, раньше, чем ему было нужно, к новым столкновениям и борьбе между Россией и Францией; ему хотелось отвлечь внимание русского государя на другую сторону, с юга и запада на север, в местность поближе к его столице, чем Молдавия и Валахия. Всего выгоднее было бы для Наполеона, если бы у России началась война с Швецией: Россия может легко занять Финляндию, но Швеции трудно будет согласиться уступить ее; война затянется, англичане будут поддерживать шведов, и Александру не будет времени думать ни о турках, ни о поляках, ни о ком-либо другом. Как знаменитый гастроном умеет указать неопытному в чревоугодии собеседнику лакомый кусок, так мастер в деле захвата чужих областей Наполеон указывал в Тильзите Александру на необходимость взять Финляндию у Швеции. «Шведский король, – говорил он, – в каких бы отношениях случайно к вам ни находился, постоянно он ваш неприятель географический. Петербург слишком близко к шведской границе; петербургские красавицы не должны больше из домов своих слышать грома шведских пушек». Этими словами Наполеон намекал на последнюю Шведскую войну при Екатерине II-й.