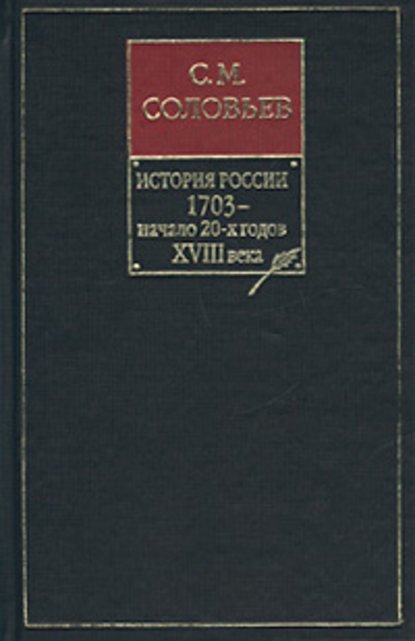По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История России с древнейших времен. Книга VIII. 1703 – начало 20-х годов XVIII века
Жанр
Год написания книги
2009
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Письмо не могло понравиться, а тут еще были получены письма Репнина к Меншикову, где говорилось, что фельдмаршал доносит несправедливо о состоянии войска, что Огильви в постоянной переписке с королем Августом, но, о чем идет у них дело, никто не знает, что носится слух о походе из Гродно к Варшаве. Петр отвечал Репнину: «Как слышим, что иттить к Варшаве – весьма не надобно, и отнюдь того не делать; тако ж ежели о саксонцах такой подлинной ведомости не получите (при принятии сего письма), что оные конечно Вислу перешли и идут к вам, а неприятель от вас тем часом ежели отдалится так, что вам возможно будет без всякого труда отойтить, тогда, для бога, не мешкав, подите к рубежам, куда удобнее; тако же буде недалеко ушли те четыре полка, которые с королем пошли, взять с собою же, буде возможно; артиллерию, тяжелые пушки, ежели везть невозможно, то, разорвав, бросить в воду. Буде же о саксонцах получите подлинную ведомость, а провианта можете доставать и надеетесь, что до весны или приближения саксонского станет оного, то будьте в Гродне. О! зело нам печально, что мы не могли к вам доехать, и в какой мысли ныне мы есть, то богу одному известно». То же самое написал Петр и Огильви; начало письма замечательно: «Мы с немалою прискорбностию от вас письма выразумели, в которых такие необъятые тягости наваливаете, сами ж единою бумагою и пером щититесь и во всем нас, винных, творите, что мы не по вашей воле чинили, и не точию настоящее, но прошедшее паки повторяете и вместо веселости тугу прилагаете: однако ж, все сие презирая, прошу, чтоб вы по сему учинили, за которое я вам буду надмеру благодарен и, когда прибуду к вам, так учиню, что вы никогда жаловаться не будете». Тогда же Петр написал Августу: «Ни о чем ином, точию о сем просим, дабы ваше величество не изволили наших в сем опасном случае оставить, но ак скорее с войском приближиться, паче же провиантом как возможно скорее удоволить, что вашему величеству не трудно учинить, будучи ныне свободной стороны, где неприятель прешкодить (нанесть вреда) не может. Ежели при сем малом провианте какое зло сему нашему главному войску случится, то уже нечего вашему величеству с нашей стороны уповать». Август оправдывался, что выехал из Гродно для того, чтоб придвинуть войско свое к этому городу, и выехал уже тогда, когда неприятель отступил. Петр отвечал: «За сие благодарствуем, однако ж не без сомнения, дондеже делом сие исполнится». Август представлял, что нельзя этою зимою опасаться вторжения неприятеля в Московское государство, и просил поспешить присылкою субсидий, без которых ему ничего нельзя будет сделать. Петр отвечал: «Про неприятеля подлинно ведать невозможно, но то ведомо, что уже он наших отрезал от наших границ. Ожидаем со стороны его величества о войсках подлинного слышать о сикурсе нашем, в чем его величество или вечно разорит, или обяжет нас».
Чтоб дать гродненскому войску сикурс повернее саксонского, Петр велел гетману Мазепе двинуться из Волыни к Минску и писал к Репнину 17 февраля: «Гетман в скорых числах будет к Минску; станем мы также в три или четыре дни в Минске; Козаков несколько тысяч уже в Бресте, и для того зело потребно, чтоб провиант из Бреста чрез Козаков привезть к вам, для чего пошлите и от себя и о сем, для бога, трудитесь, и если возможете до половины марта провианта, то лучше вам быть у Гродни; ибо мы, с помощию божиею, надеемся, вскоре случась с гетманом, вам добрый ответ дать. С восемь тысячь имеем старых солдат, кроме рекрут, а с рекрутами более пятнадцати, кроме курляндских». К Огильви написал: «Слышим о великой скудости у вас провианта; гетманские козаки уже давно в Бресте, и для чего оттоль не велите провианта привезть, не знаю. Для самого бога сие как наискорее учините, чтоб людей в довольстве содержать, которое паче многих добрых дел вам почтено будет, и я зело буду за оное благодарить вам».
«Рубежи наши зело голы, а наипаче всего конницею», – писал Петр Апраксину и потому велел от Смоленска до Пскова везде, где леса есть, зарубить рядом на 300 шагов широтою; ежели в котором месте валом легче, нежели лесом, тут не рубить, а делать вал по первой ростали. Эту линию весть, не смотря, чья земля, наша или литовская, только смотреть, где скорее, удобнее и легче можно сделать. Где воды глубокие или болота непроходимые, тут, для скоростей, не делать засеки. Делать это поголовно, с великою поспешностию, ближайшими уездами, русскими и польскими.
Среди этих распоряжений настигла страшная весть, что на саксонский сикурс не может быть никакой надежды; в начале февраля при Фрауштадте саксонское двадцатитысячное войско под начальством Шуленбурга было разбито в прах шведским генералом Реншельдом, у которого было не более 12.000 войска; большая часть русского вспомогательного отряда, находившегося у Шуленбурга, была варварски истреблена шведами, не хотевшими щадить и сдававшихся. Это изумительное при такой разнице в числе людей поражение Петр сначала приписал измене, зная, как саксонцы недовольны войною короля своего с шведами, и в этом смысле писал Головину 26 февраля: «Ныне уже явна измена и робость саксонская, так что конница, ни единого залпу не дав, побежала, пехота, более половины киня ружья, отдалась, и только наших одних оставили, которых не чаю половины в живых: бог весть какую нам печаль сия ведомость принесла, и только дачею денег беду себе купили. Сим же случаем и измена Паткулева будет явна, ибо совершенно чаю, того для он взят, чтоб сей их изменной факции никто не сведал. При сем прошу вас, чтоб вы в добром числе рекрутов москвичей (а паче конных, хотя б и еще из людей боярских по небольшому положить) и в прочем трудились. Мы меж тем будем стараться о выручке своих гродненских (которые, слава богу, еще в довольстве обретаются), и уже полки отсель пошли к Минску, куда и мы завтра поедем и там случимся с гетманом Мазепою».
Петр поехал в Минск, отправивши в Гродно следующее приказание: «По несчастливой баталии саксонской уже там делать нечего, но дабы немедленно выходили из Гродни и шли, по которой дороге способнее и где ближе леса, а буде вскроется Неман, то лучше, перешед Неман, идти на левую руку, потому что неприятель чрез реку не может так вредить, тако ж по той дороге гетман и иные наши войска с ним; однако ж полагается то на их волю, куда удобнее, а по которой дороге пойдут, о том нам прежде походу для ведома наскоро писать, дабы можно было нам с конницею их встретить, и, как возможно, курьеров нанимать, на что не жалеть денег. Брать с собою что возможно полковых пушек и другое что нужное (в чем зело смотреть, чтоб не отяготиться, взять зело мало, а по нужде хотя и все бросить), а достальное, а именно артиллерию тяжелую и прочее, чего увезти будет невозможно, бросить в воду и ни на что не смотреть, только как возможно стараться, как бы людей спасти. Отошед из Гродни миль 10 или как случится, когда крепкие места, а именно леса, начнутся, разделить всю армию баталионами или полками, как лучше по рассмотрению, и поход учредить разными дорогами, по которым разверстать все войско, чтоб шло врознь, а не всем корпусом, дабы неприятель всею силою на весь корпус не напал, где может свободно выиграть, нежели потерять. А когда войско наше в рознице будет, тогда невозможно будет неприятелю всю армию атаковать, разве только на один баталион или полк нападет, который хотя и разорят, в том буди воля божия, однако ж не все в атаке будут, а волооких партий опасаться нечего, хотя и сильные будут, только можно верить, что на наш на один баталион смело не нападут. Прежде выхода из Гродни все (кроме пушек и пороху), яко суть ножи и прочая, зело тайно пометать в воду. Сей выход из Гродни зело надлежит тайно сделать таким образом: перво поставить такой крепкий караул, чтоб из жителей никто не точию выйти, ниже выполсть не мог, и в то время как возможно скоро и тайно собраться, пушки изготовить те, кои к походу, а прочие держать на их местах (того для ежели неприятель сведает, от чего боже сохрани, и придет, а пушки прежде выходу брошены будут, то тотчас штормовать будет, и вам борониться будет нечем); потом, когда идти, взять вдруг всем пушки солдатам с траншамента и вдруг, сведчи с горы, бросить в воду (для чего проруби надлежит заранее изготовить) и потом тотчас идти. Сей поход надлежит учинить с вечера и не поздно, чтоб ночью осталось больше времени, в котором бы далее можно идти до крепких мест, и зело в том тщиться, чтоб полистые места (поля) перейти ночью. Лошадей из Гродни тутошних жителей, кто они ни есть; тако ж еже и скудость провианта из монастырей и домов, и тако ж в чем нужда есть, взять нужное без крайнего разорения, а лошадей всех. При выходе надлежит конницу позади оставить, чтоб в траншаменте и у мосту была до утрее (дабы неприятель не мог пометать выходу) или и больше, по делу смотря; о полонениках полагается на рассуждение и совет воинской. Все чинить по сему предложению, и паче по своему рассмотрению, и не смотреть ни на что, ни на лишение артиллерии, ни остаточного не жалеть, токмо людей по возможности спасать».
Вслед за этим наказом Петр еще несколько раз писал Огильви и Репнину, чтоб непременно выходили из Гродно. «Ныне уже ни единый вид обретается, – писал он к Репнину, – чтоб вам быть в Гродне, ибо пред тем надежда была на саксонцев, ныне же хотя б и пришли, то паки побегут и вас одних оставят: того для ни о чем, только о способном и скором выходе думайте, несмотря на артиллерию и прочие тягости, как я вам пред сим пространнее писал. О выходе совет мой сей (однако ж и вашей воли не снимаю, где лучше): изготовя мост чрез Немон, и кой час Немон вскроется, перешед при пловущем льду (для которого льда не может неприятель мосту навесть и перейтить Немон), и иттить по той стороне Немона на Слуцк (которая добрая фортеция, и в нем добрая артиллерия и наш гварнизон и магазейн); однако ж надлежит при первом взломании льду поход учинить, прежде нежели малые речки пройдут, когда уже невозможно будет иттить. Мы у вас в левой руке от неприятеля будем, при нас войск регулярных с 12.000 человек, которых половина на лошадях, а у других у двух сани, кроме гетманских нестройных обретается; иного пути не знаю, ибо везде неприятель передовыми занять и сам отрезать может, о чем прошу скорого ответа: куды пойдете, чтоб нам ведать и вам дать с своей стороны отдух. Ныне получили мы ведомость, что по приходе шведов в Вильню уже добрую партию отрядили к Полоцку; о чем паки подтверждаю; конечно (при взломании льда, а буде сыщете способ, то лучше б и прежде) по сему учините без всякой отговорки и описки».
Но Огильви был другого мнения; на указы Петра он отвечал, что хочет еще подержаться в Гродно до более благоприятного времени; если выйти теперь, то король шведский может в 24 часа стянуть все свое войско и погнать русские полки; если покинуть Гродно, то вся Польша и Литва склонятся на сторону шведов, и вся тяжесть войны обрушится на Россию; лучше б простоять целое лето в Гродно.
«Что до лета хочете быть, и о сем не только то чинить, но ниже думать, – отвечал Петр 12 марта, – понеже неприятель, тогда отдохнув и получа корм под ноги, не отойдет от вас легко, к тому ж и Реншильд придет (понеже саксонцы паки скоро не сберутся), к тому же и Левенгаупт будет, ибо мы уже указ послали, чтоб курляндские замки подорвать и идти пехоте чрез Двину к Полоцку, потому что ежели до тех пор стоять, как Двина разойдется, то им пропасть будет, а конницею станем чинить неприятелю диверсию. О отдалении неприятеля не надобно думать, ибо для того весь поход его был и ныне стал в тех местах, чтоб нам что ни есть сделать, от чего боже сохрани, а смотреть, чтоб не отрезал, и то можно учинить, когда пойдете или на Брест, или меж Бреста и Пинска, и как можно скоро сперва пойтить, чтоб зайтить за реку Припеть, которая зело есть болотистая, и там можно по воле к Киеву или к Чернигову идтить: и так неприятелю никоим образом отрезать будет невозможно, а сзади хотя и станет гнать, то не может вас догнать, ибо с пехотою невозможно, а с конницею не будет вам силен; к тому же надлежит не одною дорогою идтить, то не будет ведать, куды сколько пошло, и не может разделиться неприятель. Сие же писание оканчиваю тем, что первого разлития вод (или и ныне буде возможно) конечно не пропускайте, но с божиею помощиею выходите, чем нас зело обяжете и удовольствуете; противное же, ежели по сему не учините и до травы стоять станете, то уже сие дело не за доброго слугу, но за неприятеля почтено будет».
Пославши это решительное приказание Огильви, на другой день, 13 марта, Петр сдал начальство над войском Меншикову, на которого совершенно полагался, и отправился в Петербург в самом печальном расположении духа. Семь дней тому назад он писал Апраксину: «О здешнем писать, после баталии саксонских бездельников, нечего; только мы с приближающимся Лазарем (днем Лазарева воскресенья) купно в адской сей горести живы, дай боже воскреснуть с ним». Остановившись на несколько дней в Нарве, царь писал Меншикову: «Пути моего было, кроме простоя, пять дней и несколько часов, где, слава богу, все добро, и от сего дня в 6 или 7 дне поеду в Питербурх. Но токмо еще души наши на мытарствах задерживаются, о чем сам можешь рассудить. Боже, даруй воскресением своим радость!» Из Петербурга 7 апреля писал к тому же Меншикову: «Я не могу оставить, отсель не писать к вам из здешнего парадиза, где, при помоществовании вышнего, все изрядно; истинно, что в раю здесь живем; точию едино мнение никогда нас оставляет, о чем сам можешь ведать, в чем возлагаем не на человечью, но на божию волю и милость».
Наконец бог дал радость: 24 марта, в самый день Светлого воскресенья, русское войско вышло из Гродно, воспользовавшись, как писал Петр, вскрытием Немана, по мосту, заранее приготовленному, а 27 числа встретил его Меншиков. Расчеты Петра оправдались: Карл более недели не мог преследовать русских вследствие вскрытия Немана, а когда шведы навели мост и перешли через реку, то русские были уже у Бреста. Дальнейшее преследование весною в болотистой стране было невозможно, и Карл, давши отдохнуть своим войскам на Волыни, отправился в Саксонию, чтоб покончить с Августом. Петр был в восторге, получивши известие о благополучном выходе своего войска из Гродно. «Min Bruder! – писал он Меншикову 29 апреля. – С неописанною радостию я господина Старика от вас с письмом получил, будучи во флоте у Кроншлота на корабле („Олифанте“) виц-адмирала, и той же минуты, благодаря бога, со всего флота и крепости трижды стреляно, а каковы были сему радостны и потому шумны, донесет Старик вам сам. Истину сказать, что от сей ведомости вовсе стали здесь радостны, а до того, хотя и в раю жили, однако всегда на сердце скребло». Лечение задержало царя в Петербурге целый май месяц. «О бытии моем (т.е. о приезде к войску) не извольте сомневаться, – писал он Меншикову 10 мая, – ибо конечно в конце сего месяца поеду, а ранее того невозможно, ей, не для гулянья, но дохтуры так определили, чтоб, по пускании крови жильной (которая вчерась отворена), две недели на месте принимать лекарство, и потом тотчас поеду, ибо сама ваша милость видел, каково мне было, когда разлучены были от войска мы. О здешних поведениях сомневаться не изволь: ибо в рае божии зла быти не может».
Между тем, не зная еще о походе Карла XII на Саксонию, боялись, чтоб он не овладел Киевом; Меншиков, именем царским, велел всему войску двинуться к этому дорогому для России городу; Огильви протестовал, требуя, чтоб пехота охраняла Киев и Смоленск, а конница разбросалась по рекам Припяти, Горыни, Стыри, Случе. Огильви жаловался беспрестанно царю, что Меншиков похищает себе его власть; Петр молчал, Меншиков распоряжался: так, когда получена была в Киеве ведомость о взятии Астрахани Шереметевым, Огильви не велел стрелять из ружья в знак торжества, а Меншиков распорядился сам стрельбою. 25 июля Петр объявил, что вышним командиром над всем войском оставляет фельдмаршала Шереметева, Огильви же дается 13 полков, ибо в условиях с ним постановлено, что он будет иметь всегда отдельный корпус, хотя и будет состоять под командою первого фельдмаршала российского. Наконец Огильви был уволен в сентябре 1706 года; по этому случаю Шафиров писал Меншикову: «Невзирая на все худые поступки, надобно отпустить его (Огильви) с милостию, с ласкою, даже с каким-нибудь подарком, чтобы он не хулил государя и ваше сиятельство, а к подаркам он зело лаком и душу свою готов за них продать».
Меншиков проводил время в Киеве не в одних ссорах с наемным фельдмаршалом. «Я ездил вокруг Киева, – писал он Петру 12 мая, – также около Печерского монастыря и все места осмотрел. Не знаю, как вашей милости понравится здешний город, а я в нем не обретаю никакой крепости. Но Печерский монастырь зело потребен, и труда с ним будет, немного: город изрядный, каменный, только немного не доделан, и хотя зачат старым маниром, но можно изрядную фортецию учинить, да и есть чего держаться, потому что в нем много каменного строения и церквей, а в Киеве-городе каменного строения только одна соборная церковь да монастырь; городовое основание великое, и, ежели его крепить, зело нелегок станет». 4 июля приехал в Киев Петр, нашел, что Данилыч прав, и 15 августа заложил фортецию около Печерского монастыря; постройку ее должны были принять на себя малороссийские козаки.
Распорядившись укреплением важнейшего города юго-западной границы, Петр поспешил к границе северо-западной, чтоб воспользоваться уходом Карла в Саксонию и обеспечить свой парадиз со стороны Финляндии. И октября он осадил Выборг, но осада пошла неудачно, и царь должен был возвратиться в Петербург. Счастливее был Данилыч, который повел войско в Польшу против оставленного там Карлом генерала Мардефельда. В Люблине соединился он с королем Августом и писал Петру: «Королевское величество зело скучает о деньгах и со слезами наедине у меня просил, понеже так обнищал: пришло так, что есть нечего. Видя его скудость, я дал ему своих денег 10.000 ефимков. Правда, что последняя его скудость: понеже на Саксонию надеяться нечего». Петр отвечал: «Писал ваша милость, что король скучает о деньгах. Сам ты известен, что от короля всегда то, что: «дай, дай, деньги, деньги !», в чем сам можешь знать, каковы деньги и как их у нас мало; однако ж ежели при таком злом случае постоянно король будет, то, чаю, надлежит его в оных крепко обнадежить при моем приезде, который я потщуся самым скорым путем исправить». 18 октября Меншиков, ведя с собою и короля Августа, встретил шведов у Калиша. «Неприятеля, – писал он царю, – при Калише мы нагнали, который был в 8000 шведов и в 20000 поляков и нас ожидал с таким желанием, чтоб с нами баталию дать, к чему зело в крепких местах стал, имея круг себя жестокие переправы, реки и болото; однако ж мы, несмотря на те крепости, но больше уповая на крепкого в бранях господа, по отправлении по обыкновению воинской думы, устроясь как надлежит, с оным полную баталию дали, на которой в непрестанном огне ровно три часа были; однако ж, помощию божиею и счастием вашим, такую мы счастливую викторию получили, что неприятелей на месте положили – шведов с 5000 да поляков с 1000 человек. Не в похвалу доношу: такая сия прежде небываемая баталия была, что радостно было смотреть, как с обеих сторон регулярно бились, и зело чудесно видеть, как все поле мертвыми телами устлано».
Петр запировал в своем парадизе и пропировал три дня, получив «неописанную радость о победе неприятеля, какой еще никогда не бывало». При Калише кроме победы над Мардефельдом Меншиков выиграл еще пред историею процесс свой с Огильви, показав, что русское войско не нуждается в наемном фельдмаршале.
Торжество Петра было непродолжительно: вслед за неописанною радостью он узнал, что оставлен союзником своим Августом, что швед уже не увязнет более в Польше и все бремя войны надобно будет взять на одни свои плечи.
Карл XII не встретил в Саксонии ни малейшего сопротивления; все бежало, что только могло бежать, оставшиеся обложены были тяжелыми податями в пользу шведов. Король Август тщетно надеялся, что другие державы не позволят Карлу вступить в Саксонию и тем нарушить нейтралитет Германии: много было представлений на словах и на бумаге, но никто не посмел тронуться против непобедимого шведского героя. Король Август решился пожертвовать Польшею, чтоб не потерять или по крайней мере не истощить вконец наследственной Саксонии, и вступил в переговоры с Карлом. 13 октября в замке Альтранштадте, недалеко от Лейпцига, тайно подписан был договор уполномоченными с обеих сторон: Август отказывался от польской короны, признавал королем польским Станислава Лещинского, прерывал союз с русским царем, освобождал Собеских, выдавал Паткуля и русских солдат, находившихся в Саксонии, обязывался содержать на счет Саксонии шведское войско в продолжение зимы. Август согласился на все и между тем не решился объявить Меншикову, дал только знать Мардефельду о мире и советовал не вступать в сражение, но Мардефельд не поверил ему, и Август должен был участвовать в калишской битве, должен был участвовать и в варшавских торжествах, бывших по случаю победы, и, когда пошли слухи о мире, уверять, что все это неправда.
Так продолжалось, пока Меншиков не выступил с русским войском из Варшавы в Жолкву на зимние квартиры. При Августе остался князь Василий Лукич Долгорукий, приехавший на время вместо родственника своего, князя Григория. Только 17 ноября Долгорукий узнал о переговорах Августа с Карлом и немедленно имел объяснение с королем; тот объявил: «Трактую для того, что не вижу другого способа спасти Саксонию от разорения; надеялся я на цесаря и его союзников, но теперь явно, что Саксонию оборонять не хотят. Отдать Саксонию на разорение – нечем будет продолжать войну. Саксония будет разорена, с Польши доходов нет, царское величество деньгами не помогает; если по разорении Саксонии неприятель вступит в Польшу, то ваши войска отступят за свои рубежи, и я с своим малым войском воевать в Польше не могу; мира в то время, хотя бы и хотел, не сыщу, а если б и сыскал, то не лучше нынешнего, только Саксония будет разорена. Если царское величество согласится мне помогать деньгами ежегодно в определенное время, то пусть объявит, и если по трактатам с царским величеством получу удовлетворение, то больше ничего не потребую: несмотря на разорение Саксонии, буду продолжать войну; трактатов с неприятелем не окончу, не дождавшись ответа от царского величества». Но на другой день другие речи: «Невозможно мне Саксонию допустить до крайнего разорения, а избавить ее от этого не вижу другого способа, как заключить мир с шведами, только по виду и отказаться от Польши с целию выпроводить Карла из Саксонии, а там как выйдет, собравшись с силами, опять начну войну вместе с царским величеством. Союза с царским величеством я не нарушу и противного общим интересам ничего не сделаю». 19 ноября пред рассветом Август уехал из Варшавы для личного свидания с шведским королем, велевши чрез польских министров сказать Долгорукому, что союз с царем непременно будет содержать до конца войны, и как скоро неприятель выйдет из Саксонии, то с двадцатипятитысячным войском возвратится в Польшу: пусть царь держит это в тайне, а явно пусть объявляет о нарушении союза.
Долгорукий поехал в Краков, чтоб, несмотря на отречение Августа, удержать вельмож его партии при русском союзе. Меншиков писал царю из Жолквы 24 ноября: «Пред сим за неделю были превеликие морозы и снег, ныне же воздух теплый и грязь великая, однако ж постоянного времени трудно ожидать, понеже, каковы люди здесь постоянны, таково и время. Сам уже изволишь рассудить, как зело потребно суть милости вашей здесь быть в таком нынешнем противном случае; однако ж не изволь о том много сомневаться, хотя король нас и оставил. А ежели вскоре милость ваша да благоволите к нам быть, то мочно скоро другого короля выбрать, к чему поляки, чаю, при вас будут склонение иметь, которых мы ныне ничем так более не обнадеживаем, точию скорым сюда вашим пришествием, которое всегда разглашаем».
Петр «по тем ведомостям пошел в Польшу, дабы оставшую без главы Речь Посполитую удержать при себе». 28 декабря он приехал в Жолкву, где собрались Меншиков, Шереметев, князь Григорий Долгорукий, необходимый при совещаниях о польских делах, не было первого министра, боярина адмирала Федора Алексеевича Головина. Он умер летом 1706 года в Глухове, на дороге в Киев. Об отношениях покойного к царю можно видеть из письма Петра к Апраксину: «Ежели сие письмо вас застанет на Москве, то не извольте ездить на Воронеж; будешь на Воронеже, изволь ехать в Москву, ибо хотя б никогда сего я вам не желал писать, однако воля всемогущего на то нас понудила, ибо сей недели господин адмирал и друг наш от сего света отсечен смертию в Глухове; того ради извольте, которые приказы (кроме Посольского) он ведал, присмотреть и деньги и прочие вещи запечатать до указу. Сие возвещает печали исполненный Петр». Титул адмирала наследовал Апраксин; Посольский приказ перешел к верховному комнатному Гавриле Ивановичу Головкину, получившему потом звание канцлера. Головкин был один из самых приближенных людей к Петру с его малолетства. Когда Петр был за границею, Головкин писал к нему шутливые фамильярные письма, подписываясь: Ганка, например: «Милостивый мой, здравствуй множество лет, а я жив. Пожалуй, хотя по строчке пиши о своем здоровье: можешь то рассудить, что того желаю, а мы с Павлюком живем да редьку в пост жуем, а ученье его зело тупо с природы, учит вечерню. Павлюк приболел, и не однова (не один раз), и Лаврентий, доктор, смотрел и сказал, что на болезнь его в аптеке лекарства нет, а называет ту болезнь ленью. А сват начал учить псалтырь. Медведь и лисица пишут». Или: «Медведь, волк и лисица у меня и грамоте учатся, а хотя то тем животным и несродно, однако правда». Во время войны Головкин находился при Петре и употреблялся для исполнения важных поручений, причем шутливые письма продолжались, например: «В письме ваша милость напомянул о болезни моей, подагре, будто начало свое оная восприяла от излишества венусовой утехи: о чем я подлинно доношу, что та болезнь случилась мне от многопьянства; у меня в ногах, у г. Мусина на лице. Но тое болезнь, кроме отца нашего и пастыря (Зотова), лечить некому».
Еще покойный Головин на помощь себе, особенно на время отсутствия своего из Москвы, выдвинул из переводчиков Посольского приказа даровитого Петра Павловича Шафирова и дал ему титул тайного секретаря; при Головкине, когда тот получил титул канцлера, Шафиров переименован в вице-канцлеры, или подканцлеры.
Головкин начал свое новое поприще важным делом. В половине февраля 1707 года явилось в Жолкву изо Львова великое посольство генеральной конфедерации: краковский воевода князь Вишневецкий, мазовецкий воевода Хоментовский, литовский маршалок Волович. На конференциях с верховным комнатным Гаврилою Ив. Головкиным и другими министрами послы объявили, что на Львовской раде сенаторами и Речью Посполитою постановлено отправить их к царскому величеству с полномочием для наилучшего впредь от царского величества к ним вспоможения и сбережения. Прежде всего послы потребовали, чтоб Украйна, бунтовщиком Палеем отобранная, немедленно была возвращена республике. Министры отвечали, что Украина будет возвращена, как только для приема крепостей будет кто-нибудь прислан от республики. Потом послы объявили, что им от войск царских великое разорение, особенно от кавалерии и офицеров: не только обыкновенный провиант берут хлебом и мясом и лошадям фураж, но офицеры берут по своим прихотям кто что захочет и чего в иных местах, именно в деревнях, купить и промыслить нельзя, например корицу, сахар, гвоздику, лук, перец, огурцы, сельди, пиво, мед, вино; если где этого не сыщется, правят большие деньги, берут под провиант подводы и лошадей, чего уже терпеть больше нельзя, ибо и самим владельцам от подданных своих насущного хлеба уже мало что осталось. Им и от шведского войска легче было, потому что теперь на каждый дым для провианта по 50 злотых польских выходит, кроме подвод. Речь Посполитая рассуждает, что по союзному договору следовало бы только 12 тысячам царского войска быть на польском провианте, а теперь наведены такие многочисленные войска и все содержатся на счет республики; во многих воеводствах, где уже провиант забран на несколько месяцев, опять берут. Речь Посполитая знает подлинно, что у царского величества на все войско, особенно офицерам, идет денежная плата, которою можно довольствоваться, и потому просит сделать ей облегчение в зимовом провианте, спрашивать его только для рядовых, а не для офицеров, а если в том льготы не будет, то Речь Посполитая на шесть месяцев летних, считая с мая месяца, давать провианту не обещает и не хочет.
Министры отвечали, что, кроме положенной порции излишнего ничего у них не берется и брать накрепко закажется. Царские войска введены к ним по их желанию, по союзному договору, заключенному для охранения жизни и вольностей их от неприятеля. Польза для них от этих войск явна в отобрании у неприятеля крепостей и в других случаях, а без провианта войскам никак пробыть нельзя. Посольское заявление о недаче провианта на шесть летних месяцев царскому величеству будет очень неугодно, потому что у его величества на это войско издержаны многие миллионы; этих миллионов надобно было бы спрашивать на Речи Посполитой, однако не спрашивается. Послы потребовали уплаты по договору двухмиллионов злотых, без чего нельзя будет набрать войска на следующую кампанию. Министры отвечали, что уже выдано в то число 40.000 рублей на войско коронное и 30.000 на литовское, хотя и не довелось давать преждевременно, ибо в договоре положено давать при войске в мае месяце. 40.000 на коронное войско дал король Август от своего имени, а не от царского, возражали послы. Министры отвечали, что договоренного числа войска прошлый год поляки не выставили. Из посольских речей было видно, что если царь согласится уволить Речь Посполитую от дачи провианта, то они не станут требовать обещанных в договоре миллионов. Петр велел объявить им решительно, что от дачи провианта они уволены быть не могут, но, утешая Речь Посполитую, он велел выдать ей польским счетом полмиллиона, а московскою монетою 50.000 рублей. Потом послы жаловались на разоренье от козаков и калмыков и требовали, чтоб польским и литовским жителям дано было из царской казны вознаграждение за пограбленные пожитки. На это министры отвечали, что виновным в каком-нибудь воровстве пощады не будет, а чтоб за воров платить из казны, то дело не статочное и нигде того не повелось: заплатят одному, сейчас же найдется много других, у которых и ничего не взято. Для всяких расправ в обидах учреждены с обеих сторон комиссары: генерал-поручик от артиллерии Брюс вместе с польскими комиссарами будет давать удовлетворение по жалобам. Послы не переставали домогаться, чтоб донских козаков и калмыков вывести из Польши, а если понадобятся легкие войска, то могут быть употреблены польские полки. Петр велел отвечать, что регулярному войску безлегкой конницы никак быть нельзя; обид не будет, потому что за них будут отвечать генералы.
«С сими шалеными едва могли дело совершить», – писал Петр к Меншикову, уведомляя его, что «все подписали и подтвердили все трактаты с нами, тако ж и универсал готовить начали, понеже на мере уже поставлен и срок 16 по их, а по нашему пятое мая». Для прекращения грабежа от войск Петр выдал следующий указ находящимся в Польше генералам: «Всяких денежных и прочих сверх указных взятков и поборов, а наипаче разорения и обид конечно б самим вам не чинить и под командою вашею обретающимся людям запретить под опасением живота и смерти».
Обещали утешить Речь Посполитую 50.000 рублей, но столько денег неоткуда было взять, можно было дать только 20.000. Поляки не соглашались взять меньше половины, не отставали от своих требований насчет Украйны. Отдать им эту Украйну теперь, когда ждали в Польшу Карла XII, когда королем польским оставался шведский посаженник Станислав Лещинский, было бы крайне неблагоразумно; раздражать отказом считали также вредным. 29 сентября Головкин писал Петру из Варшавы: «Вчерашнего числа получили мы от гетмана Синявского и от бискупа куявского письма и его, бискупово, рассуждение цыфирью. По которому бискупову рассуждению и с общего совета с г. генералом князем Меншиковым за потребно рассудили мы послать к войску коронному Емельяна Украинцева одного, без денег, но токмо с одним письмом к гетману Мазепе для утехи им, будто об отдаче Украйны, и хотя такое письмо и посылаем, однако ж писали к нему, гетману, особливо тайно, чтоб он потому не отдавал и удерживал всячески, промедливая время. А денег нынешнего определенного числа (20.000) с ним, Емельяном, послать поопасались по совету бискупову, чтоб тем числом денег их к вящему неудовольствию не привесть под нынешний неприятельский выход, понеже они великого числа денег желают, а когда они 20.000 пожелают, то немедленно мы оные пошлем». На войско можно было не посылать денег, но нельзя было не давать секретных пенсий разным влиятельным лицам, чтоб не перешли к неприятелю. Так, шестидесятишестилетний служака, думный дьяк Емельян Украинцев, приехав в Люблин к правительству Речи Посполитой, доносил, что великого государя жалованье примасу Шенбеку, бискупу куявскому и подканцлеру коронному отдал секретно ночным временем, как они сами того желали, маршалку конфедерацкому eщe не отдал, потому что в суете пребывает, многие у него и он у многих бывает. «Подканцлер мне говорил приватно, – писал Украинцев, – что теперь в войске коронном после гетманов самый сильный человек в слове и деле люблинский воевода Тарло, который сам просил у великого государя милостивого призрения, а именно, во-первых, чтоб дали ему денег, во-вторых, чтоб назначено было ему место в России на всякий нужный случай, когда шведы возьмут верх; в-третьих, чтоб ему в этом месте дали дом, двор и пропитание; до сих пор Тарло ничего не получил, даже и милостивого обнадеживания. Ион, подканцлер, свидетельствуясь господом богом в своей истине, служа и радея его величеству в общих интересах обоих государств, доносит и предлагает, чтоб тому воеводе послано было жалованье, хотя бы 2000 рублей, чтоб он в нынешнее время не был в чем противен стороне царского величества».
В октябре велено было Украинцеву отдать полякам 20.000 рублей на войско и грамоту к гетману Мазепе об отдаче Белой Церкви, но гетманы, великий Адам Синявский, и польный Станислав Ржевуский, и другие правительственные лица отвечали ему единогласно, что двадцати тысяч мало, не только принять, но и объявить в войске такую ничтожную сумму они не смеют; если услышит об этом войско, то от них, гетманов, отступит и царскому величеству будет повреждение; они думали, что будет к ним прислано сто тысяч и больше, ибо по союзному договору обещано давать ежегодно по 200.000 рублей, также и Украйну царское величество изволил отдать, и по сие время исполнения никакого нет, только проводят их одними обещаниями да, сверх того, упрекают их в неверности, а они договоров держатся постоянно и во всем верны; и теперь если неприятель явится к баталии и царские генералы потребуют их к себе, то они готовы. Украинцев говорил им, что при министрах царских и при войске денег теперь мало, а когда пришлются из Москвы, тогда будет указ и о прибавке на польское войско; об отдаче Украины, отобранной Палеем, у него грамота министерская к Мазепе. Но поляки твердили свое, что на присылку денег нет им надежды, также и на отдачу Украины, потому что и прежде Мазепа получал об этом министерские письма, но не исполнял по ним. «Хотя я ведаю и надеюсь, – писал Украинцев Головкину, – что господин Мазепа по письму вашему не отдаст Украйны, однако я этого письма не отдал полякам, потому что бискуп куявский писал мне: если и это письмо окажется по-прежнему неправдивым и Мазепа Украины не отдаст, то мы от себя совершенно гетманов, войско и всю Речь Посполитую отгоним». Гетманы прислали сказать Украинцеву, что если войско не получит на одну четверть царского жалованья, то отступит, пойдет к неприятелю, и им, гетманам, делать будет тогда нечего. Украинцев писал Головкину: «Денег по сие время еще я никому не давал, ибо вижу, что ни в одном нет истины; повадили мы их такими дачами и даем деньги, то все равно что в огонь бросаем или в воду сыплем напрасно. Бискуп советует мне дать три тысячи маршалку конфедерации Денгофу, а тот и с другими, с кем знает, поделится. И я рассуждаю, что доведется ему дать: он в войске конфедерации силен, и все его любят, и конфедерация составлена у них для того, чтоб стоять за веру и вольные выборы королевские, и на присягу ныне они подписываются не для нас, но крепятся и вяжутся между собою для себя, но при том и нас в присяге написали явственно. Платим деньги войску их и их дарим, а потом портим все свои дела и дружбу малым грабежом. Меня оглушили жалобами. Бискуп жаловался, что в его бискупии все пограблено и ксендз знатный пытан и повешен. Бог весть, правда ли это? Я не верю и говорил бискупу: можно было бы повешенного ксендза привезти к судьям; ваши управляющие сами покрадут ваше имение да и скажут, что козаки и калмыки пограбили: во всем надобно свидетельство и розыск. Как я вижу, – продолжает Украинцев, – в государеву казну из тех грабежей нет в приходе ничего, а швед, что в костелах побрал серебра, с городов и мест денег, то все в его казну пришло. Если воеводы мазовецкий и любельский станут домогаться, чтоб им в нужное время быть за Днепром, в Чернигове или Нежине, и им бы того не позволять, потому что опасно от таких голов всякого в малороссийских городах плевосеятельства к возмущению и бунту, и ныне если они Украйну отберут, то надобно того же от них накрепко опасаться, а в нужный случай могут они и без нас спастись: под боком у них Молдавия, Валахия, Венгрия, в Прусах Королевец и другие места, а у нас можно им побыть разве на Луках, в Торопце, под Псковом, в Опочке, кроме Смоленска».
Паны надумались и взяли 20.000 рублей; кроме того, Украинцев дал 5000 бискупу куявскому и маршалку конфедерации. Оглушая Украинцева жалобами на грабежи от русского войска, поляки ничего не говорили о своем шляхтиче Выжицком, который зазвал к себе в гости ехавших чрез местечко Дуб семеновских гвардейцев и перерезал ночью сонных: двоих офицеров, сержанта от пушкарей и девять человек солдат. Петр был сильно раздражен и велел объявить польскому правительству: «Сие мне зело печально о таких добрых офицерах и солдатах, которых я с молодых лет с собою растил, а ежели их так здесь станут трактовать, то мы наперед контровизит сделаем». На требования Украинцева, чтоб высланы были немедленно в Брест комиссары и судьи на общие суды, гетманы и бискуп отвечали: «Мы знаем, что вы добиваетесь комиссаров и судей не для других каких дел, а только для вершения дела шляхтича Выжицкого с товарищами; и мы, радея царскому величеству, объявляем, чтоб в нынешнее время Выжицкого с товарищами в Бресте не казнить, потому что он в Польше знатный шляхтич и имеет свойство с домами высокоблагородными, чтоб от того в вольном нашем народе не поднялся ропот и не вкоренилась противность, и без того от разорения и грабежей, которые причиняют главные офицеры-иноземцы, и козаки, и калмыки, в войске, между всеми сенаторами и шляхтою и всяких чинов обывателями, духовными и мирскими великий вопль, вздохи и слезы, а на нас, гетманов, нарекание и злоба, будто мы за них не стоим, тогда как и у нас в имениях то же делается; так мы советуем, чтоб Выжицкий с товарищами за вину свою не был тут казнен, в Бресте, и свезти бы его подальше в Литву, на Белую Русь или в иное место, как Синицкого, который и больше ратных русских людей побил, и казну пограбил, однако не казнен».
В конце года Украинцев писал Головкину: «Не верят поляки нам и опасаются, чтоб мы, оставя их, не заключили с шведом мир с уступкою всего завоеванного. В нынешнее время помощи от них нам не ожидаю; больше всего смотрят и берегут своих интересов; говорил мне бискуп, что и то нам от них помощь, что в нынешнее время лежат они неутралами, к неприятелю не склоняются и на его предложения отвечают, что они в союзе с царским величеством и от него не отступят. Козаков наших хорошо бы с ними не соединять; сам я слышал от гетмана: если они с ним соединятся, то он знает, как с ними поступать: либо целы будут, либо пропадут. Хочет он, гетман, просить у гетмана Мазепы именно полковников Михайлу белоцерковского и Танского: оба они здешней стороны, и козаки у них в полках почти все палеевцы: опасно, чтоб вовсе при них не остались и там начало пристанищу польскому в Украйне не положили, потому что поляки сделают их полковниками здешних же, заднепровских городов. Проговариваются, что если мы Украйны им не уступим, то будут ее заезжать. Теперь здешние все стали веселы и между собою банкетуют и пригарживаются, слыша, что неприятель со всею силою идет на нас в Литву, думают, что и Станислав Лещинский не отстанет от него. Гетман Синявский о взятии жены своей неприятелем попечалился с неделю, а приехав во Львов, стал опять весел и едва не каждый день банкетует».
Нейтральным желанием этих банкетующих господ Петр не мог быть доволен. Чтоб сосредоточить в Польше силы, противные Карлу и Лещинскому, и дать им сколько-нибудь правильное движение, нужен был король, и в мае 1707 г. Петр отправил ксендза Шембека к королевичу Якубу Собескому с предложением польской короны. Шембек получил инструкцию: поспешив как можно скорее к королевичу, изобразить ему правдивое и прилежное желание царского величества и станов Речи Посполитой к персоне его милости, чтоб он немедленно принял корону польскую. Предложить все способы, которыми королевич свободно на престоле удержаться может, а именно что царское величество ему как всеми войсками, так и деньгами помогать будет и, не утвердя на престоле, не оставит. Прилежно стараться, чтоб королевич сам немедленно поспешил сюда на раду или чтоб немедленно секретного министра своего с полною мочью и желанием о короне к царскому величеству и к Речи Посполитой прислал, с обнадеживанием приезда своего, как скоро будет выбран королем. Если бы королевич Якуб сам не захотел принять короны и согласился бы на ее счет с братом своим Александром, то трактовать точно так же и с последним. Если оба королевича подлинного решения не дадут и станут проволакивать время, то объявить им, что это уже последнее от царского величества предложение и государь немедленно станет заботиться о избрании нового короля мимо их. Если королевич согласится принять корону и потом будет лишен ее шведами, то царь обязывался дать ему и жене его в пожизненное владение одну из пограничных западных русских провинций.
Собеский не решился вступить в борьбу с непобедимым королем и отказался от царского предложения. Смелее был поднявшийся против императора седмиградский князь Рагоци, уполномоченные которого заключили 4 сентября договор с Головкиным, кн. Григорием Долгоруким и Шафировым. Рагоци обещал Петру принять польскую корону, если будет выбран вольными голосами; Петр давал ему те же обещания, какие и Собескому. Между прочим, было условлено: если швед в нынешнюю кампанию в Польшу не пойдет, то королевские выборы отложить, а между тем при посредничестве Франции и Баварии попытаться заключить мир с шведами, но переговоры по этому поводу не должны продолжаться более четырех месяцев начиная с первого сентября старого стиля; если по истечении этого времени переговоры не поведут ни к чему, то Рагоци без дальнейшего отлагательства должен принять польскую корону; если швед со всеми силами возвратится в Польшу, то Рагоци не должен считать этого препятствием к принятию короны. Царь обещает приводить добрыми способами императора к возвращению вольности венгерской и седмиградской. Рагоци принимал корону только при условии выбора вольными голосами: но избиратели удерживались постоянными внушениями из Саксонии, что король Август не думает отказываться от польской короны и непременно явится в Польшу с войском. То же самое давали знать царские агенты при германских дворах Урбих и Лит, пересылая обещания и требования старого союзника. Головкин писал по этому случаю Петру из Минска 21 ноября: «Изволишь нам на Августово дело и требование последнее свое изволение прислать, а мы подаем вашему величеству по должности своей в рассуждение, что, како мы чаем, едва ли он без дачи денежной пред выездом еще из Саксонии тот договор с вашим величеством совершить склонится ль? А давать ему деньги, не видав подлинной надежды к выходу его и к начинанию против шведа паки войны, не может никто советовать. И мы писали к Литу, дабы он в приезд Флеминга (Августова министра) в Берлин всяким образом старался их от того запросу ясными доводами, что того чинить без самого действа и начинания Августова невозможно, а то действо ничем иным, кроме вступления его в Польшу, утвердиться не может. И тако той дачи ему от вашего величества давать наперед не мочно».
Наконец к Головкину явился посланный от Августа Шпигель с просьбою, чтоб его непременно отпустили к царю для личных объяснений. «Рассудили мы за благо, – писал Головкин царю 24 декабря, – Шпигеля отпустить к вашему величеству, у которого, государь, изволишь доношение Августово в удобное время выслушать и отправить его с милостию, дабы тем Августа о склонности вашего величества к нему весьма уверить и к скорому выходу в Польшу охоты ему додать».
Но без решительного военного успеха с русской стороны нельзя было додать Августу охоты к скорому выходу в Польшу. Также напрасны были старания заключить сколько-нибудь выгодный мир со Швециею при посредстве западных держав. В январе 1706 года, перед отъездом своим в Белоруссию навстречу Карлу XII, царь, будучи у голландского резидента фон дер Гульста, сказал ему: «Эта война мне тяжка не потому, чтоб я боялся шведов, но по причине такого сильного пролития крови христианской; если благодаря посредничеству Штатов и высоких союзников король шведский склонится к миру, то я отдам в распоряжение союзников против общего врага (Франции) тридцать тысяч моего лучшего войска». Голландия отмолчалась; попробовали затронуть Англию.
Еще в 1705 году приехал в Москву чрезвычайный английский посланник Витворт для исходатайствования торговых выгод и в разговоре с Головиным распространился о доброжелательстве своей королевы к его царскому величеству, утверждал, что английскому посланнику в Швеции наказано предлагать посредничество королевы к примирению между Швециею, Россиею и Польшею, и если у царского величества и у короля польского придет к генеральному миру с шведом, то королева готова быть посредницею и будет искать пользы России. Головин спросил, не имеет ли посланник от королевы какого указа о предложении посредничества к примирению России и Польши с Швециею? Витворт отвечал, что ему наказано предложить королевино посредничество, смотря по поступкам шведского короля, по его намерению и склонности к миру, но теперь, едучи дорогою, был он нарочно в Силезии и Данциге и проведал подлинно, что у шведского короля нет никакой склонности к миру, поэтому он не может ничего предложить царскому величеству. В конце 1706 года Петр велел ехать в Англию Андрею Артамоновичу Матвееву: «Понеже сие место ныне принципальное в мочи у всего алиирта». Матвеев должен был напомнить королеве Анне обещание посредничества, данное через Витворта, просить немедленно приступить к делу и представить, что в благодарность за это царь вступит в их «великую алианцыю ». Если, сказано в инструкции Матвееву, английские министры станут отговариваться, что теперь им это посредничество нельзя предложить шведу за французскою войною, швед его не примет, то отвечать, что они должны приступить к делу для собственной пользы: нельзя им позволять шведу так усиливаться, потому что он явно держит сторону Франции, вопреки своим обещаниям вступил в области Германской империи и самовластно распоряжается в Саксонии, разоряет ее до основания, чтоб дать отдых французу и поддержать венгерский бунт. Если английские министры спросят, какая польза им будет от союза с царским величеством, то объявить, что царь пошлет войска свои, куда им будет нужно, доставит материал на их флот, может послать войска свои в Венгрию для укрощения тамошнего бунта, который так вреден союзникам, оттягивая силы Австрии и давая отдых Франции. Союзникам легко принудить Швецию к миру: стоит только послать эскадру в Балтийское море и возбудить короля датского и других князей империи; что же касается условий мира между Россиею и Швециею, то царь отдает это дело на волю королевы, выговаривая одно, чтоб возвращенное в нынешнюю войну его оружием отеческое достояние осталось за Россиею; царь отказывается от всяких великих запросов и даже обещает некоторую уступку и относительно основного требования. Посол должен был объяснить, как выгодно будет для англичан, когда Россия получит удобные пристани на Балтийском море: русские товары будут безопасно, скоро несколько раз в год перевозиться в Англию не так, как теперь из Архангельска; русские товары станут дешевле, потому что балтийские пристани близко от Москвы и от других значительнейших городов и водяной путь к ним удобный. Матвеев мог предложить немедленно же написать торговый трактат. В черновой инструкции было тут приписано: «Буде потребно, мочно во обнадеживание их написать, что не изволите великих воинских флотов на том море иметь». На это Петр собственноручно написал: «Зело потребно, только о числе (т.е. кораблей) еще прежде времени не давать знать».
Если посол, продолжает инструкция, увидит невозможность уговорить английский двор исполнить желание царского величества, то должен искать способа, как бы склонить на свою сторону Малбурка , и казначея Годольфина, и секретаря северных посольских дел и обещать им немалые подарки; поступать при этом осторожно, разведав, склонны ль эти министры ко взяткам, также остерегаться, чтоб даром чего не раздать. Здесь Петр собственноручно написал: «Не чаю, чтоб Малбурка до чего склонить, понеже чрез меру богат, однако ж обещать тысяч около двух сот или больше».
По желанию английского двора Матвеев мог заключить договор и с министрами других союзников. Последняя статья черновой инструкции оканчивалась вопросом: если союзники возьмутся устроить мир только на том условии, чтоб за Россиею осталась одна гавань на Балтийском море, а все другие завоевания возвратить шведу, то как тут поступать Матвееву? На это Петр написал: «В сей статье не отказывать, но испросить на доношение, тако ж и о границе; буде же по самой крайней мере (о чем надлежит смотреть под потерянием живота) придет до того, что ни времени не дадут на описку, а скажут так – или делать, или больше примать не будут, то чинить свободный договор, однако ж граничение без описки отнюдь не делать и сие чинить, видя последнее».
В начале мая 1707 года приехал Матвеев в Лондон и дал знать в Россию, что «с первого случая нашел к себе обхождение господ англичан приятное; только из внутреннего исполнения действ больше буду ожидать впредь, нежели из внешностей». Трудности не замедлили представиться: правление не самодержавное, без парламента королева ничего сделать не может, а главное, две факции – тори и виги: одни держат сторону королевы и ее союзников, другие – сторону наследника из дому ганноверского и его союзников, т.е. шведов, вследствие чего английский двор представился Матвееву многоличным . Представившись королеве, Матвеев имел конференцию, с государственным секретарем Гарлеем, по требованию которого подал письменное предложение о союзе. Ответа на это предложение долго не было. Матвеев объяснял эту медленность тем, что английское правительство находится в большом затруднении: с одной стороны, боится затронуть могущественного короля шведского, находящегося в Германии, с другой – не хочет оскорбить и русского царя, с государством которого англичане производят такую выгодную торговлю. Матвеев ездил в Виндзор с докуками , чтоб занялись поскорее его делом; один ответ – недосуг. Матвеев сердился; особенно сердился он на английских купцов, торгующих с Россиею, что не помогали ему ни в чем своим влиянием, как по главному делу о союзе, так и в его требованиях, чтоб Англия не признавала Лещинского королем польским и не гарантировала Альтранштадский мир; он писал Головкину, что в России надобно поприжать английских купцов и таким образом заставить их проснуться и хлопотать за русские интересы: «Много я потерял труда, ходя за теми мужиками, английскими купцами, но они, кроме одного Стельса, не только не оказали мне никакой помощи, даже и ответа не дали, и никого из них я у себя не видал, только раз были у меня по моем приезде с своими рассказами суетными».
Наконец Гарлей в приятельском разговоре сам объявил Матвееву, что русское дело отложено по той причине, что королева при настоящих обстоятельствах не хочет ссориться ни с Россиею, ни со Швециею, тем более что Карл XII объявил решительно, что не затронет Австрии. Держать, однако, Матвеева слишком долго без ответа было нельзя, и в конце августа сама королева объявила ему, что готова вступить с царем в великий союз; в начале сентября приехал к нему Гарлей потолковать о содержании ответной грамоты королевиной к царю: в грамоте королева объявляла явно о своем вступлении с царским величеством в великий союз и, как скоро получится на это согласие Голландии, обещала немедленно объявить, на каких условиях этот союз должен быть заключен, причем королева изъявила желание заключить особый торговый трактат для общей пользы обоих государств. Гарлей сообщил Матвееву под великою тайною, что английский посланник уже обещал шведским министрам дать денег на избавление Паткуля от смерти. «Впрочем, – прибавил Гарлей, – это дело домашнее; публично королева в него не вмешивается, только думаю, что Паткуль спасется от смерти». Марльборо писал к Матвееву, что употребит все свое старание у Штатов, чтоб побудить их согласиться на принятие России в великий союз, но Матвеев мало полагался на эти обещания и написал к оставленному им в Гаге русскому агенту Фандербургу, чтоб разузнал, как будет действовать Марльборо по русскому делу, сходно ли будет его поведение с словами и обещаниями или объявится мед на языке, а желчь в сердце?
Теперь пришел черед Штатам медлить; прошел сентябрь, октябрь – нет ответа. На докуки Матвеева английские министры отвечали, что они ничего не могут сделать до возвращения Марльборо из Голландии. «Здешнее министерство, – писал Матвеев Головкину, – в тонкостях и пронырствах субтельнее самих французов, от слов гладких и бесплодных происходит одна трата времени для нас». 9 ноября приехал Марльборо в Лондон и на другой же день вечером посетил Матвеева; долго разговаривали они один на один; Марльборо рассказывал подробно о своих стараниях в Голландии, чтоб заставить Штаты согласиться на принятие России в союз; Штаты склонны к этому, но надобно хлопотать, чтоб другие союзники согласились, а это дело трудное по настоящему военному времени, впрочем, надобно иметь полную надежду, что королева исполнит все по желанию царского величества. Матвеев решился просить герцога, чтоб он, как честнейший человек, сказал прямо, без сладких обещаний, может ли царь чего-нибудь надеяться или нет? Марльборо в ответ рассыпался в обнадеживаниях и обещаниях всякого рода. Но одними этими обнадеживаниями и обещаниями и надобно было ограничиться.
На континенте вошел в сношения с Марльборо царский агент Гюйсен. Герцог объявил ему, что готов содействовать видам царя, если ему дано будет княжество в России. Когда Головкин дал знать Петру об этом, то получил ответ: «Ответствовать Геезену на его вопрошение, что дук Малбург желает княжества из русских: на что отписать к Геезену, и если от так и вышереченный дук к тому склонен, то обещать ему из трех, которые похочет-Киевское, Владимирское или Сибирское, и притом склонять его, чтоб оный вспомогал у королевы о добром миру (с) шведом, обещать ему, ежели он то учинит, то с оного княжества по все годы жизни его непременно дано будет по 50000 ефимков, тако ж камень рубин, какого или нет, или зело мало такого величества в Европе, тако ж и орден св. Андрея прислан будет». Дело не пошло далее. Никакое посредство не могло иметь действия при твердо выраженной воле Петра: «По самой нужде и Нарву (шведу) уступить, а о Питербурхе всеми мерами искать удержать за что-нибудь, а о отдаче оного ниже в мыслях иметь». Так, весною 1707 года посредством французского посла при Рагоци Дезальера сделано было предложение Людовику XIV быть посредником при заключении мира между Россиею и Швециею на приведенном условии, за что Петр обещал Людовику свои войска, которые король мог употребить по своему желанию. Дело началось, но Карл XII отвечал, что согласится на мир только тогда, когда царь возвратит все завоеванное без исключения и вознаградит за военные издержки; что он, Карл, скорее пожертвует последним жителем своего государства, чем согласится оставить Петербург в руках царских.
Так же мало было надежды и у венского двора, при котором находился в это время Гюйсен.
Он писал 19 марта 1707 года: «Неприятель наш не спит и старается у других народов привести наш народ в ненависть; шведские министры внушают при всех дворах, что царское величество благодаря своему многочисленному и хорошо обученному войску может со временем предпринять наступательное движение на других государей и преодолеть их скифским подобием. Царевичу своему велел быть в Польшу, чтоб его или князя Александра Меншикова сделать королем польским; главный интерес соседних государей требует препятствовать всеми средствами, чтоб царское войско и флот не могли прийти в лучший порядок. Эти внушения имеют силу здесь: цесарь признал Станислава королем, и думаю, что никогда не будет просить царское величество о посылке в Венгрию московских войск. Когда была здесь речь, что царское величество согласится, по цесаревой просьбе, послать несколько тысяч московских Козаков в Седмиградскую землю для склонения венгров к миру, то цесарские министры, склонные к шведской стороне, рассуждали, что никак нельзя на это согласиться: царь может утвердиться в Венгрии, опершись на живущих здесь сербов греческой веры».
Гюйсен имел поручение предложить от имени царя польскую корону знаменитому императорскому полководцу, принцу Евгению Савойскому. Гюйсен написал об этом Евгению в Милан, и тот отвечал Петру 3 мая, что останется вечно благодарен за такое милостивое расположение к его особе, но, находясь в императорской службе, он не может ничего сделать без ведома императора и всего менее думает оставить службу последнего; кроме того, он находится теперь вдали от двора и накануне открытия кампании. Гюйсен отправился в Милан к Евгению, чтоб лично настаивать на принятии царского предложения. Евгений дал знать Петру от 12 мая, что отправил нарочного курьера к императору с извещением о царском предложении. Какой был получен ответ от императора, неизвестно; только в июне Гюйсен доносил из Вены, что император и принц Евгений охотно приняли бы царское предложение, только императору хотелось бы, чтоб царь и Речь Посполитая отложили избрание до окончания войны. Этим дело и кончилось.
Отношения к Пруссии очерчены всего лучше в письме Петра к Шафирову (от 24 сентября 1706 года): «Прусскому посланнику много нечего говорить, только что мы дружбу его всегда ищем, чего для и Измайлова послали, а частные перемены зело смущают, и нельзя знать, при чем ставят, понеже повсягды разные, также и предложения несносные, которых никогда принять невозможно, а посланнику благодари о его доброжелании». В чем состоял наказ отправленному в Берлин Измайлову, видно из следующего письма к нему Головкина в январе 1707 года: «Изволишь всячески трудиться против данного вам наказу, дабы его королевское величество восприял медиаторство к пользе его царского величества между королем шведским; буде же на то не изволит поступить, то б изволил подтвердить прежний союз и объявил бы себя нейтральным и в том бы изволил весьма обнадежить и дать письмо, чтоб его царское величество весьма в надежде доброй пребывать мог. И буде такое письмо его королевское величество соизволит дать, то и ваша милость изволь взаимно, присовокупя о том особливую статью к прежнему союзу, дать, написав за своею рукою, и твердо обнадежить, что его царское величество в непременной дружбе с его королевским величеством быти желает; однако ж наипаче всего изволь по всякой возможности трудиться, дабы его королевское величество восприял медиацию. Что же изволишь упоминать о обещании министрам денег и советуешь, дабы г. графа Вартенберга чем удовольствовать, то изволь ему, если что он учинит у своего короля к пользе его царского величества, обещать знатное число суммы, и так обещай, что ежели в добром медиатерстве обяжутся, то ему при том же подписании и заплачено будет, а хотя б со стороны царского величества некоторые из завоеванных мест знатная часть и уступлена была, однако ж чтоб мир благополучный получен был, то и за то ему, графу, или кому иным, причинным к тому, обещать хотя и до ста тысяч ефимков». Ничто не помогало.
Данию также тщетно старались вовлечь снова в войну против Швеции, предлагая Дерпт и Нарву. Хлопоча повсюду на западе о прекращении опасной войны со шведом, царь еще сильнее должен был хлопотать на востоке, чтоб эта война не стала еще опаснее чрез присоединение к ней войны турецкой. Мы оставили русского посла Петра Толстого в Константинополе в 1705 году, когда ему удалось освободиться от стеснений, причиненных наветами турецкого посла, бывшего в Москве. После этого Толстой начал присылать успокоительные вести: «О начатии турками войны в какую-нибудь сторону вовсе не слышится, только султан очень прилежно собирает деньги, и то, как видно, чтоб удовольствовать янычар, боясь от них бунтов. Нынешний визирь никакого дела сделать не умеет, ни великого, ниже малого, и потому я теперь сижу без дела и ни о чем с министрами их говорить не могу; также и министры их, видя визирское нерассудство, ни в какие дела не вступают». В конце года Головин писал Толстому наставление – слушаться советов иерусалимского патриарха, посылать письма только через старых друзей, не отпускать в Москву греков, мастеровых людей и матросов, потому что они лживы. Толстой отвечал в январе 1706 года: «Советоваться с святейшим патриархом, ей, усердно рад, только б изволил подавать совет безбоязненно; письма посылать чрез старых друзей всеусердно желаю, но в то время, когда бываю в утеснении, опасаются они и не принимают и в нужные времена бегают, сыскать их негде, потому посылаю и через других, а когда мне бывает свобода, тогда приятели усердствуют изрядно. Греков отпускать к Москве не буду, потому что в самом деле от мала до велика все лгут и верить им отнюдь нельзя. Только прошу милости: если мне великий государь укажет еще в сих тягостях быть, то мне не занимать денег на мое пропитание невозможно, а занимать, кроме греков, не у кого. Ныне известно единому богу, в какой живу нужде; из соболей, присланных мне в годовое жалованье, до сего времени не продал ни одного и впредь их скоро продать не надеюсь, потому что, на мою беду, привезли нынешний год греки в Константинополь соболей больше пяти сот сороков да турки разгласили, чтоб соболей, кроме визиря и султана, никто не носил, и потому теперь соболей никто не покупает. Прошу милости, чтоб мне выдать жалованье деньгами в дом мой; особенно же милости прошу, умилосердитесь надо мною, сирым, для любви сына божия и для пресвятые богородицы, заступите милостию своею, чтоб меня, бедного, указал великий государь переменить: уже ныне строением божием и вашею верною к великому государю службою видится, что мирное состояние конечно утвердилось, и, кто ныне здесь ни будет, кажется, что может пребывать безопасен».
Чтоб приласкать полезного человека, заставить его служить без жалоб на важном и тяжелом месте, Петр написал Толстому собственноручно письмо: «Господин амбасадер! Письмо ваше мы благодарно приняли, на которое и о иных делах писал к вам пространнее господин адмирал. Что же о самой вашей персоне, чтоб вас переменить, и то исполнено будет впредь; ныне же, для бога, не поскучь еще некоторое время быть, больше нужда там вам побыть, которых ваших трудов господь бог не забудет, и мы никогда не оставим». Толстой пришел в восторг. «Паче достоинства моего убожества, – писал он Головину, – благоизволил его величество явить ко мне, последнейшему своему рабу, такую превеликую милость, за которую должен хотя бы и сто раз умереть, исполняя его величества повеление, и уже не только стужать челобитьем о перемене моей, ниже мыслить сего возмогу, хотя бы и до конца жизни моей быть мне в сих трудах; со всякою радостию, с веселым сердцем готов работать усердно и быть в странствии и бездомстве, и в том дерзновении уже вельми раскаиваюсь, что дерзнул принести о перемене моей рабское мое челобитье».
В апреле 1706 года опять произошла перемена визиря: новый визирь Али-паша, говорили, был человек добрый и разумный; принял он Толстого ласково. «Воистину, – писал Толстой, – зело убыточны частые их перемены, понеже всякому визирю и кегае его посылаю дары немалые, и пропадают оные напрасно, а не посылать невозможно, понеже такой есть обычай и так чинят все прочие послы».
С новым визирем Толстой не поладил по поводу ссор кубанских татар с донскими козаками. «Министры турецкие, – писал Толстой 4 августа, – о ссорах кубанских никакого определения до сего числа не сделали; много я с ними о том говорил, но визирь очень загордился и не только не хочет решить дела по правде, но и слов моих не слушает и ни на одно мое предложение не отвечает. Кажется, они так делают потому, что с нашей стороны татарам ни в чем не противятся, а известно, что народ турецкий неблагодарен, кто им уступает, того они больше презирают. К тому же проклятые волохи беспрестанно к Порте пишут, веселя ее, будто рати великого государя вконец побеждены шведами, и от этого турки еще больше гордятся; о похищенных людях и о всяких вещах, что взяли кубанцы, написать бы к крымскому хану не с прошением, но посуровее, чтоб не мыслили турки, что мы изнемогли и их боимся».
Скоро явилась новая причина к столкновению. Толстой дал знать, что приехал от крымского хана мурза Алей; с ним хан писал к Порте, что татары, живущие в русских областях, прислали к хану одного султанского сына и трех черных татар, и писал, что хотят из царского подданства выйти все и переселиться в Крым, потому что в России обижают их в вере, берут с них много денег и свадеб своих не могут они отправлять без русских попов; чтоб крымский хан прислал к ним на помощь войско, и они с женами и детьми выйти из Российского государства в Крым могут. Хан просил у Порты позволения дать требуемую помощь; визирь созвал совет, на котором муфти говорил, что по их закону надобно принять татар.
Все это было крайне опасно в конце 1706 года, когда Россия должна была поднять одна всю тяжесть шведского нашествия. Опять стали думать, как бы занять турок и отнять у них возможность соединиться с шведами против России; Толстой писал: «Премного я мыслил, как бы тайно побудить Порту на вступление в войну с цесарем? Не мог другого придумать, как согласиться тайно чрез переводчика с послом французским и чрез последнего внушать об этом Порте. Сначала стану говорить французскому послу: как жаль, что Порта подозревает царское величество в неприязненных к себе намерениях, не верит, что царское величество непременно хочет с нею сохранять мир, и не могу я один ее в том уверить, и желаю его помощи, потому что он Порте приятель, и пусть будет между мною и Портою тайно медиатором. Думаю, что он будет этому рад, ибо ему то и надобно, чтобы Порта со стороны царского величества ничего не опасалась и скорее бы к венгерскому делу пристала. Потом, когда он в дело вступит, можно ему внушить, что царское величество не будет мешать Порте управляться с прочими соседями, потому что теперь имеет дело с шведами; думаю, что он за это схватится крепко, и потом, посмотря, если будет надобно, можно сказать ему и появнее. И так надеюсь на бога, что к этому делу приступлю. А если бы французский посол и захотел кому-нибудь об этом объявить, хотя бы самому цесарю, – не поверят, зная, что он этого желает и потому затевает из своей головы. А самому мне говорить об этом Порте нет никакой возможности: во-первых, подумают, что мы нарочно хотим их занять, чтоб тем успешнее начать с ними войну; во-вторых, тотчас объявят об этом цесарю, потому что постоянно желают ссорить христиан. Мог бы я это сделать, подкупив ближних султанских и визирских людей, не ясно им открывая дело, подсылать с некоторыми приличными словами: однако и этого делать нечем, просят больших дач, а мне нечего давать, и опасаюсь, чтобы дача напрасно не пропала. Идут слухи, что венгры усиливаются против цесаря. Я подсылал к визирю одного его ближнего человека с вопросом: примут ли они венгров или не примут? Визирь отвечал, что есть пословица: когда неприятель войдет в воду до пояса, надобно ему подать руку и спасти его от потопления; когда войдет по грудь, дать ему волю делать что хочет, а когда уже взойдет по горло, тогда надобно его пригнесть и безопасно утопить. Нам теперь надобно смотреть, что будет делаться у венгров с цесарем».
Действовать заодно с французским посланником оказалось неудобно, потому что этот посланник начал действовать против России. Весною 1707 года Толстой дал знать, что французский посланник получил от своего короля приказание поссорить Порту с Россиею, не щадя никаких иждивений: посланник согласился тайно с ханом крымским, который и прислал в Константинополь своего визиря с просьбою позволить татарам идти на помощь полякам, которые в союзе с шведами. Хан писал, что он не смеет и не хочет доносить Порте ничего о делах московских, потому что за такие донесения отец его и брат пострадали, но и молчать ему больше нельзя, потому что государь московский уже пришел к ним в близкое соседство, овладел ключом Крымского острова – Каменец-Подольским и теснит Крым с двух других сторон – азовской и запорожской, так что татары не знают – чего им больше ждать? Французский посол, с своей стороны, неусыпно промышляет как у визиря, так и в султанском доме, разослал письма к ближним султановым людям. «Узнавши об этом, – писал Толстой, – я разослал от себя письма к тем же султанским ближним людям, потому что дело это надобно делать очень тайно; не надеюсь, впрочем, чтоб мои письма были приняты с такою же любовию, как французские, потому что французский посланник посылал свои письма вместе с богатыми подарками, а турки имеют такой обычай, что отца родного и веру за подарки продать готовы. Теперь турки в раздумье, и на которую сторону склонятся – бог ведает. Признали полезным послать к русским границам, в город Бендеры, Юсуф-пашу, господаря молдавского и валахского, также румельских тамариотов и других служилых людей из Румилии под предлогом перестройки бендерской крепости, а в самом деле опасаются внезапного нападения. Это мне не нравится, ибо ясно, что начинают верить лжам французского посла и бредням татарским: также послали указ крымскому хану, пашам в Софию, Очаков, Керчь и другие места, чтоб были осторожны. Прибавил мне тягость Юсуф-паша силистрийский, писал к Порте, что московской границы без войска оставить нельзя; это письмо привело Порту в большое сомнение, потому что прежде он так не писывал».
Толстому удалось проведать в султанском доме содержание писем французского посла; содержание их было таково: оружие цезаря римского и царя московского очень расширяется: чего же ждет Порта? Теперь время низложить оружие немецкое и московское и утвердить свою державу, потому что венгры вопиют о помощи. Если Порта не хочет начинать явной войны, то пусть позволит татарам действовать против Москвы, а на помощь венграм пошлет тайно тысяч 8 или 10 турок. Неполитично позволять одному государю стеснять другого, а теперь царь московский покорил себе Польшу, стеснил Швецию, держит в своих руках Каменец-Подольский, посылает на помощь цесарю на венгров несколько тысяч Козаков. Но Порта должна смотреть, что эти оба государя друг другу помогают по одной причине, чтоб после соединенными силами напасть на Турцию. Если Порта в настоящее время московского царя не утеснит, то уже после долго будет дожидаться такого благоприятного случая. Кроме того, царь московский имеет постоянные сношения с греками, валахами, молдаванами и многими другими единоверными народами, держит здесь, в Константинополе, посла безо всякой надобности, разве только для того, чтоб посол этот внушал грекам и другим единоверцам своим всякие противности. Посол московский не спит здесь, но всячески промышляет о своей пользе, а Порту утешает сладостными словами; царь московский ждет только окончания шведской и польской войны, чтоб покрыть Черное море своими кораблями и послать сухопутное войско на Крым; цесарь римский нападет с другой стороны, и чтоб не принудили мусульман убраться во внутреннюю Азию.
Чтоб дать гродненскому войску сикурс повернее саксонского, Петр велел гетману Мазепе двинуться из Волыни к Минску и писал к Репнину 17 февраля: «Гетман в скорых числах будет к Минску; станем мы также в три или четыре дни в Минске; Козаков несколько тысяч уже в Бресте, и для того зело потребно, чтоб провиант из Бреста чрез Козаков привезть к вам, для чего пошлите и от себя и о сем, для бога, трудитесь, и если возможете до половины марта провианта, то лучше вам быть у Гродни; ибо мы, с помощию божиею, надеемся, вскоре случась с гетманом, вам добрый ответ дать. С восемь тысячь имеем старых солдат, кроме рекрут, а с рекрутами более пятнадцати, кроме курляндских». К Огильви написал: «Слышим о великой скудости у вас провианта; гетманские козаки уже давно в Бресте, и для чего оттоль не велите провианта привезть, не знаю. Для самого бога сие как наискорее учините, чтоб людей в довольстве содержать, которое паче многих добрых дел вам почтено будет, и я зело буду за оное благодарить вам».
«Рубежи наши зело голы, а наипаче всего конницею», – писал Петр Апраксину и потому велел от Смоленска до Пскова везде, где леса есть, зарубить рядом на 300 шагов широтою; ежели в котором месте валом легче, нежели лесом, тут не рубить, а делать вал по первой ростали. Эту линию весть, не смотря, чья земля, наша или литовская, только смотреть, где скорее, удобнее и легче можно сделать. Где воды глубокие или болота непроходимые, тут, для скоростей, не делать засеки. Делать это поголовно, с великою поспешностию, ближайшими уездами, русскими и польскими.
Среди этих распоряжений настигла страшная весть, что на саксонский сикурс не может быть никакой надежды; в начале февраля при Фрауштадте саксонское двадцатитысячное войско под начальством Шуленбурга было разбито в прах шведским генералом Реншельдом, у которого было не более 12.000 войска; большая часть русского вспомогательного отряда, находившегося у Шуленбурга, была варварски истреблена шведами, не хотевшими щадить и сдававшихся. Это изумительное при такой разнице в числе людей поражение Петр сначала приписал измене, зная, как саксонцы недовольны войною короля своего с шведами, и в этом смысле писал Головину 26 февраля: «Ныне уже явна измена и робость саксонская, так что конница, ни единого залпу не дав, побежала, пехота, более половины киня ружья, отдалась, и только наших одних оставили, которых не чаю половины в живых: бог весть какую нам печаль сия ведомость принесла, и только дачею денег беду себе купили. Сим же случаем и измена Паткулева будет явна, ибо совершенно чаю, того для он взят, чтоб сей их изменной факции никто не сведал. При сем прошу вас, чтоб вы в добром числе рекрутов москвичей (а паче конных, хотя б и еще из людей боярских по небольшому положить) и в прочем трудились. Мы меж тем будем стараться о выручке своих гродненских (которые, слава богу, еще в довольстве обретаются), и уже полки отсель пошли к Минску, куда и мы завтра поедем и там случимся с гетманом Мазепою».
Петр поехал в Минск, отправивши в Гродно следующее приказание: «По несчастливой баталии саксонской уже там делать нечего, но дабы немедленно выходили из Гродни и шли, по которой дороге способнее и где ближе леса, а буде вскроется Неман, то лучше, перешед Неман, идти на левую руку, потому что неприятель чрез реку не может так вредить, тако ж по той дороге гетман и иные наши войска с ним; однако ж полагается то на их волю, куда удобнее, а по которой дороге пойдут, о том нам прежде походу для ведома наскоро писать, дабы можно было нам с конницею их встретить, и, как возможно, курьеров нанимать, на что не жалеть денег. Брать с собою что возможно полковых пушек и другое что нужное (в чем зело смотреть, чтоб не отяготиться, взять зело мало, а по нужде хотя и все бросить), а достальное, а именно артиллерию тяжелую и прочее, чего увезти будет невозможно, бросить в воду и ни на что не смотреть, только как возможно стараться, как бы людей спасти. Отошед из Гродни миль 10 или как случится, когда крепкие места, а именно леса, начнутся, разделить всю армию баталионами или полками, как лучше по рассмотрению, и поход учредить разными дорогами, по которым разверстать все войско, чтоб шло врознь, а не всем корпусом, дабы неприятель всею силою на весь корпус не напал, где может свободно выиграть, нежели потерять. А когда войско наше в рознице будет, тогда невозможно будет неприятелю всю армию атаковать, разве только на один баталион или полк нападет, который хотя и разорят, в том буди воля божия, однако ж не все в атаке будут, а волооких партий опасаться нечего, хотя и сильные будут, только можно верить, что на наш на один баталион смело не нападут. Прежде выхода из Гродни все (кроме пушек и пороху), яко суть ножи и прочая, зело тайно пометать в воду. Сей выход из Гродни зело надлежит тайно сделать таким образом: перво поставить такой крепкий караул, чтоб из жителей никто не точию выйти, ниже выполсть не мог, и в то время как возможно скоро и тайно собраться, пушки изготовить те, кои к походу, а прочие держать на их местах (того для ежели неприятель сведает, от чего боже сохрани, и придет, а пушки прежде выходу брошены будут, то тотчас штормовать будет, и вам борониться будет нечем); потом, когда идти, взять вдруг всем пушки солдатам с траншамента и вдруг, сведчи с горы, бросить в воду (для чего проруби надлежит заранее изготовить) и потом тотчас идти. Сей поход надлежит учинить с вечера и не поздно, чтоб ночью осталось больше времени, в котором бы далее можно идти до крепких мест, и зело в том тщиться, чтоб полистые места (поля) перейти ночью. Лошадей из Гродни тутошних жителей, кто они ни есть; тако ж еже и скудость провианта из монастырей и домов, и тако ж в чем нужда есть, взять нужное без крайнего разорения, а лошадей всех. При выходе надлежит конницу позади оставить, чтоб в траншаменте и у мосту была до утрее (дабы неприятель не мог пометать выходу) или и больше, по делу смотря; о полонениках полагается на рассуждение и совет воинской. Все чинить по сему предложению, и паче по своему рассмотрению, и не смотреть ни на что, ни на лишение артиллерии, ни остаточного не жалеть, токмо людей по возможности спасать».
Вслед за этим наказом Петр еще несколько раз писал Огильви и Репнину, чтоб непременно выходили из Гродно. «Ныне уже ни единый вид обретается, – писал он к Репнину, – чтоб вам быть в Гродне, ибо пред тем надежда была на саксонцев, ныне же хотя б и пришли, то паки побегут и вас одних оставят: того для ни о чем, только о способном и скором выходе думайте, несмотря на артиллерию и прочие тягости, как я вам пред сим пространнее писал. О выходе совет мой сей (однако ж и вашей воли не снимаю, где лучше): изготовя мост чрез Немон, и кой час Немон вскроется, перешед при пловущем льду (для которого льда не может неприятель мосту навесть и перейтить Немон), и иттить по той стороне Немона на Слуцк (которая добрая фортеция, и в нем добрая артиллерия и наш гварнизон и магазейн); однако ж надлежит при первом взломании льду поход учинить, прежде нежели малые речки пройдут, когда уже невозможно будет иттить. Мы у вас в левой руке от неприятеля будем, при нас войск регулярных с 12.000 человек, которых половина на лошадях, а у других у двух сани, кроме гетманских нестройных обретается; иного пути не знаю, ибо везде неприятель передовыми занять и сам отрезать может, о чем прошу скорого ответа: куды пойдете, чтоб нам ведать и вам дать с своей стороны отдух. Ныне получили мы ведомость, что по приходе шведов в Вильню уже добрую партию отрядили к Полоцку; о чем паки подтверждаю; конечно (при взломании льда, а буде сыщете способ, то лучше б и прежде) по сему учините без всякой отговорки и описки».
Но Огильви был другого мнения; на указы Петра он отвечал, что хочет еще подержаться в Гродно до более благоприятного времени; если выйти теперь, то король шведский может в 24 часа стянуть все свое войско и погнать русские полки; если покинуть Гродно, то вся Польша и Литва склонятся на сторону шведов, и вся тяжесть войны обрушится на Россию; лучше б простоять целое лето в Гродно.
«Что до лета хочете быть, и о сем не только то чинить, но ниже думать, – отвечал Петр 12 марта, – понеже неприятель, тогда отдохнув и получа корм под ноги, не отойдет от вас легко, к тому ж и Реншильд придет (понеже саксонцы паки скоро не сберутся), к тому же и Левенгаупт будет, ибо мы уже указ послали, чтоб курляндские замки подорвать и идти пехоте чрез Двину к Полоцку, потому что ежели до тех пор стоять, как Двина разойдется, то им пропасть будет, а конницею станем чинить неприятелю диверсию. О отдалении неприятеля не надобно думать, ибо для того весь поход его был и ныне стал в тех местах, чтоб нам что ни есть сделать, от чего боже сохрани, а смотреть, чтоб не отрезал, и то можно учинить, когда пойдете или на Брест, или меж Бреста и Пинска, и как можно скоро сперва пойтить, чтоб зайтить за реку Припеть, которая зело есть болотистая, и там можно по воле к Киеву или к Чернигову идтить: и так неприятелю никоим образом отрезать будет невозможно, а сзади хотя и станет гнать, то не может вас догнать, ибо с пехотою невозможно, а с конницею не будет вам силен; к тому же надлежит не одною дорогою идтить, то не будет ведать, куды сколько пошло, и не может разделиться неприятель. Сие же писание оканчиваю тем, что первого разлития вод (или и ныне буде возможно) конечно не пропускайте, но с божиею помощиею выходите, чем нас зело обяжете и удовольствуете; противное же, ежели по сему не учините и до травы стоять станете, то уже сие дело не за доброго слугу, но за неприятеля почтено будет».
Пославши это решительное приказание Огильви, на другой день, 13 марта, Петр сдал начальство над войском Меншикову, на которого совершенно полагался, и отправился в Петербург в самом печальном расположении духа. Семь дней тому назад он писал Апраксину: «О здешнем писать, после баталии саксонских бездельников, нечего; только мы с приближающимся Лазарем (днем Лазарева воскресенья) купно в адской сей горести живы, дай боже воскреснуть с ним». Остановившись на несколько дней в Нарве, царь писал Меншикову: «Пути моего было, кроме простоя, пять дней и несколько часов, где, слава богу, все добро, и от сего дня в 6 или 7 дне поеду в Питербурх. Но токмо еще души наши на мытарствах задерживаются, о чем сам можешь рассудить. Боже, даруй воскресением своим радость!» Из Петербурга 7 апреля писал к тому же Меншикову: «Я не могу оставить, отсель не писать к вам из здешнего парадиза, где, при помоществовании вышнего, все изрядно; истинно, что в раю здесь живем; точию едино мнение никогда нас оставляет, о чем сам можешь ведать, в чем возлагаем не на человечью, но на божию волю и милость».
Наконец бог дал радость: 24 марта, в самый день Светлого воскресенья, русское войско вышло из Гродно, воспользовавшись, как писал Петр, вскрытием Немана, по мосту, заранее приготовленному, а 27 числа встретил его Меншиков. Расчеты Петра оправдались: Карл более недели не мог преследовать русских вследствие вскрытия Немана, а когда шведы навели мост и перешли через реку, то русские были уже у Бреста. Дальнейшее преследование весною в болотистой стране было невозможно, и Карл, давши отдохнуть своим войскам на Волыни, отправился в Саксонию, чтоб покончить с Августом. Петр был в восторге, получивши известие о благополучном выходе своего войска из Гродно. «Min Bruder! – писал он Меншикову 29 апреля. – С неописанною радостию я господина Старика от вас с письмом получил, будучи во флоте у Кроншлота на корабле („Олифанте“) виц-адмирала, и той же минуты, благодаря бога, со всего флота и крепости трижды стреляно, а каковы были сему радостны и потому шумны, донесет Старик вам сам. Истину сказать, что от сей ведомости вовсе стали здесь радостны, а до того, хотя и в раю жили, однако всегда на сердце скребло». Лечение задержало царя в Петербурге целый май месяц. «О бытии моем (т.е. о приезде к войску) не извольте сомневаться, – писал он Меншикову 10 мая, – ибо конечно в конце сего месяца поеду, а ранее того невозможно, ей, не для гулянья, но дохтуры так определили, чтоб, по пускании крови жильной (которая вчерась отворена), две недели на месте принимать лекарство, и потом тотчас поеду, ибо сама ваша милость видел, каково мне было, когда разлучены были от войска мы. О здешних поведениях сомневаться не изволь: ибо в рае божии зла быти не может».
Между тем, не зная еще о походе Карла XII на Саксонию, боялись, чтоб он не овладел Киевом; Меншиков, именем царским, велел всему войску двинуться к этому дорогому для России городу; Огильви протестовал, требуя, чтоб пехота охраняла Киев и Смоленск, а конница разбросалась по рекам Припяти, Горыни, Стыри, Случе. Огильви жаловался беспрестанно царю, что Меншиков похищает себе его власть; Петр молчал, Меншиков распоряжался: так, когда получена была в Киеве ведомость о взятии Астрахани Шереметевым, Огильви не велел стрелять из ружья в знак торжества, а Меншиков распорядился сам стрельбою. 25 июля Петр объявил, что вышним командиром над всем войском оставляет фельдмаршала Шереметева, Огильви же дается 13 полков, ибо в условиях с ним постановлено, что он будет иметь всегда отдельный корпус, хотя и будет состоять под командою первого фельдмаршала российского. Наконец Огильви был уволен в сентябре 1706 года; по этому случаю Шафиров писал Меншикову: «Невзирая на все худые поступки, надобно отпустить его (Огильви) с милостию, с ласкою, даже с каким-нибудь подарком, чтобы он не хулил государя и ваше сиятельство, а к подаркам он зело лаком и душу свою готов за них продать».
Меншиков проводил время в Киеве не в одних ссорах с наемным фельдмаршалом. «Я ездил вокруг Киева, – писал он Петру 12 мая, – также около Печерского монастыря и все места осмотрел. Не знаю, как вашей милости понравится здешний город, а я в нем не обретаю никакой крепости. Но Печерский монастырь зело потребен, и труда с ним будет, немного: город изрядный, каменный, только немного не доделан, и хотя зачат старым маниром, но можно изрядную фортецию учинить, да и есть чего держаться, потому что в нем много каменного строения и церквей, а в Киеве-городе каменного строения только одна соборная церковь да монастырь; городовое основание великое, и, ежели его крепить, зело нелегок станет». 4 июля приехал в Киев Петр, нашел, что Данилыч прав, и 15 августа заложил фортецию около Печерского монастыря; постройку ее должны были принять на себя малороссийские козаки.
Распорядившись укреплением важнейшего города юго-западной границы, Петр поспешил к границе северо-западной, чтоб воспользоваться уходом Карла в Саксонию и обеспечить свой парадиз со стороны Финляндии. И октября он осадил Выборг, но осада пошла неудачно, и царь должен был возвратиться в Петербург. Счастливее был Данилыч, который повел войско в Польшу против оставленного там Карлом генерала Мардефельда. В Люблине соединился он с королем Августом и писал Петру: «Королевское величество зело скучает о деньгах и со слезами наедине у меня просил, понеже так обнищал: пришло так, что есть нечего. Видя его скудость, я дал ему своих денег 10.000 ефимков. Правда, что последняя его скудость: понеже на Саксонию надеяться нечего». Петр отвечал: «Писал ваша милость, что король скучает о деньгах. Сам ты известен, что от короля всегда то, что: «дай, дай, деньги, деньги !», в чем сам можешь знать, каковы деньги и как их у нас мало; однако ж ежели при таком злом случае постоянно король будет, то, чаю, надлежит его в оных крепко обнадежить при моем приезде, который я потщуся самым скорым путем исправить». 18 октября Меншиков, ведя с собою и короля Августа, встретил шведов у Калиша. «Неприятеля, – писал он царю, – при Калише мы нагнали, который был в 8000 шведов и в 20000 поляков и нас ожидал с таким желанием, чтоб с нами баталию дать, к чему зело в крепких местах стал, имея круг себя жестокие переправы, реки и болото; однако ж мы, несмотря на те крепости, но больше уповая на крепкого в бранях господа, по отправлении по обыкновению воинской думы, устроясь как надлежит, с оным полную баталию дали, на которой в непрестанном огне ровно три часа были; однако ж, помощию божиею и счастием вашим, такую мы счастливую викторию получили, что неприятелей на месте положили – шведов с 5000 да поляков с 1000 человек. Не в похвалу доношу: такая сия прежде небываемая баталия была, что радостно было смотреть, как с обеих сторон регулярно бились, и зело чудесно видеть, как все поле мертвыми телами устлано».
Петр запировал в своем парадизе и пропировал три дня, получив «неописанную радость о победе неприятеля, какой еще никогда не бывало». При Калише кроме победы над Мардефельдом Меншиков выиграл еще пред историею процесс свой с Огильви, показав, что русское войско не нуждается в наемном фельдмаршале.
Торжество Петра было непродолжительно: вслед за неописанною радостью он узнал, что оставлен союзником своим Августом, что швед уже не увязнет более в Польше и все бремя войны надобно будет взять на одни свои плечи.
Карл XII не встретил в Саксонии ни малейшего сопротивления; все бежало, что только могло бежать, оставшиеся обложены были тяжелыми податями в пользу шведов. Король Август тщетно надеялся, что другие державы не позволят Карлу вступить в Саксонию и тем нарушить нейтралитет Германии: много было представлений на словах и на бумаге, но никто не посмел тронуться против непобедимого шведского героя. Король Август решился пожертвовать Польшею, чтоб не потерять или по крайней мере не истощить вконец наследственной Саксонии, и вступил в переговоры с Карлом. 13 октября в замке Альтранштадте, недалеко от Лейпцига, тайно подписан был договор уполномоченными с обеих сторон: Август отказывался от польской короны, признавал королем польским Станислава Лещинского, прерывал союз с русским царем, освобождал Собеских, выдавал Паткуля и русских солдат, находившихся в Саксонии, обязывался содержать на счет Саксонии шведское войско в продолжение зимы. Август согласился на все и между тем не решился объявить Меншикову, дал только знать Мардефельду о мире и советовал не вступать в сражение, но Мардефельд не поверил ему, и Август должен был участвовать в калишской битве, должен был участвовать и в варшавских торжествах, бывших по случаю победы, и, когда пошли слухи о мире, уверять, что все это неправда.
Так продолжалось, пока Меншиков не выступил с русским войском из Варшавы в Жолкву на зимние квартиры. При Августе остался князь Василий Лукич Долгорукий, приехавший на время вместо родственника своего, князя Григория. Только 17 ноября Долгорукий узнал о переговорах Августа с Карлом и немедленно имел объяснение с королем; тот объявил: «Трактую для того, что не вижу другого способа спасти Саксонию от разорения; надеялся я на цесаря и его союзников, но теперь явно, что Саксонию оборонять не хотят. Отдать Саксонию на разорение – нечем будет продолжать войну. Саксония будет разорена, с Польши доходов нет, царское величество деньгами не помогает; если по разорении Саксонии неприятель вступит в Польшу, то ваши войска отступят за свои рубежи, и я с своим малым войском воевать в Польше не могу; мира в то время, хотя бы и хотел, не сыщу, а если б и сыскал, то не лучше нынешнего, только Саксония будет разорена. Если царское величество согласится мне помогать деньгами ежегодно в определенное время, то пусть объявит, и если по трактатам с царским величеством получу удовлетворение, то больше ничего не потребую: несмотря на разорение Саксонии, буду продолжать войну; трактатов с неприятелем не окончу, не дождавшись ответа от царского величества». Но на другой день другие речи: «Невозможно мне Саксонию допустить до крайнего разорения, а избавить ее от этого не вижу другого способа, как заключить мир с шведами, только по виду и отказаться от Польши с целию выпроводить Карла из Саксонии, а там как выйдет, собравшись с силами, опять начну войну вместе с царским величеством. Союза с царским величеством я не нарушу и противного общим интересам ничего не сделаю». 19 ноября пред рассветом Август уехал из Варшавы для личного свидания с шведским королем, велевши чрез польских министров сказать Долгорукому, что союз с царем непременно будет содержать до конца войны, и как скоро неприятель выйдет из Саксонии, то с двадцатипятитысячным войском возвратится в Польшу: пусть царь держит это в тайне, а явно пусть объявляет о нарушении союза.
Долгорукий поехал в Краков, чтоб, несмотря на отречение Августа, удержать вельмож его партии при русском союзе. Меншиков писал царю из Жолквы 24 ноября: «Пред сим за неделю были превеликие морозы и снег, ныне же воздух теплый и грязь великая, однако ж постоянного времени трудно ожидать, понеже, каковы люди здесь постоянны, таково и время. Сам уже изволишь рассудить, как зело потребно суть милости вашей здесь быть в таком нынешнем противном случае; однако ж не изволь о том много сомневаться, хотя король нас и оставил. А ежели вскоре милость ваша да благоволите к нам быть, то мочно скоро другого короля выбрать, к чему поляки, чаю, при вас будут склонение иметь, которых мы ныне ничем так более не обнадеживаем, точию скорым сюда вашим пришествием, которое всегда разглашаем».
Петр «по тем ведомостям пошел в Польшу, дабы оставшую без главы Речь Посполитую удержать при себе». 28 декабря он приехал в Жолкву, где собрались Меншиков, Шереметев, князь Григорий Долгорукий, необходимый при совещаниях о польских делах, не было первого министра, боярина адмирала Федора Алексеевича Головина. Он умер летом 1706 года в Глухове, на дороге в Киев. Об отношениях покойного к царю можно видеть из письма Петра к Апраксину: «Ежели сие письмо вас застанет на Москве, то не извольте ездить на Воронеж; будешь на Воронеже, изволь ехать в Москву, ибо хотя б никогда сего я вам не желал писать, однако воля всемогущего на то нас понудила, ибо сей недели господин адмирал и друг наш от сего света отсечен смертию в Глухове; того ради извольте, которые приказы (кроме Посольского) он ведал, присмотреть и деньги и прочие вещи запечатать до указу. Сие возвещает печали исполненный Петр». Титул адмирала наследовал Апраксин; Посольский приказ перешел к верховному комнатному Гавриле Ивановичу Головкину, получившему потом звание канцлера. Головкин был один из самых приближенных людей к Петру с его малолетства. Когда Петр был за границею, Головкин писал к нему шутливые фамильярные письма, подписываясь: Ганка, например: «Милостивый мой, здравствуй множество лет, а я жив. Пожалуй, хотя по строчке пиши о своем здоровье: можешь то рассудить, что того желаю, а мы с Павлюком живем да редьку в пост жуем, а ученье его зело тупо с природы, учит вечерню. Павлюк приболел, и не однова (не один раз), и Лаврентий, доктор, смотрел и сказал, что на болезнь его в аптеке лекарства нет, а называет ту болезнь ленью. А сват начал учить псалтырь. Медведь и лисица пишут». Или: «Медведь, волк и лисица у меня и грамоте учатся, а хотя то тем животным и несродно, однако правда». Во время войны Головкин находился при Петре и употреблялся для исполнения важных поручений, причем шутливые письма продолжались, например: «В письме ваша милость напомянул о болезни моей, подагре, будто начало свое оная восприяла от излишества венусовой утехи: о чем я подлинно доношу, что та болезнь случилась мне от многопьянства; у меня в ногах, у г. Мусина на лице. Но тое болезнь, кроме отца нашего и пастыря (Зотова), лечить некому».
Еще покойный Головин на помощь себе, особенно на время отсутствия своего из Москвы, выдвинул из переводчиков Посольского приказа даровитого Петра Павловича Шафирова и дал ему титул тайного секретаря; при Головкине, когда тот получил титул канцлера, Шафиров переименован в вице-канцлеры, или подканцлеры.
Головкин начал свое новое поприще важным делом. В половине февраля 1707 года явилось в Жолкву изо Львова великое посольство генеральной конфедерации: краковский воевода князь Вишневецкий, мазовецкий воевода Хоментовский, литовский маршалок Волович. На конференциях с верховным комнатным Гаврилою Ив. Головкиным и другими министрами послы объявили, что на Львовской раде сенаторами и Речью Посполитою постановлено отправить их к царскому величеству с полномочием для наилучшего впредь от царского величества к ним вспоможения и сбережения. Прежде всего послы потребовали, чтоб Украйна, бунтовщиком Палеем отобранная, немедленно была возвращена республике. Министры отвечали, что Украина будет возвращена, как только для приема крепостей будет кто-нибудь прислан от республики. Потом послы объявили, что им от войск царских великое разорение, особенно от кавалерии и офицеров: не только обыкновенный провиант берут хлебом и мясом и лошадям фураж, но офицеры берут по своим прихотям кто что захочет и чего в иных местах, именно в деревнях, купить и промыслить нельзя, например корицу, сахар, гвоздику, лук, перец, огурцы, сельди, пиво, мед, вино; если где этого не сыщется, правят большие деньги, берут под провиант подводы и лошадей, чего уже терпеть больше нельзя, ибо и самим владельцам от подданных своих насущного хлеба уже мало что осталось. Им и от шведского войска легче было, потому что теперь на каждый дым для провианта по 50 злотых польских выходит, кроме подвод. Речь Посполитая рассуждает, что по союзному договору следовало бы только 12 тысячам царского войска быть на польском провианте, а теперь наведены такие многочисленные войска и все содержатся на счет республики; во многих воеводствах, где уже провиант забран на несколько месяцев, опять берут. Речь Посполитая знает подлинно, что у царского величества на все войско, особенно офицерам, идет денежная плата, которою можно довольствоваться, и потому просит сделать ей облегчение в зимовом провианте, спрашивать его только для рядовых, а не для офицеров, а если в том льготы не будет, то Речь Посполитая на шесть месяцев летних, считая с мая месяца, давать провианту не обещает и не хочет.
Министры отвечали, что, кроме положенной порции излишнего ничего у них не берется и брать накрепко закажется. Царские войска введены к ним по их желанию, по союзному договору, заключенному для охранения жизни и вольностей их от неприятеля. Польза для них от этих войск явна в отобрании у неприятеля крепостей и в других случаях, а без провианта войскам никак пробыть нельзя. Посольское заявление о недаче провианта на шесть летних месяцев царскому величеству будет очень неугодно, потому что у его величества на это войско издержаны многие миллионы; этих миллионов надобно было бы спрашивать на Речи Посполитой, однако не спрашивается. Послы потребовали уплаты по договору двухмиллионов злотых, без чего нельзя будет набрать войска на следующую кампанию. Министры отвечали, что уже выдано в то число 40.000 рублей на войско коронное и 30.000 на литовское, хотя и не довелось давать преждевременно, ибо в договоре положено давать при войске в мае месяце. 40.000 на коронное войско дал король Август от своего имени, а не от царского, возражали послы. Министры отвечали, что договоренного числа войска прошлый год поляки не выставили. Из посольских речей было видно, что если царь согласится уволить Речь Посполитую от дачи провианта, то они не станут требовать обещанных в договоре миллионов. Петр велел объявить им решительно, что от дачи провианта они уволены быть не могут, но, утешая Речь Посполитую, он велел выдать ей польским счетом полмиллиона, а московскою монетою 50.000 рублей. Потом послы жаловались на разоренье от козаков и калмыков и требовали, чтоб польским и литовским жителям дано было из царской казны вознаграждение за пограбленные пожитки. На это министры отвечали, что виновным в каком-нибудь воровстве пощады не будет, а чтоб за воров платить из казны, то дело не статочное и нигде того не повелось: заплатят одному, сейчас же найдется много других, у которых и ничего не взято. Для всяких расправ в обидах учреждены с обеих сторон комиссары: генерал-поручик от артиллерии Брюс вместе с польскими комиссарами будет давать удовлетворение по жалобам. Послы не переставали домогаться, чтоб донских козаков и калмыков вывести из Польши, а если понадобятся легкие войска, то могут быть употреблены польские полки. Петр велел отвечать, что регулярному войску безлегкой конницы никак быть нельзя; обид не будет, потому что за них будут отвечать генералы.
«С сими шалеными едва могли дело совершить», – писал Петр к Меншикову, уведомляя его, что «все подписали и подтвердили все трактаты с нами, тако ж и универсал готовить начали, понеже на мере уже поставлен и срок 16 по их, а по нашему пятое мая». Для прекращения грабежа от войск Петр выдал следующий указ находящимся в Польше генералам: «Всяких денежных и прочих сверх указных взятков и поборов, а наипаче разорения и обид конечно б самим вам не чинить и под командою вашею обретающимся людям запретить под опасением живота и смерти».
Обещали утешить Речь Посполитую 50.000 рублей, но столько денег неоткуда было взять, можно было дать только 20.000. Поляки не соглашались взять меньше половины, не отставали от своих требований насчет Украйны. Отдать им эту Украйну теперь, когда ждали в Польшу Карла XII, когда королем польским оставался шведский посаженник Станислав Лещинский, было бы крайне неблагоразумно; раздражать отказом считали также вредным. 29 сентября Головкин писал Петру из Варшавы: «Вчерашнего числа получили мы от гетмана Синявского и от бискупа куявского письма и его, бискупово, рассуждение цыфирью. По которому бискупову рассуждению и с общего совета с г. генералом князем Меншиковым за потребно рассудили мы послать к войску коронному Емельяна Украинцева одного, без денег, но токмо с одним письмом к гетману Мазепе для утехи им, будто об отдаче Украйны, и хотя такое письмо и посылаем, однако ж писали к нему, гетману, особливо тайно, чтоб он потому не отдавал и удерживал всячески, промедливая время. А денег нынешнего определенного числа (20.000) с ним, Емельяном, послать поопасались по совету бискупову, чтоб тем числом денег их к вящему неудовольствию не привесть под нынешний неприятельский выход, понеже они великого числа денег желают, а когда они 20.000 пожелают, то немедленно мы оные пошлем». На войско можно было не посылать денег, но нельзя было не давать секретных пенсий разным влиятельным лицам, чтоб не перешли к неприятелю. Так, шестидесятишестилетний служака, думный дьяк Емельян Украинцев, приехав в Люблин к правительству Речи Посполитой, доносил, что великого государя жалованье примасу Шенбеку, бискупу куявскому и подканцлеру коронному отдал секретно ночным временем, как они сами того желали, маршалку конфедерацкому eщe не отдал, потому что в суете пребывает, многие у него и он у многих бывает. «Подканцлер мне говорил приватно, – писал Украинцев, – что теперь в войске коронном после гетманов самый сильный человек в слове и деле люблинский воевода Тарло, который сам просил у великого государя милостивого призрения, а именно, во-первых, чтоб дали ему денег, во-вторых, чтоб назначено было ему место в России на всякий нужный случай, когда шведы возьмут верх; в-третьих, чтоб ему в этом месте дали дом, двор и пропитание; до сих пор Тарло ничего не получил, даже и милостивого обнадеживания. Ион, подканцлер, свидетельствуясь господом богом в своей истине, служа и радея его величеству в общих интересах обоих государств, доносит и предлагает, чтоб тому воеводе послано было жалованье, хотя бы 2000 рублей, чтоб он в нынешнее время не был в чем противен стороне царского величества».
В октябре велено было Украинцеву отдать полякам 20.000 рублей на войско и грамоту к гетману Мазепе об отдаче Белой Церкви, но гетманы, великий Адам Синявский, и польный Станислав Ржевуский, и другие правительственные лица отвечали ему единогласно, что двадцати тысяч мало, не только принять, но и объявить в войске такую ничтожную сумму они не смеют; если услышит об этом войско, то от них, гетманов, отступит и царскому величеству будет повреждение; они думали, что будет к ним прислано сто тысяч и больше, ибо по союзному договору обещано давать ежегодно по 200.000 рублей, также и Украйну царское величество изволил отдать, и по сие время исполнения никакого нет, только проводят их одними обещаниями да, сверх того, упрекают их в неверности, а они договоров держатся постоянно и во всем верны; и теперь если неприятель явится к баталии и царские генералы потребуют их к себе, то они готовы. Украинцев говорил им, что при министрах царских и при войске денег теперь мало, а когда пришлются из Москвы, тогда будет указ и о прибавке на польское войско; об отдаче Украины, отобранной Палеем, у него грамота министерская к Мазепе. Но поляки твердили свое, что на присылку денег нет им надежды, также и на отдачу Украины, потому что и прежде Мазепа получал об этом министерские письма, но не исполнял по ним. «Хотя я ведаю и надеюсь, – писал Украинцев Головкину, – что господин Мазепа по письму вашему не отдаст Украйны, однако я этого письма не отдал полякам, потому что бискуп куявский писал мне: если и это письмо окажется по-прежнему неправдивым и Мазепа Украины не отдаст, то мы от себя совершенно гетманов, войско и всю Речь Посполитую отгоним». Гетманы прислали сказать Украинцеву, что если войско не получит на одну четверть царского жалованья, то отступит, пойдет к неприятелю, и им, гетманам, делать будет тогда нечего. Украинцев писал Головкину: «Денег по сие время еще я никому не давал, ибо вижу, что ни в одном нет истины; повадили мы их такими дачами и даем деньги, то все равно что в огонь бросаем или в воду сыплем напрасно. Бискуп советует мне дать три тысячи маршалку конфедерации Денгофу, а тот и с другими, с кем знает, поделится. И я рассуждаю, что доведется ему дать: он в войске конфедерации силен, и все его любят, и конфедерация составлена у них для того, чтоб стоять за веру и вольные выборы королевские, и на присягу ныне они подписываются не для нас, но крепятся и вяжутся между собою для себя, но при том и нас в присяге написали явственно. Платим деньги войску их и их дарим, а потом портим все свои дела и дружбу малым грабежом. Меня оглушили жалобами. Бискуп жаловался, что в его бискупии все пограблено и ксендз знатный пытан и повешен. Бог весть, правда ли это? Я не верю и говорил бискупу: можно было бы повешенного ксендза привезти к судьям; ваши управляющие сами покрадут ваше имение да и скажут, что козаки и калмыки пограбили: во всем надобно свидетельство и розыск. Как я вижу, – продолжает Украинцев, – в государеву казну из тех грабежей нет в приходе ничего, а швед, что в костелах побрал серебра, с городов и мест денег, то все в его казну пришло. Если воеводы мазовецкий и любельский станут домогаться, чтоб им в нужное время быть за Днепром, в Чернигове или Нежине, и им бы того не позволять, потому что опасно от таких голов всякого в малороссийских городах плевосеятельства к возмущению и бунту, и ныне если они Украйну отберут, то надобно того же от них накрепко опасаться, а в нужный случай могут они и без нас спастись: под боком у них Молдавия, Валахия, Венгрия, в Прусах Королевец и другие места, а у нас можно им побыть разве на Луках, в Торопце, под Псковом, в Опочке, кроме Смоленска».
Паны надумались и взяли 20.000 рублей; кроме того, Украинцев дал 5000 бискупу куявскому и маршалку конфедерации. Оглушая Украинцева жалобами на грабежи от русского войска, поляки ничего не говорили о своем шляхтиче Выжицком, который зазвал к себе в гости ехавших чрез местечко Дуб семеновских гвардейцев и перерезал ночью сонных: двоих офицеров, сержанта от пушкарей и девять человек солдат. Петр был сильно раздражен и велел объявить польскому правительству: «Сие мне зело печально о таких добрых офицерах и солдатах, которых я с молодых лет с собою растил, а ежели их так здесь станут трактовать, то мы наперед контровизит сделаем». На требования Украинцева, чтоб высланы были немедленно в Брест комиссары и судьи на общие суды, гетманы и бискуп отвечали: «Мы знаем, что вы добиваетесь комиссаров и судей не для других каких дел, а только для вершения дела шляхтича Выжицкого с товарищами; и мы, радея царскому величеству, объявляем, чтоб в нынешнее время Выжицкого с товарищами в Бресте не казнить, потому что он в Польше знатный шляхтич и имеет свойство с домами высокоблагородными, чтоб от того в вольном нашем народе не поднялся ропот и не вкоренилась противность, и без того от разорения и грабежей, которые причиняют главные офицеры-иноземцы, и козаки, и калмыки, в войске, между всеми сенаторами и шляхтою и всяких чинов обывателями, духовными и мирскими великий вопль, вздохи и слезы, а на нас, гетманов, нарекание и злоба, будто мы за них не стоим, тогда как и у нас в имениях то же делается; так мы советуем, чтоб Выжицкий с товарищами за вину свою не был тут казнен, в Бресте, и свезти бы его подальше в Литву, на Белую Русь или в иное место, как Синицкого, который и больше ратных русских людей побил, и казну пограбил, однако не казнен».
В конце года Украинцев писал Головкину: «Не верят поляки нам и опасаются, чтоб мы, оставя их, не заключили с шведом мир с уступкою всего завоеванного. В нынешнее время помощи от них нам не ожидаю; больше всего смотрят и берегут своих интересов; говорил мне бискуп, что и то нам от них помощь, что в нынешнее время лежат они неутралами, к неприятелю не склоняются и на его предложения отвечают, что они в союзе с царским величеством и от него не отступят. Козаков наших хорошо бы с ними не соединять; сам я слышал от гетмана: если они с ним соединятся, то он знает, как с ними поступать: либо целы будут, либо пропадут. Хочет он, гетман, просить у гетмана Мазепы именно полковников Михайлу белоцерковского и Танского: оба они здешней стороны, и козаки у них в полках почти все палеевцы: опасно, чтоб вовсе при них не остались и там начало пристанищу польскому в Украйне не положили, потому что поляки сделают их полковниками здешних же, заднепровских городов. Проговариваются, что если мы Украйны им не уступим, то будут ее заезжать. Теперь здешние все стали веселы и между собою банкетуют и пригарживаются, слыша, что неприятель со всею силою идет на нас в Литву, думают, что и Станислав Лещинский не отстанет от него. Гетман Синявский о взятии жены своей неприятелем попечалился с неделю, а приехав во Львов, стал опять весел и едва не каждый день банкетует».
Нейтральным желанием этих банкетующих господ Петр не мог быть доволен. Чтоб сосредоточить в Польше силы, противные Карлу и Лещинскому, и дать им сколько-нибудь правильное движение, нужен был король, и в мае 1707 г. Петр отправил ксендза Шембека к королевичу Якубу Собескому с предложением польской короны. Шембек получил инструкцию: поспешив как можно скорее к королевичу, изобразить ему правдивое и прилежное желание царского величества и станов Речи Посполитой к персоне его милости, чтоб он немедленно принял корону польскую. Предложить все способы, которыми королевич свободно на престоле удержаться может, а именно что царское величество ему как всеми войсками, так и деньгами помогать будет и, не утвердя на престоле, не оставит. Прилежно стараться, чтоб королевич сам немедленно поспешил сюда на раду или чтоб немедленно секретного министра своего с полною мочью и желанием о короне к царскому величеству и к Речи Посполитой прислал, с обнадеживанием приезда своего, как скоро будет выбран королем. Если бы королевич Якуб сам не захотел принять короны и согласился бы на ее счет с братом своим Александром, то трактовать точно так же и с последним. Если оба королевича подлинного решения не дадут и станут проволакивать время, то объявить им, что это уже последнее от царского величества предложение и государь немедленно станет заботиться о избрании нового короля мимо их. Если королевич согласится принять корону и потом будет лишен ее шведами, то царь обязывался дать ему и жене его в пожизненное владение одну из пограничных западных русских провинций.
Собеский не решился вступить в борьбу с непобедимым королем и отказался от царского предложения. Смелее был поднявшийся против императора седмиградский князь Рагоци, уполномоченные которого заключили 4 сентября договор с Головкиным, кн. Григорием Долгоруким и Шафировым. Рагоци обещал Петру принять польскую корону, если будет выбран вольными голосами; Петр давал ему те же обещания, какие и Собескому. Между прочим, было условлено: если швед в нынешнюю кампанию в Польшу не пойдет, то королевские выборы отложить, а между тем при посредничестве Франции и Баварии попытаться заключить мир с шведами, но переговоры по этому поводу не должны продолжаться более четырех месяцев начиная с первого сентября старого стиля; если по истечении этого времени переговоры не поведут ни к чему, то Рагоци без дальнейшего отлагательства должен принять польскую корону; если швед со всеми силами возвратится в Польшу, то Рагоци не должен считать этого препятствием к принятию короны. Царь обещает приводить добрыми способами императора к возвращению вольности венгерской и седмиградской. Рагоци принимал корону только при условии выбора вольными голосами: но избиратели удерживались постоянными внушениями из Саксонии, что король Август не думает отказываться от польской короны и непременно явится в Польшу с войском. То же самое давали знать царские агенты при германских дворах Урбих и Лит, пересылая обещания и требования старого союзника. Головкин писал по этому случаю Петру из Минска 21 ноября: «Изволишь нам на Августово дело и требование последнее свое изволение прислать, а мы подаем вашему величеству по должности своей в рассуждение, что, како мы чаем, едва ли он без дачи денежной пред выездом еще из Саксонии тот договор с вашим величеством совершить склонится ль? А давать ему деньги, не видав подлинной надежды к выходу его и к начинанию против шведа паки войны, не может никто советовать. И мы писали к Литу, дабы он в приезд Флеминга (Августова министра) в Берлин всяким образом старался их от того запросу ясными доводами, что того чинить без самого действа и начинания Августова невозможно, а то действо ничем иным, кроме вступления его в Польшу, утвердиться не может. И тако той дачи ему от вашего величества давать наперед не мочно».
Наконец к Головкину явился посланный от Августа Шпигель с просьбою, чтоб его непременно отпустили к царю для личных объяснений. «Рассудили мы за благо, – писал Головкин царю 24 декабря, – Шпигеля отпустить к вашему величеству, у которого, государь, изволишь доношение Августово в удобное время выслушать и отправить его с милостию, дабы тем Августа о склонности вашего величества к нему весьма уверить и к скорому выходу в Польшу охоты ему додать».
Но без решительного военного успеха с русской стороны нельзя было додать Августу охоты к скорому выходу в Польшу. Также напрасны были старания заключить сколько-нибудь выгодный мир со Швециею при посредстве западных держав. В январе 1706 года, перед отъездом своим в Белоруссию навстречу Карлу XII, царь, будучи у голландского резидента фон дер Гульста, сказал ему: «Эта война мне тяжка не потому, чтоб я боялся шведов, но по причине такого сильного пролития крови христианской; если благодаря посредничеству Штатов и высоких союзников король шведский склонится к миру, то я отдам в распоряжение союзников против общего врага (Франции) тридцать тысяч моего лучшего войска». Голландия отмолчалась; попробовали затронуть Англию.
Еще в 1705 году приехал в Москву чрезвычайный английский посланник Витворт для исходатайствования торговых выгод и в разговоре с Головиным распространился о доброжелательстве своей королевы к его царскому величеству, утверждал, что английскому посланнику в Швеции наказано предлагать посредничество королевы к примирению между Швециею, Россиею и Польшею, и если у царского величества и у короля польского придет к генеральному миру с шведом, то королева готова быть посредницею и будет искать пользы России. Головин спросил, не имеет ли посланник от королевы какого указа о предложении посредничества к примирению России и Польши с Швециею? Витворт отвечал, что ему наказано предложить королевино посредничество, смотря по поступкам шведского короля, по его намерению и склонности к миру, но теперь, едучи дорогою, был он нарочно в Силезии и Данциге и проведал подлинно, что у шведского короля нет никакой склонности к миру, поэтому он не может ничего предложить царскому величеству. В конце 1706 года Петр велел ехать в Англию Андрею Артамоновичу Матвееву: «Понеже сие место ныне принципальное в мочи у всего алиирта». Матвеев должен был напомнить королеве Анне обещание посредничества, данное через Витворта, просить немедленно приступить к делу и представить, что в благодарность за это царь вступит в их «великую алианцыю ». Если, сказано в инструкции Матвееву, английские министры станут отговариваться, что теперь им это посредничество нельзя предложить шведу за французскою войною, швед его не примет, то отвечать, что они должны приступить к делу для собственной пользы: нельзя им позволять шведу так усиливаться, потому что он явно держит сторону Франции, вопреки своим обещаниям вступил в области Германской империи и самовластно распоряжается в Саксонии, разоряет ее до основания, чтоб дать отдых французу и поддержать венгерский бунт. Если английские министры спросят, какая польза им будет от союза с царским величеством, то объявить, что царь пошлет войска свои, куда им будет нужно, доставит материал на их флот, может послать войска свои в Венгрию для укрощения тамошнего бунта, который так вреден союзникам, оттягивая силы Австрии и давая отдых Франции. Союзникам легко принудить Швецию к миру: стоит только послать эскадру в Балтийское море и возбудить короля датского и других князей империи; что же касается условий мира между Россиею и Швециею, то царь отдает это дело на волю королевы, выговаривая одно, чтоб возвращенное в нынешнюю войну его оружием отеческое достояние осталось за Россиею; царь отказывается от всяких великих запросов и даже обещает некоторую уступку и относительно основного требования. Посол должен был объяснить, как выгодно будет для англичан, когда Россия получит удобные пристани на Балтийском море: русские товары будут безопасно, скоро несколько раз в год перевозиться в Англию не так, как теперь из Архангельска; русские товары станут дешевле, потому что балтийские пристани близко от Москвы и от других значительнейших городов и водяной путь к ним удобный. Матвеев мог предложить немедленно же написать торговый трактат. В черновой инструкции было тут приписано: «Буде потребно, мочно во обнадеживание их написать, что не изволите великих воинских флотов на том море иметь». На это Петр собственноручно написал: «Зело потребно, только о числе (т.е. кораблей) еще прежде времени не давать знать».
Если посол, продолжает инструкция, увидит невозможность уговорить английский двор исполнить желание царского величества, то должен искать способа, как бы склонить на свою сторону Малбурка , и казначея Годольфина, и секретаря северных посольских дел и обещать им немалые подарки; поступать при этом осторожно, разведав, склонны ль эти министры ко взяткам, также остерегаться, чтоб даром чего не раздать. Здесь Петр собственноручно написал: «Не чаю, чтоб Малбурка до чего склонить, понеже чрез меру богат, однако ж обещать тысяч около двух сот или больше».
По желанию английского двора Матвеев мог заключить договор и с министрами других союзников. Последняя статья черновой инструкции оканчивалась вопросом: если союзники возьмутся устроить мир только на том условии, чтоб за Россиею осталась одна гавань на Балтийском море, а все другие завоевания возвратить шведу, то как тут поступать Матвееву? На это Петр написал: «В сей статье не отказывать, но испросить на доношение, тако ж и о границе; буде же по самой крайней мере (о чем надлежит смотреть под потерянием живота) придет до того, что ни времени не дадут на описку, а скажут так – или делать, или больше примать не будут, то чинить свободный договор, однако ж граничение без описки отнюдь не делать и сие чинить, видя последнее».
В начале мая 1707 года приехал Матвеев в Лондон и дал знать в Россию, что «с первого случая нашел к себе обхождение господ англичан приятное; только из внутреннего исполнения действ больше буду ожидать впредь, нежели из внешностей». Трудности не замедлили представиться: правление не самодержавное, без парламента королева ничего сделать не может, а главное, две факции – тори и виги: одни держат сторону королевы и ее союзников, другие – сторону наследника из дому ганноверского и его союзников, т.е. шведов, вследствие чего английский двор представился Матвееву многоличным . Представившись королеве, Матвеев имел конференцию, с государственным секретарем Гарлеем, по требованию которого подал письменное предложение о союзе. Ответа на это предложение долго не было. Матвеев объяснял эту медленность тем, что английское правительство находится в большом затруднении: с одной стороны, боится затронуть могущественного короля шведского, находящегося в Германии, с другой – не хочет оскорбить и русского царя, с государством которого англичане производят такую выгодную торговлю. Матвеев ездил в Виндзор с докуками , чтоб занялись поскорее его делом; один ответ – недосуг. Матвеев сердился; особенно сердился он на английских купцов, торгующих с Россиею, что не помогали ему ни в чем своим влиянием, как по главному делу о союзе, так и в его требованиях, чтоб Англия не признавала Лещинского королем польским и не гарантировала Альтранштадский мир; он писал Головкину, что в России надобно поприжать английских купцов и таким образом заставить их проснуться и хлопотать за русские интересы: «Много я потерял труда, ходя за теми мужиками, английскими купцами, но они, кроме одного Стельса, не только не оказали мне никакой помощи, даже и ответа не дали, и никого из них я у себя не видал, только раз были у меня по моем приезде с своими рассказами суетными».
Наконец Гарлей в приятельском разговоре сам объявил Матвееву, что русское дело отложено по той причине, что королева при настоящих обстоятельствах не хочет ссориться ни с Россиею, ни со Швециею, тем более что Карл XII объявил решительно, что не затронет Австрии. Держать, однако, Матвеева слишком долго без ответа было нельзя, и в конце августа сама королева объявила ему, что готова вступить с царем в великий союз; в начале сентября приехал к нему Гарлей потолковать о содержании ответной грамоты королевиной к царю: в грамоте королева объявляла явно о своем вступлении с царским величеством в великий союз и, как скоро получится на это согласие Голландии, обещала немедленно объявить, на каких условиях этот союз должен быть заключен, причем королева изъявила желание заключить особый торговый трактат для общей пользы обоих государств. Гарлей сообщил Матвееву под великою тайною, что английский посланник уже обещал шведским министрам дать денег на избавление Паткуля от смерти. «Впрочем, – прибавил Гарлей, – это дело домашнее; публично королева в него не вмешивается, только думаю, что Паткуль спасется от смерти». Марльборо писал к Матвееву, что употребит все свое старание у Штатов, чтоб побудить их согласиться на принятие России в великий союз, но Матвеев мало полагался на эти обещания и написал к оставленному им в Гаге русскому агенту Фандербургу, чтоб разузнал, как будет действовать Марльборо по русскому делу, сходно ли будет его поведение с словами и обещаниями или объявится мед на языке, а желчь в сердце?
Теперь пришел черед Штатам медлить; прошел сентябрь, октябрь – нет ответа. На докуки Матвеева английские министры отвечали, что они ничего не могут сделать до возвращения Марльборо из Голландии. «Здешнее министерство, – писал Матвеев Головкину, – в тонкостях и пронырствах субтельнее самих французов, от слов гладких и бесплодных происходит одна трата времени для нас». 9 ноября приехал Марльборо в Лондон и на другой же день вечером посетил Матвеева; долго разговаривали они один на один; Марльборо рассказывал подробно о своих стараниях в Голландии, чтоб заставить Штаты согласиться на принятие России в союз; Штаты склонны к этому, но надобно хлопотать, чтоб другие союзники согласились, а это дело трудное по настоящему военному времени, впрочем, надобно иметь полную надежду, что королева исполнит все по желанию царского величества. Матвеев решился просить герцога, чтоб он, как честнейший человек, сказал прямо, без сладких обещаний, может ли царь чего-нибудь надеяться или нет? Марльборо в ответ рассыпался в обнадеживаниях и обещаниях всякого рода. Но одними этими обнадеживаниями и обещаниями и надобно было ограничиться.
На континенте вошел в сношения с Марльборо царский агент Гюйсен. Герцог объявил ему, что готов содействовать видам царя, если ему дано будет княжество в России. Когда Головкин дал знать Петру об этом, то получил ответ: «Ответствовать Геезену на его вопрошение, что дук Малбург желает княжества из русских: на что отписать к Геезену, и если от так и вышереченный дук к тому склонен, то обещать ему из трех, которые похочет-Киевское, Владимирское или Сибирское, и притом склонять его, чтоб оный вспомогал у королевы о добром миру (с) шведом, обещать ему, ежели он то учинит, то с оного княжества по все годы жизни его непременно дано будет по 50000 ефимков, тако ж камень рубин, какого или нет, или зело мало такого величества в Европе, тако ж и орден св. Андрея прислан будет». Дело не пошло далее. Никакое посредство не могло иметь действия при твердо выраженной воле Петра: «По самой нужде и Нарву (шведу) уступить, а о Питербурхе всеми мерами искать удержать за что-нибудь, а о отдаче оного ниже в мыслях иметь». Так, весною 1707 года посредством французского посла при Рагоци Дезальера сделано было предложение Людовику XIV быть посредником при заключении мира между Россиею и Швециею на приведенном условии, за что Петр обещал Людовику свои войска, которые король мог употребить по своему желанию. Дело началось, но Карл XII отвечал, что согласится на мир только тогда, когда царь возвратит все завоеванное без исключения и вознаградит за военные издержки; что он, Карл, скорее пожертвует последним жителем своего государства, чем согласится оставить Петербург в руках царских.
Так же мало было надежды и у венского двора, при котором находился в это время Гюйсен.
Он писал 19 марта 1707 года: «Неприятель наш не спит и старается у других народов привести наш народ в ненависть; шведские министры внушают при всех дворах, что царское величество благодаря своему многочисленному и хорошо обученному войску может со временем предпринять наступательное движение на других государей и преодолеть их скифским подобием. Царевичу своему велел быть в Польшу, чтоб его или князя Александра Меншикова сделать королем польским; главный интерес соседних государей требует препятствовать всеми средствами, чтоб царское войско и флот не могли прийти в лучший порядок. Эти внушения имеют силу здесь: цесарь признал Станислава королем, и думаю, что никогда не будет просить царское величество о посылке в Венгрию московских войск. Когда была здесь речь, что царское величество согласится, по цесаревой просьбе, послать несколько тысяч московских Козаков в Седмиградскую землю для склонения венгров к миру, то цесарские министры, склонные к шведской стороне, рассуждали, что никак нельзя на это согласиться: царь может утвердиться в Венгрии, опершись на живущих здесь сербов греческой веры».
Гюйсен имел поручение предложить от имени царя польскую корону знаменитому императорскому полководцу, принцу Евгению Савойскому. Гюйсен написал об этом Евгению в Милан, и тот отвечал Петру 3 мая, что останется вечно благодарен за такое милостивое расположение к его особе, но, находясь в императорской службе, он не может ничего сделать без ведома императора и всего менее думает оставить службу последнего; кроме того, он находится теперь вдали от двора и накануне открытия кампании. Гюйсен отправился в Милан к Евгению, чтоб лично настаивать на принятии царского предложения. Евгений дал знать Петру от 12 мая, что отправил нарочного курьера к императору с извещением о царском предложении. Какой был получен ответ от императора, неизвестно; только в июне Гюйсен доносил из Вены, что император и принц Евгений охотно приняли бы царское предложение, только императору хотелось бы, чтоб царь и Речь Посполитая отложили избрание до окончания войны. Этим дело и кончилось.
Отношения к Пруссии очерчены всего лучше в письме Петра к Шафирову (от 24 сентября 1706 года): «Прусскому посланнику много нечего говорить, только что мы дружбу его всегда ищем, чего для и Измайлова послали, а частные перемены зело смущают, и нельзя знать, при чем ставят, понеже повсягды разные, также и предложения несносные, которых никогда принять невозможно, а посланнику благодари о его доброжелании». В чем состоял наказ отправленному в Берлин Измайлову, видно из следующего письма к нему Головкина в январе 1707 года: «Изволишь всячески трудиться против данного вам наказу, дабы его королевское величество восприял медиаторство к пользе его царского величества между королем шведским; буде же на то не изволит поступить, то б изволил подтвердить прежний союз и объявил бы себя нейтральным и в том бы изволил весьма обнадежить и дать письмо, чтоб его царское величество весьма в надежде доброй пребывать мог. И буде такое письмо его королевское величество соизволит дать, то и ваша милость изволь взаимно, присовокупя о том особливую статью к прежнему союзу, дать, написав за своею рукою, и твердо обнадежить, что его царское величество в непременной дружбе с его королевским величеством быти желает; однако ж наипаче всего изволь по всякой возможности трудиться, дабы его королевское величество восприял медиацию. Что же изволишь упоминать о обещании министрам денег и советуешь, дабы г. графа Вартенберга чем удовольствовать, то изволь ему, если что он учинит у своего короля к пользе его царского величества, обещать знатное число суммы, и так обещай, что ежели в добром медиатерстве обяжутся, то ему при том же подписании и заплачено будет, а хотя б со стороны царского величества некоторые из завоеванных мест знатная часть и уступлена была, однако ж чтоб мир благополучный получен был, то и за то ему, графу, или кому иным, причинным к тому, обещать хотя и до ста тысяч ефимков». Ничто не помогало.
Данию также тщетно старались вовлечь снова в войну против Швеции, предлагая Дерпт и Нарву. Хлопоча повсюду на западе о прекращении опасной войны со шведом, царь еще сильнее должен был хлопотать на востоке, чтоб эта война не стала еще опаснее чрез присоединение к ней войны турецкой. Мы оставили русского посла Петра Толстого в Константинополе в 1705 году, когда ему удалось освободиться от стеснений, причиненных наветами турецкого посла, бывшего в Москве. После этого Толстой начал присылать успокоительные вести: «О начатии турками войны в какую-нибудь сторону вовсе не слышится, только султан очень прилежно собирает деньги, и то, как видно, чтоб удовольствовать янычар, боясь от них бунтов. Нынешний визирь никакого дела сделать не умеет, ни великого, ниже малого, и потому я теперь сижу без дела и ни о чем с министрами их говорить не могу; также и министры их, видя визирское нерассудство, ни в какие дела не вступают». В конце года Головин писал Толстому наставление – слушаться советов иерусалимского патриарха, посылать письма только через старых друзей, не отпускать в Москву греков, мастеровых людей и матросов, потому что они лживы. Толстой отвечал в январе 1706 года: «Советоваться с святейшим патриархом, ей, усердно рад, только б изволил подавать совет безбоязненно; письма посылать чрез старых друзей всеусердно желаю, но в то время, когда бываю в утеснении, опасаются они и не принимают и в нужные времена бегают, сыскать их негде, потому посылаю и через других, а когда мне бывает свобода, тогда приятели усердствуют изрядно. Греков отпускать к Москве не буду, потому что в самом деле от мала до велика все лгут и верить им отнюдь нельзя. Только прошу милости: если мне великий государь укажет еще в сих тягостях быть, то мне не занимать денег на мое пропитание невозможно, а занимать, кроме греков, не у кого. Ныне известно единому богу, в какой живу нужде; из соболей, присланных мне в годовое жалованье, до сего времени не продал ни одного и впредь их скоро продать не надеюсь, потому что, на мою беду, привезли нынешний год греки в Константинополь соболей больше пяти сот сороков да турки разгласили, чтоб соболей, кроме визиря и султана, никто не носил, и потому теперь соболей никто не покупает. Прошу милости, чтоб мне выдать жалованье деньгами в дом мой; особенно же милости прошу, умилосердитесь надо мною, сирым, для любви сына божия и для пресвятые богородицы, заступите милостию своею, чтоб меня, бедного, указал великий государь переменить: уже ныне строением божием и вашею верною к великому государю службою видится, что мирное состояние конечно утвердилось, и, кто ныне здесь ни будет, кажется, что может пребывать безопасен».
Чтоб приласкать полезного человека, заставить его служить без жалоб на важном и тяжелом месте, Петр написал Толстому собственноручно письмо: «Господин амбасадер! Письмо ваше мы благодарно приняли, на которое и о иных делах писал к вам пространнее господин адмирал. Что же о самой вашей персоне, чтоб вас переменить, и то исполнено будет впредь; ныне же, для бога, не поскучь еще некоторое время быть, больше нужда там вам побыть, которых ваших трудов господь бог не забудет, и мы никогда не оставим». Толстой пришел в восторг. «Паче достоинства моего убожества, – писал он Головину, – благоизволил его величество явить ко мне, последнейшему своему рабу, такую превеликую милость, за которую должен хотя бы и сто раз умереть, исполняя его величества повеление, и уже не только стужать челобитьем о перемене моей, ниже мыслить сего возмогу, хотя бы и до конца жизни моей быть мне в сих трудах; со всякою радостию, с веселым сердцем готов работать усердно и быть в странствии и бездомстве, и в том дерзновении уже вельми раскаиваюсь, что дерзнул принести о перемене моей рабское мое челобитье».
В апреле 1706 года опять произошла перемена визиря: новый визирь Али-паша, говорили, был человек добрый и разумный; принял он Толстого ласково. «Воистину, – писал Толстой, – зело убыточны частые их перемены, понеже всякому визирю и кегае его посылаю дары немалые, и пропадают оные напрасно, а не посылать невозможно, понеже такой есть обычай и так чинят все прочие послы».
С новым визирем Толстой не поладил по поводу ссор кубанских татар с донскими козаками. «Министры турецкие, – писал Толстой 4 августа, – о ссорах кубанских никакого определения до сего числа не сделали; много я с ними о том говорил, но визирь очень загордился и не только не хочет решить дела по правде, но и слов моих не слушает и ни на одно мое предложение не отвечает. Кажется, они так делают потому, что с нашей стороны татарам ни в чем не противятся, а известно, что народ турецкий неблагодарен, кто им уступает, того они больше презирают. К тому же проклятые волохи беспрестанно к Порте пишут, веселя ее, будто рати великого государя вконец побеждены шведами, и от этого турки еще больше гордятся; о похищенных людях и о всяких вещах, что взяли кубанцы, написать бы к крымскому хану не с прошением, но посуровее, чтоб не мыслили турки, что мы изнемогли и их боимся».
Скоро явилась новая причина к столкновению. Толстой дал знать, что приехал от крымского хана мурза Алей; с ним хан писал к Порте, что татары, живущие в русских областях, прислали к хану одного султанского сына и трех черных татар, и писал, что хотят из царского подданства выйти все и переселиться в Крым, потому что в России обижают их в вере, берут с них много денег и свадеб своих не могут они отправлять без русских попов; чтоб крымский хан прислал к ним на помощь войско, и они с женами и детьми выйти из Российского государства в Крым могут. Хан просил у Порты позволения дать требуемую помощь; визирь созвал совет, на котором муфти говорил, что по их закону надобно принять татар.
Все это было крайне опасно в конце 1706 года, когда Россия должна была поднять одна всю тяжесть шведского нашествия. Опять стали думать, как бы занять турок и отнять у них возможность соединиться с шведами против России; Толстой писал: «Премного я мыслил, как бы тайно побудить Порту на вступление в войну с цесарем? Не мог другого придумать, как согласиться тайно чрез переводчика с послом французским и чрез последнего внушать об этом Порте. Сначала стану говорить французскому послу: как жаль, что Порта подозревает царское величество в неприязненных к себе намерениях, не верит, что царское величество непременно хочет с нею сохранять мир, и не могу я один ее в том уверить, и желаю его помощи, потому что он Порте приятель, и пусть будет между мною и Портою тайно медиатором. Думаю, что он будет этому рад, ибо ему то и надобно, чтобы Порта со стороны царского величества ничего не опасалась и скорее бы к венгерскому делу пристала. Потом, когда он в дело вступит, можно ему внушить, что царское величество не будет мешать Порте управляться с прочими соседями, потому что теперь имеет дело с шведами; думаю, что он за это схватится крепко, и потом, посмотря, если будет надобно, можно сказать ему и появнее. И так надеюсь на бога, что к этому делу приступлю. А если бы французский посол и захотел кому-нибудь об этом объявить, хотя бы самому цесарю, – не поверят, зная, что он этого желает и потому затевает из своей головы. А самому мне говорить об этом Порте нет никакой возможности: во-первых, подумают, что мы нарочно хотим их занять, чтоб тем успешнее начать с ними войну; во-вторых, тотчас объявят об этом цесарю, потому что постоянно желают ссорить христиан. Мог бы я это сделать, подкупив ближних султанских и визирских людей, не ясно им открывая дело, подсылать с некоторыми приличными словами: однако и этого делать нечем, просят больших дач, а мне нечего давать, и опасаюсь, чтобы дача напрасно не пропала. Идут слухи, что венгры усиливаются против цесаря. Я подсылал к визирю одного его ближнего человека с вопросом: примут ли они венгров или не примут? Визирь отвечал, что есть пословица: когда неприятель войдет в воду до пояса, надобно ему подать руку и спасти его от потопления; когда войдет по грудь, дать ему волю делать что хочет, а когда уже взойдет по горло, тогда надобно его пригнесть и безопасно утопить. Нам теперь надобно смотреть, что будет делаться у венгров с цесарем».
Действовать заодно с французским посланником оказалось неудобно, потому что этот посланник начал действовать против России. Весною 1707 года Толстой дал знать, что французский посланник получил от своего короля приказание поссорить Порту с Россиею, не щадя никаких иждивений: посланник согласился тайно с ханом крымским, который и прислал в Константинополь своего визиря с просьбою позволить татарам идти на помощь полякам, которые в союзе с шведами. Хан писал, что он не смеет и не хочет доносить Порте ничего о делах московских, потому что за такие донесения отец его и брат пострадали, но и молчать ему больше нельзя, потому что государь московский уже пришел к ним в близкое соседство, овладел ключом Крымского острова – Каменец-Подольским и теснит Крым с двух других сторон – азовской и запорожской, так что татары не знают – чего им больше ждать? Французский посол, с своей стороны, неусыпно промышляет как у визиря, так и в султанском доме, разослал письма к ближним султановым людям. «Узнавши об этом, – писал Толстой, – я разослал от себя письма к тем же султанским ближним людям, потому что дело это надобно делать очень тайно; не надеюсь, впрочем, чтоб мои письма были приняты с такою же любовию, как французские, потому что французский посланник посылал свои письма вместе с богатыми подарками, а турки имеют такой обычай, что отца родного и веру за подарки продать готовы. Теперь турки в раздумье, и на которую сторону склонятся – бог ведает. Признали полезным послать к русским границам, в город Бендеры, Юсуф-пашу, господаря молдавского и валахского, также румельских тамариотов и других служилых людей из Румилии под предлогом перестройки бендерской крепости, а в самом деле опасаются внезапного нападения. Это мне не нравится, ибо ясно, что начинают верить лжам французского посла и бредням татарским: также послали указ крымскому хану, пашам в Софию, Очаков, Керчь и другие места, чтоб были осторожны. Прибавил мне тягость Юсуф-паша силистрийский, писал к Порте, что московской границы без войска оставить нельзя; это письмо привело Порту в большое сомнение, потому что прежде он так не писывал».
Толстому удалось проведать в султанском доме содержание писем французского посла; содержание их было таково: оружие цезаря римского и царя московского очень расширяется: чего же ждет Порта? Теперь время низложить оружие немецкое и московское и утвердить свою державу, потому что венгры вопиют о помощи. Если Порта не хочет начинать явной войны, то пусть позволит татарам действовать против Москвы, а на помощь венграм пошлет тайно тысяч 8 или 10 турок. Неполитично позволять одному государю стеснять другого, а теперь царь московский покорил себе Польшу, стеснил Швецию, держит в своих руках Каменец-Подольский, посылает на помощь цесарю на венгров несколько тысяч Козаков. Но Порта должна смотреть, что эти оба государя друг другу помогают по одной причине, чтоб после соединенными силами напасть на Турцию. Если Порта в настоящее время московского царя не утеснит, то уже после долго будет дожидаться такого благоприятного случая. Кроме того, царь московский имеет постоянные сношения с греками, валахами, молдаванами и многими другими единоверными народами, держит здесь, в Константинополе, посла безо всякой надобности, разве только для того, чтоб посол этот внушал грекам и другим единоверцам своим всякие противности. Посол московский не спит здесь, но всячески промышляет о своей пользе, а Порту утешает сладостными словами; царь московский ждет только окончания шведской и польской войны, чтоб покрыть Черное море своими кораблями и послать сухопутное войско на Крым; цесарь римский нападет с другой стороны, и чтоб не принудили мусульман убраться во внутреннюю Азию.