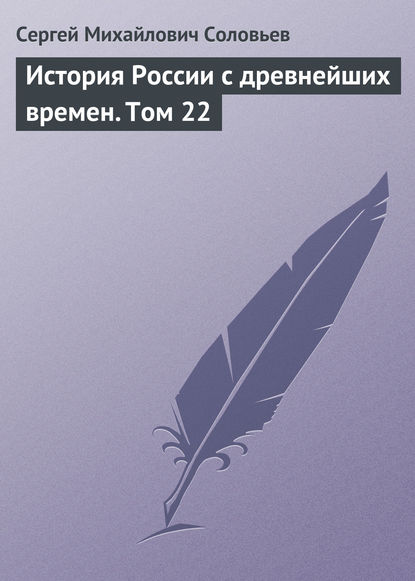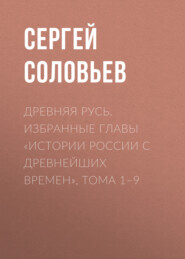По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История России с древнейших времен. Том 22
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сенат представил императрице и другое мнение относительно мануфактурной промышленности: люди и крестьяне на фабриках положены в подушном семигривенном окладе, и этот оклад они должны платить из заработных денег; но заработная цена платится малая, только для пропитания, чтоб не возвысить цены сукнам при казенной поставке; следовательно, подушного оклада из нее платить нельзя, и работники за скудостью разбегутся. Фабриканты платить за них также не могут: казна платит за сукно по 58 копеек, а за каразеи – по 14 1/2 аршина, и от повышения цены на материал фабрики приходят в крайнее разорение. Третьяков за долги всего имения лишился; фабриканты поэтому не могут ничего прибавить к заработной плате, и если за сукно им прибавки не будет или мастеровые люди не будут освобождены от подушного оклада, то они принуждены будут фабрики закрыть. По мнению Сената, так как сукна и материалы долгое время в одной цене стоять не могут, то следует на сукна цену возвысить, чтоб из этой прибавки подушные деньги могли платиться бездоимочно; кроме того, с фабрикантов, поставляющих сукна в казну, не брать рекрут и лошадей. Для поддержания московской шляпной фабрики Черникова и Сафьяникова, поставлявших шляпы на армейские полки, запрещен вывоз из России за море бобрового пуху; запрещено во всей России, кроме их фабрики, делать пуховые шляпы; позволено делать только шерстяные шляпы; Черников и Сафьяников обязались выделывать на продажу ежегодно до 8000 пуховых шляп.
Разбои тогда только и затихали, когда государство употребляло значительные военные силы против них; когда же в описываемое время войска должны были стягиваться к западным границам, то о разбоях опять становится слышно; по Оке снова собираются шайки человек по сорока, выше и ниже Переяславля Рязанского. Из Перми пришло известие, что разбойники разбивают крестьян станицами в 40 человек; по Каме проехали воры в двух стругах; в другом месте показались воры конные и пешие человек с 50; в третьем месте – 25 человек; в четвертом – 56 человек с ружьями и штыками разбили строгановское село Рождественское и вовсе разорили; в пятом месте пришло с 30 человек, сожгли двоих крестьян и прочих жгли и грабили. По реке Сиве явились воровские партии человек до 80, жгли деревни и намеревались разграбить село Серапуль, обыватели в страхе покинули дома и скитаются по лесам; умножались также воры в Соликамском и Чердынском уездах. В городах не только некого послать для преследования, но и городов самих охранять некем, если разбойники вздумают напасть на них, как уже и случилось с Кайгородком: 42 разбойника приплыли под него и разграбили денежную казну. Шайки получили вождей в старых опытных разбойниках: с казанского тюремного двора ушло 20 человек колодников, убийц, разбойников и беглых с каторги, подкопавшись под стену.
В некоторых местах крестьяне боролись с военными командами по наущению разбойников. Премьер-майор Веревкин и поручик Павлов донесли Сенату: посланы они были против крестьян Боровенского монастыря, воров и разбойников Моисея и Полуехта Никитиных с товарищами, забрали 79 человек и провели в Гжацкую пристань, да прежде взято 10 человек, прочие укрываются; захваченные крестьяне объявляют, что они командам троекратно сопротивлялись, посланных против них солдат били и ружья отбивали по приказу Никитиных, потому что в 1744 году была прислана команда для взятия их крестьян ко взысканию за держание беглых. По поводу забранных нужно еще забрать много, ибо в сопротивлении было более 700 человек; следствие скоро окончиться не может, и вотчина может прийти в крайнее разорение. Сенат приказал возмутившихся крестьян разделить на три части: от 15 до 20 лет – бить батожьем, от 20 до 40 – плетьми, от 40 и выше, которые в службу негодны, пущих заводчиков – кнутом, а прочих – плетьми и взыскать с них издержки командирования и за испорченные ими ружья.
С весною по рекам разъезжают разбойники; с весною в городах пожары и вслед за пожарами жалобы на полицию и магистраты. 27 апреля в Твери во время большого пожара воевода с товарищем и секретарь до конца находились безотлучно; обыватели и ямщики не помогали; тогда воевода собрал рекрут и потушил пожар с великой трудностью. Хотя определенный главною полициею в Тверь прапорщик Тархов полицмейстером и числился, только в Твери никогда не бывал, жил в деревнях своих, и хотя в отсутствие Тархова полицейское правление находилось в ведомстве магистрата, только никакого исполнения не было. Беда могла грозить не от одного пожара в городах: московская полиция доносила, что на Кожевном дворе, ниже Каменного моста, отвалились от стены городовые зубцы числом 12 и упали на обывательские дворы, причем задавили младенца до смерти да двух человек поранили; также по Кремлю, Китаю и Белому городу городовые стены и башни в немалой ветхости; у Яузских и Всесвятских ворот городовые стены упали, отчего учинились и смертные убийства; у Сретенских ворот башня первая в крайней опасности, Мясницкие ворота в немалую ветхость пришли, и проезжать в них опасно. Сенат приказал поручить починку означенных ветхостей коллежскому асессору Попову, который должен был находиться в ведомстве московской губернской канцелярии; производить работы он должен был вольнонаемными людьми чтобы обошлось дешевле подрядного, если же нельзя вольнонаемными, то подрядами.
В столице полиция только тогда донесла об опасности, когда отваливающиеся от стен камни убили ребенка; тверской полицмейстер живет в деревнях своих, и воевода должен исполнять его обязанности; важно для области иметь деятельного воеводу, который в опасном случае не сошлется на разделение должностей, на самом деле не существующее. Умер в Туле воевода Маслов; разных чинов люди тульской провинции и помещики подали две челобитные; в одной, подписанной 23 человеками, просили назначить воеводой воеводского товарища Лопатина; в другой, подписанной 21 человеком, просили Ивана Маслова. Сенат отказал и назначил из представленных Герольдмейстерскою конторою кандидатов Квашнина-Самарина. Непристойные поступки воеводы в пьяном виде имели следствием удаление его от воеводской должности; но вообще смотрели на это не очень строго. Так, белевский воевода Шеншин, будучи в компании и напившись пьян, обижал словами дам, придирался к мужчинам, потом велел ударить в набат, встревожил всех жителей, по его приказанию схватили на улице подпоручика Возницына, жестоко избили, шпагу изломали и посадили в тюрьму. Императрица простила Шеншина и велела определить его к делам, к каким годен, кроме воеводства, и велела Сенату впредь такие самовольства воеводам запретить.
Относительно коллегий замечательно в описываемом году донесение прокурора Юстиц-коллегии, что в ней советниками Сабуров и Юшков, асессорами Тарбеев и Извеков. Извеков определился в дворцовую контору и с того времени в Юстиц-коллегию не ездит, отговариваясь делами дворцовой конторы; Тарбеев по болезни не ездит; Юшков ездит чрезвычайно редко; остается Сабуров, который один спорных дел решить не может, и дела в коллегии остановились.
Духовная коллегия (Синод) продолжала жаловаться Сенату на притеснения новообращенным. Известный Ярцев доносил: Курмышского уезда новокрещеные чуваши бьют челом, что по указу императрицы Анны велено им для суда в малых делах выбрать между собою трех человек и судиться словесно, как производится суд между купцами в таможнях, и у них такие выборные старосты есть; но, несмотря на указы, всяких чинов люди делают им великие обиды и разорения, а курмышская канцелярия привлекает их судом и расправою между собою в ссорах, долгах и т. п. и держит их под караулом, отчего им убыток; а они не только приказных порядков не знают, но и по-русски говорить не умеют; теперь они желают для лучшего своего охранения и в малых делах разбора разбираться у курмышского посадского бургомистра Брюханова, потому что он человек добросовестный, богобоязненный и всегда их по бедности награждает, ссужает всякою ссудою и чувашский язык знает довольно. Сенат приказал: исполнять указы, а о том, на что имеются точные указы, утруждать Сенат весьма не надлежало; о обидах же произвести следствие.
Были и старокрещеные народцы, на которых светское правительство указывало Синоду как на полудиких, требующих снисхождения относительно требований христианской нравственности. Воронежская консистория потребовала к следствию сына донского атамана Данилы Ефремова старшину Степана Ефремова и других незаконно женившихся людей. Военная коллегия донесла по этому случаю Сенату, что люди Донского войска не похожи на внутренних регулярных народов, весьма не обычны к правам и регулам, но больше застарелого простого обхождения и обычаев; а так как правит. Синод требует отсылки в архиерейскую консисторию атаманского сына, который там между другими знатными старшиною, то Военная коллегия сама собою сомневается так строго поступить.
Из дел по церковным отношениям замечательны были в этом году два следующие. Медицинская канцелярия донесла Сенату, что в московском госпитале Экономическая синодская канцелярия не делает никаких починок, отчего больные претерпевают великое беспокойство, в пользовании больных остановка и невозможность, и больных принимать нельзя, потому что в палатах, где лежат больные, и в ученических бурсах окончины и печи очень ветхи, топить их опасно; также и строение, где живут служители, очень ветхо; иное и попадало, а в ином зимою жить нельзя. Синод отписывался, что его Экономическая канцелярия не обязана делать починки в госпитале: указа для этого нет; хотя по указу Петра Великого госпиталь построен из сборов Монастырского приказа, но, чтоб его чинить из сборов того же приказа, не изображено, а в табели 1710 года не написано, а положено в той табели только жалованье доктору с товарищи и на покупку лекарств 3797 рублей, что из доходов Экономической канцелярии и производится.
Учреждены вновь три епархии: Московская, Переяславская, Костромская, и еще назначено быть Владимирской и Тамбовской; на содержание архиереев и домов их отданы монастыри: московскому Чудов, переяславскому Горицкий, костромскому Ипатский, и потому доходы с этих монастырей, платившиеся в Экономическую канцелярию, выбыли; на починку ветхостей в архиерейских домах, соборных церквах, монастырях Экономическая канцелярия определила не только на настоящие 1744, 45 и 46 годы, но за неимением такой большой суммы и на будущие 47, 48, 49 и 50 годы более 30000 рублей, и еще Экономическая канцелярия представляет о крайних ветхостях во многих монастырях, а на исправление их по сметам архитекторским потребно более 60000 рублей; итак, починки госпиталя из доходов синодальных исправлять никак не следует, а имеется на содержание госпиталей собственная, с венечных памятей собираемая в Военную коллегию сумма, и требует св. Синод, чтобы госпитальную починку и постройку производить из этих лазаретных денег. Но Сенат приказал в св. Синод сообщить ведение, что госпиталь исправить надобно непременно из доходов Экономической канцелярии в непродолжительном времени, чтобы больным от стужи не помереть, ибо если уже госпиталь строен на деньги Монастырского приказа и содержится на деньги Экономической канцелярии, то и чинить его надобно из тех же доходов.
Мы знакомы уже с вятским епископом Варлаамом, который вышел невредим из дела по столкновению своему с воеводою и возвратился в свою епархию. Но по поводу этого возвращения Сенат снова должен был услыхать о Варлааме. Пыскорского монастыря стряпчий Карпов объявил, что в монастыре было денег, собранных с мельниц, 1030 рублей. Епископ Варлаам наложил на Пыскорский монастырь 600 рублей для вознаграждения за употребленные им в Петербурге и Москве расходы и путевые издержки; но так как подобных платежей никогда не бывало, то монастырь денег не отпустил, за что архимандрит взят был в Вятку и отпущен только по указу из Соляной конторы, ибо монастырь владел солеварнями, находившимися в ведении Соляной конторы. Так как для управления соляными монастырскими промыслами назначено было особое комиссарство, то архимандрит отослал туда же и мельничные деньги вместе с приходными книгами; за это консистория наложила на архимандрита штраф в 50 рублей, велела потребовать книги из комиссарства обратно и запретила впредь отправлять туда деньги и книги. Епископ Варлаам приехал в монастырь, денег и штрафа спрашивал, и хотя ему поднесено было в почесть 200 рублей, да пушным товаром и прочими вещами 40 рублей, да бывшим при нем духовным и светским лицам 106 рублей, только он мельничные деньги и штраф взыскивал, угрожая жестоким наказанием, и из оставшихся от расхода мельничных денег 477 рублей забрал себе, причем бил казначея плетьми так жестоко, что тот лежал без памяти; архимандрит дал архиерею своих и заемных еще 50 рублей.
Внутреннее состояние России, особенно состояние финансов, представляло явления, которые могли дать повод иностранным посланникам толковать о слабости этой державы. В самом начале года Дальон писал Даржансону, что Россия слаба, что королю прусскому нечего ее бояться. Но любопытен ответ Даржансона. «Фридрих II другого мнения, – пишет министр, – потому что больше чем когда-либо боится поссориться с Россией и навязать на свою шею силы этой державы. В 1733 году Россию также представляли бессильною, стараясь побудить нашего короля к доставлению польского престола тестю своему Лещинскому; но потом оказалось, сколько Россия могла сделать в Польше и Германии, доведя войска свои до самого Рейна; и в скором времени та же самая держава взяла такой верх над турками, что если бы венский двор умел держать себя только в оборонительном положении, то турки в одну кампанию могли бы потерять все свои европейские владения».
Даржансон недаром пророчил о новом походе русского войска к Рейну. Успехи французов в австрийских Нидерландах и опасность, какою грозили эти успехи голландцам, заставили морские державы снова попытаться, нельзя ли склонить Россию на более сходных для них условиях дать им свое войско, причем выставлялось, что это будет единственным средством ускорить всеобщее замирение Европы. В самом конце 1746 года возобновились переговоры о «перепущении» русского войска для морских держав. 8 декабря лорд Гиндфорд подал об этом промеморию; 22 декабря дан ему ответ с согласием на перепущение войск и с объявлением условий, относительно которых Гиндфорд отвечал, что дорого просят. Тогда 29 декабря в Зимний ее величества дом перед полуднем приглашены были для совещания генерал-фельдмаршал Леси, канцлер Бестужев, вице-канцлер Воронцов и член коллегии Иностранных дел тайный советник Веселовский. В это заседание выслушаны были только относящиеся к делу бумаги, после чего во втором часу разошлись; а после обеда, в 6-м часу, собрались опять, уже впятером, потому что по воле императрицы явился генерал кригс-комиссар Апраксин, для которого снова прочитаны были все бумаги; после рассуждения составили проект конвенции. Тридцать тысяч русского войска, по мнению фельдмаршала Леси, должны были действовать на Рейне вместе с союзниками. Идти они должны были от Курляндии чрез Литву и Польшу на Краков в Силезию по маршруту, данному австрийским посланником бароном Бретлаком, одною дорогою, разделяясь на три колонны. Проход чрез Польшу в 162 мили, полагая на третий день роздых, продолжится не меньше трех месяцев; на содержание корпуса против внутренних цен надобно положить вдвое, и потому выйдет на три месяца 145525 рублей 83 коп.; надобно, следовательно, требовать у английского двора уплаты наперед 150000 ефимков наличными деньгами, чтоб для приготовления провизии и фуража в Литву и Польшу прежде вступления туда войск могли быть отправлены нарочные комиссары; а если эта сумма английскому двору покажется велика, то пусть пришлет своих комиссаров, которые будут заготовлять и выдавать войску провизию и фураж. В землях римской императрицы продовольствие войскам должно быть приготовлено также от английского двора или от римской императрицы, по их соглашению. Войска отпускаются на два года, считая с выступления их за границу, если мир будет заключен до этого срока, то войска отпустятся ранее назад, в Россию; если же нужно будет удержать их долее срока, то об этом дастся знать за полгода до истечения двух лет для новых соглашений. Если английский двор не примет войска на этих условиях, то императрица соглашается содержать на лифляндских границах от 80000 до 90000 регулярного войска во все время продолжения настоящей войны и 50 галер в Курляндии с 12000 войска за полмиллиона голландских ефимков. Начальником корпуса назначен был генерал-фельдцейгмейстер князь Василий Репнин, для которого фельдмаршал Леси написал инструкцию.
Между тем прошло два месяца – январь и февраль 1747 года, и 12 марта Гиндфорд прислал промеморию, что после подания им первой промемории (8 декабря) пропущено несколько недель понапрасну, что войско не может выступить в поход заблаговременно и может быть употреблено только на половину кампании; кроме того, данные парламентом королю деньги на субсидии текущего года по большей части уже издержаны на наем войска в других ближайших местах, и потому король желает заключить другую конвенцию, а именно чтобы Россия обязалась в течение 1747 года держать тридцатитысячный корпус войска на курляндских и лифляндских границах, 12000 в Курляндии и 18000 на лифляндских и литовских границах, сверх того 60 галер в курляндских портах, чтобы все это готово было действовать по первому требованию английского короля, который обязывается на этот год одновременно заплатить 100000 фунтов стерлингов, как скоро ратификации будут разменены. Если же войска действительно должны будут выступать в поход, то о содержании их должно быть дальнейшее соглашение.
Канцлер переслал промеморию и проект конвенции в коллегию на рассмотрение, давая знать, что императрица вообще согласна на конвенцию, но что по его, канцлерову, мнению согласиться на содержание войска в Курляндии нельзя, а надобно выразиться так, что войско пробудет там до тех пор, пока будет возможно, ибо со стороны поляков могут быть сильные крики. Члены коллегии Воронцов, Юрьев и Веселовский подали мнение, что в английском проекте очень темно сказано, «чтоб по первому требованию короля войско и галеры готовы были действовать». Необходимо знать, одним ли русским войскам действовать или вместе с союзниками и под каким именем, вспомогательных войск или данных за 100000 фунтов, также в каком месте должны действовать, а без точного знания всех этих обстоятельств глухо обязываться на письме кажется непристойно. Также и то надобно выговорить в конвенции, что если будет заключен мир между Франциею и Англиею, то деньги все же должны быть заплачены и войска с галерами не были бы понапрасну продержаны целый год. Недолжно обязываться держать войска и галеры в Курляндии, не имея права держать войска в чужой земле: и так уже поданы курляндцами горькие жалобы по поводу введения только трех полков. Наконец, надобно постановить, что в случае нападения на Россию с какой бы то ни было стороны можно было взять эти 30000 войска и галеры.
Тогда Бестужев подал свое «слабейшее мнение, которым он по поводу вице-канцлерова и обоих тайных советников мнения ее императ. величество поневоле утруждать принужден». «Вице-канцлер и тайные советники не приметили, – говорит Бестужев, – что в проекте ясно сказано: если войску понадобится выступить в поход нынешним годом, то о содержании его должно быть дальнейшее соглашение, прямо поэтому следует, что войска прежде в поход не выступят, пока не будут определены условия, как их содержать. Вице-канцлер и тайные советники хотят постановлять, чтобы деньги были заплачены, если бы даже и мир был заключен; но в проекте прямо сказано, что деньги выплачиваются немедленно после ратификации, и потому, что хотя бы мир заключен был по прошествии одного или двух дней по размене конвенции, деньги были бы выданы. Если же они думают, что хотя бы мир был заключен во время переговоров о конвенции, однако 100000 фунтов должны быть заплачены за одно сочинение контрпроекта, то английский двор не был бы так прост, чтоб стал давать деньги даром, а между тем утвердился бы в своем мнении, что здесь никакого дела к концу приводить не хотят. Если из уважения к королю прусскому войска от границ совершенно отвести и ему невозбранный путь в Лифляндию очистить, то это будет несогласно с интересами вашего императ. величества; чтоб не вносить в конвенцию о содержании войск в Курляндии – это было мое мнение. Но если принимать в уважение горькие жалобы курляндцев, то русским войскам никогда из своих границ трогаться нельзя будет; Петр Великий, невзирая на все их прошения и жалобы, не только войска свои там содержал, но и шведам сражения давал.
Что же касается до совета выговорить, чтоб в случае нападения на империю эти 30000 войска могли быть отведены от границ, то это противно прежнему решению, объявленному Англии, что ваше величество соглашаетесь содержать на границах от 80000 до 90000 войска во все продолжение войны, а теперь английский двор за 30000 войска предлагает почти такую же сумму, какую согласились взять за 90000. Разве вице-канцлер и тайные советники предварительно уверены в праводушии и миролюбивых чувствах короля прусского, что он русские области всегда в покое оставит? Хотя бы ваше величество со Швециею, Турциею или Персиею в войне были, то, по моему слабому мнению, необходимо до того времени, пока у короля прусского не будет миролюбивого преемника, иметь на лифляндских границах до 30000 войска, дабы в случае какого замысла со стороны Пруссии хотя первое нападение выдержать». 29 марта Гиндфорду было объявлено, что императрица согласна на новую конвенцию с одним условием, чтоб в случае польских криков войска могли быть отодвинуты из Курляндии в Лифляндию. Английский двор принял это изменение, и 12 июня последовала ратификация.
24 августа Гиндфорд вручил канцлеру новую промеморию, в которой предлагалось отдать тридцатитысячный корпус русской пехоты на жалованье морским державам, обеим вместе или одной из них отдельно, для употребления на Рейне или в Нидерландах, с тем чтобы прежняя конвенция 12 июня оставалась ненарушимой, т. е. чтобы 30000 войска находились по-прежнему на лифляндских границах. Затем 12 сентября Гиндфорд объявил, что он получил от своего двора приказание договариваться непременно вместе с голландским резидентом Шварцом, ибо войска должны быть даны Англии и Голландии вместе. Императрица велела отвечать, что согласна на это, но с условием, чтоб отправленный корпус всегда действовал нераздельно, и если одна из держав захочет отстать, то другая исполняет все обязательства, именно выплачивает в год по 300000 фунтов, всегда за 4 месяца вперед наличными деньгами; кроме того, морские державы обязаны выдать тотчас по размене ратификаций в Риге наличными деньгами 150000 голландских ефимков для содержания войска во время прохода его чрез Польшу; а когда корпус дойдет до границ Верхней Силезии, тогда морские державы возьмут его на свое содержание, будут доставлять припасы натурою на пищу людям и лошадям, именно каждому солдату ежедневно по два фунта хлеба, по фунту мяса или в постный день рыбы, по 1/4 фунта круп, на каждый месяц по два фунта соли, а на каждую лошадь в день по 6 2/3 фунта овса или по 16 2/3 фунта сена; кроме того, квартиры на зиму и дрова должны быть доставлены безденежно.
Морские державы приняли эти условия, и 4 декабря Военной коллегии дан был секретный указ, что для поддержания европейского равновесия и ускорения мира Россия посылает морским державам тридцатитысячный корпус для действия на Рейне, Мозеле или в Нидерландах; этот корпус должен составиться из полков, находящихся в Курляндии, Лифляндии и Эстляндии, и должен выступить в поход в последних числах января будущего 1748 года под главным начальством генерал-фельдцейхмейстера князя Репнина. Так как нынешние обстоятельства европейских дел необходимо требуют, чтоб по вступлении в поход означенного корпуса на лифляндских границах и в Курляндии наших войск оставалось не меньше, как прежде было, но по возможности и более, то на место отправляемых перевести столько же из находящихся при С.-Петербурге и около его полков и новоучрежденных батальонов, также из Выборга, а в Выборге дополнить новоучрежденными батальонами; к находящейся в Пскове тысячной команде прибавить еще к лифляндским границам 3000 донских козаков да из слободских и малороссийских по тысяче самых исправных.
Какое важное значение придавали в Англии этому договору морских держав с Россиею, видно из следующих слов в письме английского посланника в Константинополе Портера к лорду Гиндфорду: «Я должен начать поздравлением с успехом в важном деле отправления русских войск. Этот шаг спасает все и принуждает неприятеля к уступчивости; вашему превосходительству будет принадлежать бессмертная честь за обращение весов войны или мира в нашу пользу».
Легко понять, как в Вене дорожили утвердившимися дружескими отношениями к России. В феврале посол Марии Терезии барон Бретлак подал грамоту, в которой его императрица писала к своей «многолюбезной приятельнице и сестре», что хочет распространить драгоценную дружбу Елисаветы и на свое потомство, а так как время к разрешению ее от бремени приближается, то она просит русскую императрицу быть восприемницею имеющего родиться ребенка. Родился эрцгерцог и назван Петром (Петр Леопольд Иосиф).
У Австрии по-прежнему не ладилось с Саксониею, а Саксония становилась очень нужна союзникам. 18 декабря Мих. Петр. Бестужев-Рюмин объявил графу Брюлю в крайнейшей конфиденции о заключении морскими державами конвенции, в силу которой им посылается тридцатитысячный корпус русского войска; этот корпус в январе будущего года вступит в поход чрез Литву и Польшу. О пропуске его морские державы будут просить позволения; и в свою очередь императрица надеется, что так как русские войска отправляются для общего блага всей Европы и для скорейшего прекращения настоящей войны, то король проходу этих войск не только побудет противен, но еще будет содействовать успеху требования морских державу Речи Посполитой, несмотря на домогательства французского двора о непропуске их; императрица надеется, что король предпочтет русский, венский и лондонский дворы французскому. Брюль отвечал, что король для оказания императрице особенного внимания и дружбы сделает все, что от него зависит и сколько пристойно и возможно, чтоб не подать полякам на себя подозрения. Бестужев писал, что французский посол в Дрездене употребляет все способы для воспрепятствия пропуску русского войска, а резидент французский в Польше Кастера интригует там с тою же целью. На просьбу английского посланника о пропуске войска король отвечал, что без согласия всей Речи Посполитой он ничего сделать не может. Чтобы получить согласие Речи Посполитой, надобно было получить согласие значительнейших вельмож. Вице-канцлер коронный с жаром отвечал Бестужеву, что от прохода русских войск беспорядки и убыток будут жителям, как случилось и во время прохода из-под Хотина. Бестужев возражал, что во время хотинского похода беспорядки были от нерегулярных войск, но и за то жители получили вознаграждение, а теперь нерегулярных войск не будет. Вице-канцлер говорил, что не все потерпевшие получили удовлетворение; Бестужев повторял, что назначенные в нынешний поход войска все будут покупать на чистые деньги и будет за ними строгий надзор, чтоб не позволяли себе никакого насилия. Граф Брюль, бывший при этом разговоре, сказал со смехом, что желал бы иметь теперь деревни в Польше, потому что от похода русских войск получил бы большие деньги. Наедине Бестужеву Брюль говорил, что поляки по своему обычаю поднимут большой крик и шум против похода, но покричат да и перестанут; опасно одно, чтоб не устроили конфедерации по французским и прусским наущениям.
В Польше по-прежнему тянулось бесконечное дело о притеcнениях православных католиками и униатами, дело чрезвычайно трудное, как видно из донесений русского резидента в Варшаве Голембовского. На последнем сейме было постановлено составить комиссию, на которой должно было выслушать все жалобы православных и удовлетворить им. Бестужев и Голембовский думали, что они сделали все для православных, и вдруг узнают, что православные вовсе не довольны комиссиею и вовсе не готовы явиться на нее. Голембовский в сильном раздражении писал императрице жалобу на белорусского епископа Волчанского, который будто бы выставляет разные неосновательные затруднения, стараясь уклониться от комиссии, а слуцкий архимандрит Оранский пишет, что другие игумены не дают ему никакого ответа на его внушения и не хотят быть послушны указам киевского митрополита. Таким образом, писал Голембовский, можно понять, какую они все оказывают охоту явиться в комиссию с теми жалобами, которыми они беспрестанно утруждали ваше величество и о которых королю и министрам так много внушено; однако без этого они не могут получить никакого удовлетворения и привести свои дела в лучшее состояние. Громадная переписка посла Бестужева и моя свидетельствуют ясно, что с нашей стороны все сделано; теперь они сами должны приняться задело, и я очень боюсь, что если они в назначенный срок не явятся на комиссию со своими жалобами и доказательствами, то магнаты, которые нарочно приедут издалека в Варшаву для комиссии, рассердятся и отложат комиссию в дальний ящик или совсем оставят, объявив все жалобы и претензии православных ложными, мало того, неявившихся, как непослушных подданных, приговорят к какому-нибудь штрафу; тогда уже мы с послом лишимся всякой возможности в чем-нибудь помочь им.
Но выслушаем и другую сторону, что нам легко сделать, ибо Голембовский переслал в Петербург письма епископа могилевского. «Вы меня спрашиваете, – пишет епископ, – приготовлен ли к предстоящей комиссии список обидам и озлоблениям, также имели ли мы с архимандритом слуцким и другими начальными людьми монастырей и братств совет и соглашение насчет приготовления доказательств, основанных на правах и конституциях, и уполномоченные на комиссии в состоянии ли вести порученные им дела? На это как прежде отвечал, так и теперь отвечаю: 1) что я во всей моей епархии не имею ни одного способного к тому человека, потому что кто и где мог научиться правам? Ни в Польше, ни в Литве никого из наших ни в школы, ни в канцелярии не пускают; а католик хотя бы и мог за это взяться, но боится отлучения от церкви, как я уже несколько раз пробовал; у нас даже нет человека, который бы мог искусно написать позыв к суду и полномочие. 2) Звать к суду трудно, потому что в Польше крестьяне не могут жаловаться на своих господ, равно как духовные на землевладельцев, в имениях которых находятся их церкви. В позывах надобно точно показать, от кого именно какие были обиды, а когда помещик прочтет такие позывы, то попа и холопа прежде комиссии велит повесить или убить. В Польше что жбан, то пан, шляхтич на загороде равен воеводе и одним правом с ним судится; а магнаты здешние всегда вольное право над своими подданными имеют, не так, как в абсолютных государствах, в которых господину и крестьянину одинакая справедливость. Они не очень испугались универсала, выданного из королевской комиссии, и какие делали прежде, такие и теперь продолжают делать обиды, церкви на унию отнимают, священников бьют, вяжут и обирают.
Например, если послать позывы к князю воеводе русскому за насильное отнятие на унию церквей в графстве Шкловском, а к Сапеге за отнятие церквей в графстве Домбровенском, то, значит, обоих этих знатных магнатов прежде озлобить, а потом у. них же на других справедливости просить, ибо они оба в комиссию судьями определены? Также надобно будет позвать в суд князя подканцлера литовского, Огинского, воеводу витебского, Соллогуба, воеводу бржеского, и Сапегу, воеводу подляшского, с которыми так же трудно тягаться, как трудно защитить себя от громовой стрелы. Не только ни одно духовное лицо не может явиться в комиссию со своими жалобами, но и ко мне являться с жалобами им запрещают; духовенство боится бывать у меня и со своими церковными нуждами; а которые прежде письменно доносили мне о своих обидах, то теперь очень об этом жалеют, боясь за свое здоровье и жизнь, видя пример священника расенского Цитовича, который для сохранения жизни оставил церковь, дом, жену и детей, ушел в Могилев, скитается здесь теперь и для спасения от смерти сбирается уйти за границу. Огинский, надворный маршалок литовский, в нынешний проезд свой в Вильну для открытия трибунала заехал в Борисов, где приказал всем обывателям стать пред собою, склонял их к унии и наконец приказал борисовскому своему подстаросте, что если кто подаст мне жалобу на религиозное гонение, то для таких челобитчиков поставить колья и виселицы, причем запретил починку церкви и колокольни, венчание, крещение младенцев и прочие обряды. Сам он министр государственный и все права знает, однако ж поступает против них. Таким образом, и другие, когда будут раздражены нынешними позывами, еще больше озлятся и нашу религию в своих местностях совсем искоренят. Комиссия на время, а господин всегда господином останется».
Оранский, архимандрит слуцкий, писал то же самое: «Перо выпадает из рук, ибо не знаю, что написать вам насчет людей, искусных в правах. И сам Диоген со свечою такого человека между нашими духовными не сыщет, ибо между ними большая часть таких, которые только имя свое подписать умеют. В последнюю бытность мою в Варшаве мнение графа Бестужева было, чтоб об этом представить высшей команде и просить сыскать двоих пленипотентов, совершенно искусных в правах польских, и заключить с ними контракт. Поэтому прошу вас повторить вышней команде прошение об этих двоих пленипотентах, иначе никакого успеха от комиссии ожидать нельзя».
Голембовский написал Огинскому с выговором за его поступок, обозначенный в письме Волчанского, причем напоминал ему о благодарности, которою он обязан за милости императрицы. Огинский отвечал ему наглым письмом: «На ваши выговоры я отвечаю умеренно и без оскорбления вашей особы, с выражением, однако, удивления, что вы, будучи уже совершеннолетним, дали себя обмануть баснями Волчанского, который забавляется донесениями о таких делах, каких никогда не бывало, с явным намерением нарушить мир, господствующий между обоими государствами. Увлекшись излишнею доверчивостью, вы заносчивым слогом упрекаете меня в неблагодарности и других качествах, от которых я далек по природе моей. Пусть эта ложь останется при том, кто ей верит и кто ее выдумал. Я питаю всякую благодарность к пресветлейшей государыне, подданных своих имею право наказывать и стращать как хочу и в этом ни у кого спрашиваться не обязан; дело же веры принадлежит одному богу, который сам просвещает совесть. Соизвольте предпочесть мою правду пустым донесениям».
Вместо того чтобы рассердиться на Огинского, который позволил себе отделаться одною наглостью, не привел ни одного доказательства в свою пользу и подтвердил только показание Волчанского словами: «Подданных своих имею право наказывать и стращать как хочу и в этом ни у кого спрашиваться не обязан», – вместо того чтобы рассердиться на Огинского, Голембовский рассердился на Волчанского и жаловался на православных духовных, что они «преждевременными и часто весьма неосновательными жалобами сами возбуждают ненависть к себе, а нам причиняют беспокойство, нас из-за них обвиняют в легковерии». С такими жалобами Голембовский обращался в Петербург и в своих сношениях с западнорусским духовенством не скрывал своего неудовольствия на него. Тогда епископ Волчанский обратился в Синод с жалобою на резидента как на неверного слугу государыни; Синод принял сторону епископа, и резидент получил предписание не беспокоить более духовенства своими наставлениями, не вмешиваться в его дела, разве оно само потребует его помощи. Дело о комиссии кончилось по желанию духовенства: из Дрездена пришел приказ королевский, что комиссия откладывается до приезда самого Августа III в Варшаву. Понятно, что православные могли получить удовлетворение не от какой-нибудь польской комиссии, а только от русского комиссара, каким был Рудаковский, присланный отцом Елисаветы. Но теперь обстоятельства были не те: хотели противодействовать прусскому влиянию в Польше, хотели провести чрез ее земли войска и потому не хотели ссориться с поляками.
В Берлине ничего не выиграли от удаления Чернышева, ибо его место занял вызванный из Франкфурта Кейзерлинг, известный враг франко-прусской политики. От 7 февраля Кейзерлинг известил свой двор об аудиенции, которую он имел у Фридриха II в Потсдаме. Кейзерлинг начал тем, что истинное намерение императрицы – ненарушимо сохранять дружбу между обоими дворами и усиливать ее, для чего он, Кейзерлинг, и прислан. Король отвечал, что и он ничего так не желает, как еще больше затянуть этот узел дружбы, признавая драгоценность последней. Кейзерлинга пригласили к столу, оставили ночевать в Потсдаме и на другой день опять пригласили к столу. На место Мардефельда в Петербург отправлен был министром граф Финкенштейн, о котором Кейзерлинг прислал не очень лестные отзывы как о мастере подольщаться и всякого привлекать на свою сторону, интригане, человеке лживом, необразованном и небольшого ума и потому употребляющем мелкие средства.
И в Петербурге мало выигрывали от смены Мардефельда Финкенштейном. Первым делом нового посланника было сблизиться с Воронцовым, которого в депешах своих он обыкновенно называет «важным приятелем». От 3 июля он писал королю: «Я нахожу здесь дела в самом неполезном состоянии для интересов вашего величества. Канцлер остается все тот же относительно вашего величества; но хуже всего то, что он теперь сильнее и пользуется большим против прежнего доверием императрицы. Он так хорошо воспользовался всеми обстоятельствами, случившимися по отъезде барона Мардефельда, что неприятелям его ничего другого не остается делать, как держать себя в оборонительном положении и ожидать лучших времен. Подкуп канцлера кажется мне делом очень трудным, даже невозможным, ибо при его пламенном усердии к делу союзных дворов можно было бы только подать ему этим новое оружие в руки, которое он стал бы употреблять против вашего величества. По моему убеждению, я должен вести себя так, чтоб не подать ему ни малейшего повода ко мне привязаться; я должен оказывать ему уважение, притворствовать и не возбуждать ни малейшего подозрения, что я нахожусь в каких-либо сношениях с его врагами, а между тем под рукою входить с ними в соглашения, каким бы образом предупреждать и отвращать удары, которых от него всегда должно опасаться, и с терпением ожидать, пока фортуна утомится служением злодею».
Вскоре затем Финкенштейн доносил, что дружба между «важным и смелым приятелями» (Воронцовым и Лестоком) неизменно очень велика; они нашли способ приклонить на свою сторону тайного советника Веселовского, самого умного человека в России и знающего тайны канцлера. Смелому приятелю Лестоку Финкенштейн дал денег, и тот просил обнадежить короля в его усердии.
В августе важный приятель рассказал Финкенштейну, что канцлер со своею шайкою обвиняет его, Воронцова, будто бы он все тайны открывает прусскому королю; чтоб дать большую силу этому обвинению, они несколько смягчают его, внушая, что вице-канцлер – человек честный и предан интересам государыни, но не умеет хранить тайны и, питая любовь к Фридриху II, иногда с самыми добрыми намерениями открывает такие дела, которые могут иметь важные последствия. Воронцов открыл также Финкенштейну, что последнее пребывание его в Петергофе дало ему возможность разговаривать о многих важных предметах с императрицею и открыть ей глаза относительно множества вещей, от чего она пришла в большое удивление; он указал ей на самовластие канцлера, который в коллегии один сам собою дела отправляет, не давая знать об них ни вице-канцлеру, ни другим членам. Он предложил императрице и способ сократить чрезмерную власть первого министра, именно дать ему указ все дела производить чрез коллегию и ни о чем не докладывать прежде, чем дело будет известно всем, кому об нем знать надлежит. Письменное мнение об этом Воронцова Елисавета оставила у себя, сказавши, что просмотрит его. В благодарность за такую откровенность Финкенштейн сообщил важному приятелю известие, что канцлеру приписывается обширный замысел, касающийся ниспровержения наследственного порядка в России и восстановления принца Иоанна на место великого князя Петра Федоровича. Воронцов заметил на это, что канцлер в состоянии все предпринять.
Воронцов внушал Финкенштейну, чтоб тот был осторожнее в своих донесениях королю, потому что депеши его в цифрах могут перехватить, ибо для этого не жалеют труда. Финкенштейн сначала приписывал эти внушения трусливости вице-канцлера, но приведен был в крайнее изумление, когда тот рассказал ему содержание одной его депеши. Когда узнали об отправлении тридцатитысячного корпуса к Рейну, то Финкенштейн стал внушать Воронцову, нельзя ли склонить кого-нибудь из духовенства представить императрице с религиозной точки зрения непозволительность этой меры. Но Финкенштейн имел мало надежды на успех, ибо, писал он, канцлер держит большую часть духовенства в своих руках, так что оно чрез него обыкновенно делает свои внушения. Финкенштейн сообщил королю, что Воронцов подал мнение против похода на Рейн, но императрица не обратила на него внимания.
Фридрих II, обеспокоенный этою решительностью петербургского двора принять участие в войне, боялся, что может оказаться такая же энергия и относительно Швеции, и дал знать Финкенштейну, что это было бы противно интересам Пруссии.
В начале января шведский король объявил Корфу, что французская партия, по его мнению, не успеет провести прусского союза; если же она будет на это настаивать, то он никак не согласится и велит внести в протокол свой протест с подробным изложением причин, заставляющих его так действовать, и с указанием на присягу свою, которою он обязался пред государством. Король при этом высказал свое неудовольствие на слабость действий патриотической партии на сейме, что подвергло его самого опасности и заставило назначить сенаторами людей, ему неприязненных, которые в тайном комитете предлагали потребовать у него отречения от короны за умеренную пенсию. «Прошу обнадежить императрицу, – заключил король, – что я никогда не отступлю от главного моего принципа – утвердить доброе согласие между обоими государствами». Корф заметил, что при настоящем положении дел императрица не может ожидать добра от большинства голосов в Сенате. Король отвечал, что на будущее время по русским делам будет подавать свой голос не иначе как письменно: это должно сдержать злые намерения большинства, которое подвергнется ответственности на сеймах. Корф нашел в наружности короля большую перемену к худшему и дал знать своему двору, что печаль от несчастного сенаторского избрания может иметь опасные следствия для здоровья короля.
Тайный комитет, не опасаясь теперь никакого противодействия со стороны Сената, вознамерился было дать инструкцию шведскому послу в Петербурге графу Барку, чтоб он ревностно защищал Тессина и переменил к нему отношения петербургского двора; если же это не удастся, то французская партия надеялась выиграть в том, что неприятный ей Барк возбудил бы этим против себя нерасположение императрицы. Но это намерение было оставлено, когда из Берлина пришли известия, что в России делаются сильные вооружения, не могущие иметь никакой другой цели, кроме войны шведской. Тогда решили, чтоб король написал грамоту императрице, выставил бы все свои старания о поддержании дружбы, но если вместо нее обнаруживается холодность между двумя дворами, то виноват барон Корф, который вовсе поступает не так, как следовало бы поступать министру тесно союзного двора, а именно: не так часто бывает при дворе, как другие иностранные министры; о чем поговорит с королем, сейчас расскажет мещанам; подает мемориалы свои королю не чрез министерство, а чрез других особ; в этой же грамоте король должен был оправдать Тессина. Это подало повод в Сенате к жестокому спору между членами русской и французской партий. Король сказал, что он отечески советует Сенату не подавать русской императрицеповода к жалобе на Швецию, прекратить торговлю хлебом, льном, пенькою, удержать субсидии – одним словом, предоставить Швецию ее судьбе. Но французское большинство объявило, что если король откажется подписать грамоту, то по уставам может подписать и кронпринц. Тогда король отвечал, что подпишет, слагая ответственность на Сенат.
Корф, объясняя свое поведение по поводу этой грамоты, писал императрице, что при королевском дворе он бывает часто, при дворе кронпринца реже, потому что там не обращают на него должного внимания, приглашают к столу, когда никто не приглашен из знатных, тогда как король всегда приглашает вместе двоих или троих сенаторов; вечером при дворе кронпринца все садятся играть в карты, а русский посланник должен разговаривать с каким-нибудь прапорщиком или поручиком. На придворных балах кронпринцесса до тех пор не танцует, пока Корф не отойдет прочь, чтобы только не танцевать с ним.
7 февраля собрался секретный комитет в чрезвычайном множестве членов, и бургомистр небольшого городка Эрегрунда Боберг потребовал, чтоб арестован был купец Спрингер за то, что во время сейма часто ходит в дом русского посланника, следовательно, замышляет что-нибудь опасное. Предложение это подало повод к жестоким и продолжительным спорам; но члены французской партии заперли двери и приступили к подаче голосов, рассчитывая на успех при своем большинстве, а между тем духовные встали и удалились с протестом. Когда большинством голосов решен был арест, то депутация секретного комитета, обойдя короля, который об этом ничего не знал, отправилась к кронпринцу с просьбою дать с гауптвахты офицера и 14 человек солдат для арестования Спрингера. Кронпринц, давно уже с нетерпением ожидавший этой депутации, немедленно дал караул, и Спрингера арестовали, захватили все его бумаги. Кроме Спрингера хотели схватить еще канцелярии советника Рангштета. Корф, зная, что арест человека, игравшего одну из самых видных ролей в русской партии, приведет членов ее в совершенное бездействие, тем более что они сильно уныли и от Спрингерова ареста, – Корф поздно вечером отправился к королю, объявил, какой слух в городе носится о Рангштете, и прибавил, что он принадлежит к русскому посольству, заведует хозяйством посла, ибо прочие служители, как иностранцы, по незнанию местных условий не могут вести выгодно хозяйство. Король в тот же вечер велел позвать к себе Пальмштерна и Горлемана и в присутствии генерала Шталя сделал им жестокий выговор. «Вы, – говорил он, – обнадежили меня словесно и письменно, что не предпримете ничего, что бы могло нарушить дружбу с русскою императрицею; а теперь вы позволяете себе такие поступки, в которых едва ли можете оправдаться. Арестование Спрингера, в котором я никакого участия не имею, я отдаю на вашу совесть; а теперь уже носится слух, что невинного Рангштета хотят также схватить на улице, хоть известно, что он принадлежит к русскому посольскому дому и ни одному иностранцу не запрещено держать слуг из шведов».
На другой день король прислал к Корфу статс-секретаря Нолькена с объявлением, что слух о Рангштете неоснователен. Но Корф дал знать своему правительству, что французская партия хочет схватить крестьянского предводителя на сейме Гедмана, и писал по этому случаю: «Если члены французской партии этих трех человек достанут в свои руки, то намерены по примеру испанской инквизиции хитростью, насилством, обещаниями и угрозами, как они это сделали в 1741 году с бедным Гильденштерном, заставить того или другого оговорить сенаторов Окергельма, Левена и Цедеркрейца, также двоих надворных советников, Аркенгольца и Вормгольца, чтобы их можно было также арестовать, а за ними арестовать генералов Дюринга и Сталя, канцлера юстиции Сильфершильда, надворного суда советника Фрединштирна, молодого камергера барона Пехлина; тогда они легко могли бы управиться и с графом Белке, ниспровергнуть всю патриотическую партию, и ваше величество в рассуждении своего интереса уже ни на что положиться не могли бы, и потому надобно употреблять всякие способы у духовного и крестьянского чина, чтоб отвратить этот опасный подкоп. Кронпринц играл в карты, когда капитан гвардии Флемминг из тайного комитета сообщил ему, что из писем канальи Спрингера ничего нельзя извлечь для его обвинения. Принц переменился в лице, карты выпали из рук; он велел позвать к себе Пальмштерна и долго с ним разговаривал».
Между тем, несмотря на силу французской партии, арестование Спрингера произвело сильное волнение, ибо здесь затронута была безопасность каждого; духовенство 22 голосами против 14 решило, что назначенные из секретного комитета в следственную комиссию над Спрингером три члена из духовенства не должны в ней присутствовать. Французская партия со своей стороны разгласила в народе, что в руках у секретного комитета список тех лиц, которые подписали просительное о вспоможении письмо к русской императрице. Это было сделано с тем, чтобы испугать членов русской партии и зажать им рот. Однако благодаря решению духовенства следственная комиссия над Спрингером не могла состояться. Тогда кронпринц решился на отчаянное средство: отправил в секретный комитет письмо, где все те, которые откажутся присутствовать в комиссии над Спрингером, названы бунтовщиками и государственными изменниками. Секретный комитет приказал предводителю (тальману) духовенства архиепископу созвать свой чин в чрезвычайное собрание, что и было исполнено; но когда предводитель изустно предложил, чтобы чин отменил прежнее свое решение относительно комиссии над Спрингером, ибо этого требует безопасность короля, кронпринца и государства, иначе духовный чин, по письму кронпринца, сделается виновным в государственной измене, то протопоп Серениус обвинил архиепископа в незаконности действия, ибо тот сделал такое важное предложение изустно, тогда как должен был представить извлечение из протокола секретного комитета. После сильных споров собрание разошлось, ничего не постановивши; но архиепископ самовольно приказал троим депутатам из духовенства присутствовать в комиссии. В это самое время Упсальский университет избирал нового канцлера вместо умершего графа Гилленборга; граф Тессин очень добивался этого почетного и влиятельного места, ибо большая часть молодого дворянства воспитывалась в Упсале; но университет выбрал сенатора Окергельма. Чтобы не допустить одного из главных членов противной партии усилить свое значение, Тессин уговорил кронпринца искать канцлерского места, вследствие чего назначены были вторые выборы, но и на них снова был избран Окергельм. Но Окергельм не радовался этой победе; он боялся, что если французской партии удастся овладеть крестьянским чином, то это будет грозить страшною опасностью существующей правительственной форме; он просил Корфа ради самого бога не жалеть никаких денег для подкрепления крестьян; но Корф отвечал, что уже издержал последние деньги и теперь ждет указа императрицы, а между тем надеется, что патриоты при таких сомнительных обстоятельствах сами постараются собрать сколько-нибудь денег.
Не имея денег, Корф действовал другими средствами: подал правительству промеморию против задержания Спрингера, чем затруднил французскую партию, не знавшую, что отвечать на промеморию, ибо за Спрингером не оказывалось никакой вины; кроме того, Корф распространил в народе напечатанную в Германии брошюру «Разговор двух шведов»; брошюра была направлена против прусского союза. Корф писал своему двору, что французская партия сильно домогается установления самодержавия и все к тому приготовлено. Когда сенатор Окергельм представлял кронпринцу, что если б он имел малейшее известие, что его высочеству угодно быть канцлером Упсальского университета, то никак бы не позволил внести себя в число кандидатов, то кронпринц отвечал ему презрительным тоном: «Я это звание хочу иметь и получу». Составляют план, чтоб кронпринцу привести в свое распоряжение стокгольмских горожан; для этого склоняют обер-штатгольда барона Фукса уступить это место кронпринцу за деньги. Составлен также план в полках, находящихся в осьми ближайших к Стокгольму провинциях, заставить полковников за деньги уступить свои места, которые раздать членам французской партии, а полк лейб-гвардии отдать самому принцу и, таким образом, приготовить корпус войска, который бы по первому сигналу мог произвести в действие насильственный план французской партии. Помехою для осуществления этого плана служит старый король, и потому сильно хлопочут, каким бы образом лишить его престола; духовный и крестьянский чины тут больше всего препятствуют. Король дал знать Корфу чрез генерала Сталя, что если будут сделаны ему предложения об отречении от престола, то он отвергнет их с твердостью, если только не будет употреблено насилия. Подозрительность дошла до такой степени, что король принимал меры за столом, чтобы не съесть или не выпить чего-нибудь отравленного.
Члены французской партии прямо говорили в секретном комитете: «Благодаря деятельности комитета, благодаря избранию новых сенаторов Швеция освобождена от русской зависимости, а если б мы позволили себе испугаться поступков русского посла, то государство наше навеки должно было б повиноваться повелениям его двора. Все известия единогласно подтверждают, как ошиблись заблудшие дети шведского отечества, которые полагались на русскую помощь. Известен обычай русского двора на сеймах гордо говорить, но при этом и остаться. Удивительно, что друзья России так упорно ее держатся, хотя они горьким опытом дознали, что, кроме обещаний, они от нее ничего не получили». Кронпринц сказал одному преданному человеку, который обнаружил сомнение насчет полезных следствий его поступков: «Не думаешь ли ты, что я не получал никаких известий о состоянии русского двора? Если колпаки надеются получить от него помощь, то они обмануты; мне надобно пользоваться настоящими обстоятельствами или навсегда отречься от своего плана. Когда я был любским епископом, то нуждался в помощи русской императрицы; а теперь, будучи кронпринцем шведским, должен сам себе помогать». Кронпринц главным средством поставить себя на твердую почву считал привлечение на свою сторону крестьянства для чего разослал по областям преданных себе людей. Но крестьянские депутаты на сейме крепко держались против французской стороны, и Корф писал, что причину такого поведения их должно приписать королю, ибо хотя русская партия и собрала небольшую сумму денег на содержание крестьян, но так как эта сумма оказалась недостаточною, то король дал значительную сумму как на крестьян, так и на духовенство. «Старый мудрый государь, – писал Корф, – принял при этом такие хорошие меры, что только три человека знают тайну, так что члены французской партии никак не могут угадать, каким образом крестьяне оказываются им противны, несмотря на большие деньги, розданные кронпринцем». Так как у крестьянского оратора были в руках доказательства интриг, которые производились для склонения крестьян к французской стороне, в его же руках находился и список лиц чрез которые производились эти интриги, то преданный русской партии ландмаршал уговорил оратора и еще одного крестьянина объясниться откровенно с графом Тессином. Крестьяне прямо объявили графу, что он во всем государстве считается виновником всякого беспорядка; что преданные французской партии крестьяне во всех публичных местах хвастают, будто кронпринц объявил себя главою сеймовых дел, и они под таким покровительством и разумным руководством графа Тессина надеются иметь полный успех. Но неудовольствие в большинстве крестьян от нарушения их вольности и привилегий так усилилось, что может быть опасно ему, графу Тессину. Конечно, ему известно мнение большинства народного, что, пока правление будет в его руках, до тех пор ни на какой надежный мир с Россиею надеяться нельзя, ибо Россия оскорблена поступками его и его партии на сейме, и если Дания, увидав слабость Швеции вследствие потери русской дружбы, начнет неприятельские действия, то на кого падет ответственность? Он, граф Тессин, напрасно думает, что те крестьяне, которые известным образом его посещают, ему друзья: в случае опасности они первые обратятся против него. Смущение Тессина при этих словах было величайшее; он мог только отвечать, что все это русский посланник внушает народу дурные об нем слухи, но время покажет его невинность. Тут оратор, чтоб еще более напугать Тессина, объявил ему решение крестьян отправить депутацию к кронпринцу с представлением, что крестьянский чин никак не может думать, чтоб его высочество позволил так употреблять во зло свое имя, чтоб позволил объявить себя главою некоторых мятежных крестьян, и потому крестьянский чин просит позволения исследовать, кто распустил подобный слух. Тессин начал усердно просить оратора, чтоб он уговорил крестьян не приводить в исполнение своего решения, и со своей стороны дал честное слово донести кронпринцу обо всем и переменить все дело.
Король при первом свидании спросил Корфа, слышал ли он о разговоре крестьянского оратора с графом Тессином. «Кое-что слышал», – отвечал Корф. «Я, – продолжал король, – сегодня в Сенате свое прямое мнение объявил, а еще прежде в своем кабинете графу Тессину сильный выговор сделал». Тут король подозвал к себе сенатора Окергельма и сказал ему: «По моим ведомостям, французское большинство в секретном комитете начало уменьшаться, и надеюсь, что наконец дела благополучно пойдут. Этим мы обязаны русской императрице; что бы теперь с вами, бедными колпаками, сделалось, если б русский посол не оказал твердости и противную вам партию не держал в страхе и трепете? Были бы вы совершенно уничтожены, потому что насилия уже начались». Корф сказал на это: «Я сердечно желаю обращения злой партии, но чтоб это обращение последовало не от страха, а из сознания истинных шведских интересов».
Корф предложил шведскому правительству приступить к союзу, заключенному между Россиею и Австриею. Русская партия требовала этого приступления, указывая на датские вооружения, которые кончатся ничем, как скоро узнают о тройном союзе между Россиею, Австриею и Швециею; тогда французская партия начала распускать слухи, что Россия не будет в состоянии помочь Швеции, ибо на нее вооружается Турция, и потому единственное спасение Швеции – просить предлагаемые Франциею субсидии и, теснее соединиться с Пруссиею. Корф вместе с австрийским резидентом опровергали слухи о враждебных движениях Турции, а король в Сенате прочел и велел записать в протокол мнение, где он указывал на необходимость приступить к австро-русскому союзу и отвергнуть прусский.
Этот вопрос о союзе подал повод к страшным спорам в секретном комитете. Приверженцы прусского союза выставляли преимущественно опасность, которая будет грозить кронпринцу, если состоится приступление к австро-русскому союзу, и потом указывали на состояние внутренних и внешних дел России, цитуя тайные известия из Петербурга, Копенгагена, Лондона. По этим известиям, будто бы состоялось соглашение между Россиею, Даниею и Англиею о низвержении наследного принца шведского; но Россия сама находится в опасном положении: неудовольствие между императрицею и великим князем усиливается день ото дня и народ разделился на партии; образовалась и третья сильная партия в пользу принца Ивана: она поддерживается некоторыми иностранными дворами. Персияне с сильным флотом приближаются к русским берегам, на кораблях у них 72000 войска. Граф Тарло обещал генералу Штейнфлихту, что как скоро будет заключен союз между Швециею и Пруссиею, то он образует конфедерацию в пользу короля прусского и выставит польскую конницу, которая будет защищать Пруссию от русских нерегулярных войск. В России ни о каких вооружениях не помышляют, в Финляндии только пять галер и три полка, между которыми обнаружились болезни; при таких обстоятельствах Швеция поступила бы крайне неблагоразумно, если б не обеспечила себя сильным союзом прусским.
23 апреля Сенат получил извещение из тайного комитета, что в нем решено вступить в союз с королем прусским и отклонить предложение императорского двора о приступлении к австро-русскому союзу. Король, поддерживаемый сенаторами русской партии, потребовал было, нельзя ли об этом решении сообщить наперед русской императрице; но французская партия восстала против этого, говоря, что это покажет какую-то зависимость Швеции от России. Когда Корф выговаривал колпакам за слабость, оказанную ими в этом деле, то они отвечали, что они в меньшинстве и на противной стороне кронпринц, который действует как самодержец; так как противная партия мало уважает совесть, законы, честь и стыд, то они должны опасаться арестов, гонений и самой пытки по обвинению во враждебных замыслах к кронпринцу и государству, если б они оказали дальнейшее сопротивление прусскому союзу, не будучи наверно обнадежены в помощи иностранных держав. Они даже не знают, какой предстоит им жребий во время сейма, а крестьянский чин хотя довольно постоянен и мог бы вместе с духовным чином много добра сделать, но опасно, чтоб и в нем не произвелено было движений интригами противной партии, а противиться этим интригам нельзя без денег.
Торжествующая французская партия приступила теперь к оправданию графа Тессина от взведенных на него русским двором обвинений, потому что ей хотелось доставить ему место президента Канцелярии иностранных дел; говорили: «Граф отнесся с презрением к разглашенным против него неосновательным слухам; теперь не только шведы, но даже иностранцы знают о его невинности из напечатанных в его пользу сочинений». Корф молчал; тогда начали говорить: «Если б русский посол мог доказать что-нибудь против графа Тессина, то не упустил бы сделать это теперь; его молчание показывает, что русский двор, затрагивая графа Тессина, хотел затронуть не его, но кронпринца». Тогда Корф препроводил канцлеру Нолькену промеморию, в которой излагал содержание пересланного ему из Петербурга письма Тессинова к известному ренегату Бонневалю. Русский двор, недовольный поведением шведского министра в Константинополе Карлсона, требовал его отозвания, что и было исполнено; но при этом Тессин писал Бонневалю, что Карлсон призывается в Швецию только для необходимых донесений сейму о состоянии дел, по окончании чего возвратится в Константинополь, что король очень доволен поведением Карлсона и богато наградит его. Мало того, преемника Карлсонова Целзинга граф Тессин не усомнился поручить милости и руководству Бонневаля, т. е. такого человека, который издавна оказывал себя врагом России. «Императрица, – заключил Корф в своей промемории, – никак не хочет приписывать этого королю; она обвиняет только министра, который для прикрытия своих тайных замыслов употребил во зло имя государя и государства, и потому императрица представляет просвещенному рассуждению, может ли при министерстве этого сенатора соблюдаться и укореняться доброе согласие между Россиею и Швециею».
Когда промемория прочтена была в Сенате, то французская партия пришла в ужас, зная, что в раздаче копий с нее недостатка не будет. Граф Тессин совершенно растерялся и поспешил объявить, что при таком состоянии дел никогда не примет звания президента Канцелярии иностранных сношений. Так как не могли понять, каким путем письма достались в руки Корфу, и опасались, что, пожалуй, у него есть и оригиналы, если Неплюев нашел средство по смерти Бонневаля достать некоторые его бумаги, то и не имели духа отрицать подлинность писем.
Шведский посол при петербургском дворе граф Барк действовал не так, как бы хотелось господствующей партии, а потому на его место назначен был Вульфенстерн, который перед отъездом имел совещания с членами тайного комитета. Содержание этих совещаний не осталось тайною для Корфа. Вульфенстерну было поручено, во-первых, стараться о свержении канцлера Бестужева и потом о свержении настоящего правительства. Не надобно упускать времени для свержения Бестужева, пока еще война идет в Европе, ибо после мира королю прусскому еще крепче будут связаны руки: ему нужно будет тогда ласкать те дворы, которые теперь, находясь в войне, принуждены его ласкать. У Бестужева много врагов в России, и Вульфенстерн должен с ними сблизиться, особенно надобно ему получить основательное сведение, кто из дам в наибольшей силе при дворе; их он должен приводить в движение двумя способами, в которых ошибиться не может и которые он с успехом употреблял при дрезденском дворе, а именно свое красивое лицо и волокитство; страсть к игре должна ему также помочь. Хотя граф Барк и назвал некоторых мужчин и женщин. которые при случае показывали свое расположение к Франции и. следовательно, к Швеции и Пруссии и находятся в сильной вражде с Бестужевым, но так как Барк поступал двоедушно, то Вульфенстерн не обязан слепо следовать его указаниям, не подвергнувши их прежде поверке, в чем граф Финкенштейн и Дальон не откажут ему помочь. Если он при движениях против Бестужева будет нуждаться в деньгах, то ему стоит только дать знать об этом французскому министру, которого двор не откажется доставить надобную сумму. Пока дело не достигнет зрелости, он должен содержать виды шведского правительства в глубочайшей тайне, особенно не должен он иметь явных сношений с людьми, преданными принцу Ивану, хотя под рукою может обещать им всякую помощь сo стороны Швеции. Что касается Корфа, то Вульфенстерну причтено будет в особую услугу, если он добьется его отозвания. Во что бы то ни стало его должно выжить из Стокгольма: ему одному надобно приписать то, что колпаки так упорно держатся и не хотят уступить. Настоящий сейм был самый трудный из всех и по введении в Сенат благонамеренных членов давно уже должен был бы кончиться, если бы колпачная партия не была подкреплена хитростями Корфа при ее вредных видах. Кроме того, самые тайные советы и меры не могут укрыться от Корфа, а каналы, которыми доходят до него сведения, до сих пор открыть нельзя. Вульфенстерн должен стараться, чтоб в случае отозвания Корфа на его место не был назначен граф Михайла Бестужев-Рюмин: он так знает шведские дела и так всеми любим в Стокгольме, что при такой перемене нельзя ничего выиграть. Вместе с Корфом должен быть удален и канцелярии юнкер Симолин, подозрительный своим знакомством со всеми людьми, враждебными настоящей системе.
Самым видным из этих людей был сенатор Окергельм, и шляпы решились поднять против него обвинение; так как Окергельм пользовался большим уважением, то вопрос, наряжать ли против него следствие, прошел утвердительно только большинством трех голосов. Колпаки обратились к Корфу с представлением, что благодаря такому расположению к Окергельму можно еще выиграть дело, что они сложились и собрали несколько денег, но мало и потому не может ли он дать им 4000 рублей для соблюдения интересов ее величества, так тесно связанных с сохранением Окергельма. Корф отвечал, что пошлет за указом в Петербург. План французской партии состоял в том, чтоб, управясь с Окергельмом, в продолжение сейма вытеснить из Сената и других сенаторов русской партии, именно Кронстета, Левена, Врангеля и Цедеркрейца, а чтоб сделать приятное Елисавете, ввести снова в Сенат члена русской партии графа Бонде и даже сделать его президентом Канцелярии иностранных дел. Но Корф писал, что Бонде неумен и трусоват, без подкрепления и наставления Окергельма никакой помощи России оказать не может; граф Тессин со своими сообщниками в Сенате стали бы совершенно им управлять. Все благонамеренные усердно молятся, чтобы благоприятным ветром принесло русские галеры к шведским берегам: тогда французская партия ослабеет, благонамеренные приедут из провинций и дела примут другой ход.
Разбои тогда только и затихали, когда государство употребляло значительные военные силы против них; когда же в описываемое время войска должны были стягиваться к западным границам, то о разбоях опять становится слышно; по Оке снова собираются шайки человек по сорока, выше и ниже Переяславля Рязанского. Из Перми пришло известие, что разбойники разбивают крестьян станицами в 40 человек; по Каме проехали воры в двух стругах; в другом месте показались воры конные и пешие человек с 50; в третьем месте – 25 человек; в четвертом – 56 человек с ружьями и штыками разбили строгановское село Рождественское и вовсе разорили; в пятом месте пришло с 30 человек, сожгли двоих крестьян и прочих жгли и грабили. По реке Сиве явились воровские партии человек до 80, жгли деревни и намеревались разграбить село Серапуль, обыватели в страхе покинули дома и скитаются по лесам; умножались также воры в Соликамском и Чердынском уездах. В городах не только некого послать для преследования, но и городов самих охранять некем, если разбойники вздумают напасть на них, как уже и случилось с Кайгородком: 42 разбойника приплыли под него и разграбили денежную казну. Шайки получили вождей в старых опытных разбойниках: с казанского тюремного двора ушло 20 человек колодников, убийц, разбойников и беглых с каторги, подкопавшись под стену.
В некоторых местах крестьяне боролись с военными командами по наущению разбойников. Премьер-майор Веревкин и поручик Павлов донесли Сенату: посланы они были против крестьян Боровенского монастыря, воров и разбойников Моисея и Полуехта Никитиных с товарищами, забрали 79 человек и провели в Гжацкую пристань, да прежде взято 10 человек, прочие укрываются; захваченные крестьяне объявляют, что они командам троекратно сопротивлялись, посланных против них солдат били и ружья отбивали по приказу Никитиных, потому что в 1744 году была прислана команда для взятия их крестьян ко взысканию за держание беглых. По поводу забранных нужно еще забрать много, ибо в сопротивлении было более 700 человек; следствие скоро окончиться не может, и вотчина может прийти в крайнее разорение. Сенат приказал возмутившихся крестьян разделить на три части: от 15 до 20 лет – бить батожьем, от 20 до 40 – плетьми, от 40 и выше, которые в службу негодны, пущих заводчиков – кнутом, а прочих – плетьми и взыскать с них издержки командирования и за испорченные ими ружья.
С весною по рекам разъезжают разбойники; с весною в городах пожары и вслед за пожарами жалобы на полицию и магистраты. 27 апреля в Твери во время большого пожара воевода с товарищем и секретарь до конца находились безотлучно; обыватели и ямщики не помогали; тогда воевода собрал рекрут и потушил пожар с великой трудностью. Хотя определенный главною полициею в Тверь прапорщик Тархов полицмейстером и числился, только в Твери никогда не бывал, жил в деревнях своих, и хотя в отсутствие Тархова полицейское правление находилось в ведомстве магистрата, только никакого исполнения не было. Беда могла грозить не от одного пожара в городах: московская полиция доносила, что на Кожевном дворе, ниже Каменного моста, отвалились от стены городовые зубцы числом 12 и упали на обывательские дворы, причем задавили младенца до смерти да двух человек поранили; также по Кремлю, Китаю и Белому городу городовые стены и башни в немалой ветхости; у Яузских и Всесвятских ворот городовые стены упали, отчего учинились и смертные убийства; у Сретенских ворот башня первая в крайней опасности, Мясницкие ворота в немалую ветхость пришли, и проезжать в них опасно. Сенат приказал поручить починку означенных ветхостей коллежскому асессору Попову, который должен был находиться в ведомстве московской губернской канцелярии; производить работы он должен был вольнонаемными людьми чтобы обошлось дешевле подрядного, если же нельзя вольнонаемными, то подрядами.
В столице полиция только тогда донесла об опасности, когда отваливающиеся от стен камни убили ребенка; тверской полицмейстер живет в деревнях своих, и воевода должен исполнять его обязанности; важно для области иметь деятельного воеводу, который в опасном случае не сошлется на разделение должностей, на самом деле не существующее. Умер в Туле воевода Маслов; разных чинов люди тульской провинции и помещики подали две челобитные; в одной, подписанной 23 человеками, просили назначить воеводой воеводского товарища Лопатина; в другой, подписанной 21 человеком, просили Ивана Маслова. Сенат отказал и назначил из представленных Герольдмейстерскою конторою кандидатов Квашнина-Самарина. Непристойные поступки воеводы в пьяном виде имели следствием удаление его от воеводской должности; но вообще смотрели на это не очень строго. Так, белевский воевода Шеншин, будучи в компании и напившись пьян, обижал словами дам, придирался к мужчинам, потом велел ударить в набат, встревожил всех жителей, по его приказанию схватили на улице подпоручика Возницына, жестоко избили, шпагу изломали и посадили в тюрьму. Императрица простила Шеншина и велела определить его к делам, к каким годен, кроме воеводства, и велела Сенату впредь такие самовольства воеводам запретить.
Относительно коллегий замечательно в описываемом году донесение прокурора Юстиц-коллегии, что в ней советниками Сабуров и Юшков, асессорами Тарбеев и Извеков. Извеков определился в дворцовую контору и с того времени в Юстиц-коллегию не ездит, отговариваясь делами дворцовой конторы; Тарбеев по болезни не ездит; Юшков ездит чрезвычайно редко; остается Сабуров, который один спорных дел решить не может, и дела в коллегии остановились.
Духовная коллегия (Синод) продолжала жаловаться Сенату на притеснения новообращенным. Известный Ярцев доносил: Курмышского уезда новокрещеные чуваши бьют челом, что по указу императрицы Анны велено им для суда в малых делах выбрать между собою трех человек и судиться словесно, как производится суд между купцами в таможнях, и у них такие выборные старосты есть; но, несмотря на указы, всяких чинов люди делают им великие обиды и разорения, а курмышская канцелярия привлекает их судом и расправою между собою в ссорах, долгах и т. п. и держит их под караулом, отчего им убыток; а они не только приказных порядков не знают, но и по-русски говорить не умеют; теперь они желают для лучшего своего охранения и в малых делах разбора разбираться у курмышского посадского бургомистра Брюханова, потому что он человек добросовестный, богобоязненный и всегда их по бедности награждает, ссужает всякою ссудою и чувашский язык знает довольно. Сенат приказал: исполнять указы, а о том, на что имеются точные указы, утруждать Сенат весьма не надлежало; о обидах же произвести следствие.
Были и старокрещеные народцы, на которых светское правительство указывало Синоду как на полудиких, требующих снисхождения относительно требований христианской нравственности. Воронежская консистория потребовала к следствию сына донского атамана Данилы Ефремова старшину Степана Ефремова и других незаконно женившихся людей. Военная коллегия донесла по этому случаю Сенату, что люди Донского войска не похожи на внутренних регулярных народов, весьма не обычны к правам и регулам, но больше застарелого простого обхождения и обычаев; а так как правит. Синод требует отсылки в архиерейскую консисторию атаманского сына, который там между другими знатными старшиною, то Военная коллегия сама собою сомневается так строго поступить.
Из дел по церковным отношениям замечательны были в этом году два следующие. Медицинская канцелярия донесла Сенату, что в московском госпитале Экономическая синодская канцелярия не делает никаких починок, отчего больные претерпевают великое беспокойство, в пользовании больных остановка и невозможность, и больных принимать нельзя, потому что в палатах, где лежат больные, и в ученических бурсах окончины и печи очень ветхи, топить их опасно; также и строение, где живут служители, очень ветхо; иное и попадало, а в ином зимою жить нельзя. Синод отписывался, что его Экономическая канцелярия не обязана делать починки в госпитале: указа для этого нет; хотя по указу Петра Великого госпиталь построен из сборов Монастырского приказа, но, чтоб его чинить из сборов того же приказа, не изображено, а в табели 1710 года не написано, а положено в той табели только жалованье доктору с товарищи и на покупку лекарств 3797 рублей, что из доходов Экономической канцелярии и производится.
Учреждены вновь три епархии: Московская, Переяславская, Костромская, и еще назначено быть Владимирской и Тамбовской; на содержание архиереев и домов их отданы монастыри: московскому Чудов, переяславскому Горицкий, костромскому Ипатский, и потому доходы с этих монастырей, платившиеся в Экономическую канцелярию, выбыли; на починку ветхостей в архиерейских домах, соборных церквах, монастырях Экономическая канцелярия определила не только на настоящие 1744, 45 и 46 годы, но за неимением такой большой суммы и на будущие 47, 48, 49 и 50 годы более 30000 рублей, и еще Экономическая канцелярия представляет о крайних ветхостях во многих монастырях, а на исправление их по сметам архитекторским потребно более 60000 рублей; итак, починки госпиталя из доходов синодальных исправлять никак не следует, а имеется на содержание госпиталей собственная, с венечных памятей собираемая в Военную коллегию сумма, и требует св. Синод, чтобы госпитальную починку и постройку производить из этих лазаретных денег. Но Сенат приказал в св. Синод сообщить ведение, что госпиталь исправить надобно непременно из доходов Экономической канцелярии в непродолжительном времени, чтобы больным от стужи не помереть, ибо если уже госпиталь строен на деньги Монастырского приказа и содержится на деньги Экономической канцелярии, то и чинить его надобно из тех же доходов.
Мы знакомы уже с вятским епископом Варлаамом, который вышел невредим из дела по столкновению своему с воеводою и возвратился в свою епархию. Но по поводу этого возвращения Сенат снова должен был услыхать о Варлааме. Пыскорского монастыря стряпчий Карпов объявил, что в монастыре было денег, собранных с мельниц, 1030 рублей. Епископ Варлаам наложил на Пыскорский монастырь 600 рублей для вознаграждения за употребленные им в Петербурге и Москве расходы и путевые издержки; но так как подобных платежей никогда не бывало, то монастырь денег не отпустил, за что архимандрит взят был в Вятку и отпущен только по указу из Соляной конторы, ибо монастырь владел солеварнями, находившимися в ведении Соляной конторы. Так как для управления соляными монастырскими промыслами назначено было особое комиссарство, то архимандрит отослал туда же и мельничные деньги вместе с приходными книгами; за это консистория наложила на архимандрита штраф в 50 рублей, велела потребовать книги из комиссарства обратно и запретила впредь отправлять туда деньги и книги. Епископ Варлаам приехал в монастырь, денег и штрафа спрашивал, и хотя ему поднесено было в почесть 200 рублей, да пушным товаром и прочими вещами 40 рублей, да бывшим при нем духовным и светским лицам 106 рублей, только он мельничные деньги и штраф взыскивал, угрожая жестоким наказанием, и из оставшихся от расхода мельничных денег 477 рублей забрал себе, причем бил казначея плетьми так жестоко, что тот лежал без памяти; архимандрит дал архиерею своих и заемных еще 50 рублей.
Внутреннее состояние России, особенно состояние финансов, представляло явления, которые могли дать повод иностранным посланникам толковать о слабости этой державы. В самом начале года Дальон писал Даржансону, что Россия слаба, что королю прусскому нечего ее бояться. Но любопытен ответ Даржансона. «Фридрих II другого мнения, – пишет министр, – потому что больше чем когда-либо боится поссориться с Россией и навязать на свою шею силы этой державы. В 1733 году Россию также представляли бессильною, стараясь побудить нашего короля к доставлению польского престола тестю своему Лещинскому; но потом оказалось, сколько Россия могла сделать в Польше и Германии, доведя войска свои до самого Рейна; и в скором времени та же самая держава взяла такой верх над турками, что если бы венский двор умел держать себя только в оборонительном положении, то турки в одну кампанию могли бы потерять все свои европейские владения».
Даржансон недаром пророчил о новом походе русского войска к Рейну. Успехи французов в австрийских Нидерландах и опасность, какою грозили эти успехи голландцам, заставили морские державы снова попытаться, нельзя ли склонить Россию на более сходных для них условиях дать им свое войско, причем выставлялось, что это будет единственным средством ускорить всеобщее замирение Европы. В самом конце 1746 года возобновились переговоры о «перепущении» русского войска для морских держав. 8 декабря лорд Гиндфорд подал об этом промеморию; 22 декабря дан ему ответ с согласием на перепущение войск и с объявлением условий, относительно которых Гиндфорд отвечал, что дорого просят. Тогда 29 декабря в Зимний ее величества дом перед полуднем приглашены были для совещания генерал-фельдмаршал Леси, канцлер Бестужев, вице-канцлер Воронцов и член коллегии Иностранных дел тайный советник Веселовский. В это заседание выслушаны были только относящиеся к делу бумаги, после чего во втором часу разошлись; а после обеда, в 6-м часу, собрались опять, уже впятером, потому что по воле императрицы явился генерал кригс-комиссар Апраксин, для которого снова прочитаны были все бумаги; после рассуждения составили проект конвенции. Тридцать тысяч русского войска, по мнению фельдмаршала Леси, должны были действовать на Рейне вместе с союзниками. Идти они должны были от Курляндии чрез Литву и Польшу на Краков в Силезию по маршруту, данному австрийским посланником бароном Бретлаком, одною дорогою, разделяясь на три колонны. Проход чрез Польшу в 162 мили, полагая на третий день роздых, продолжится не меньше трех месяцев; на содержание корпуса против внутренних цен надобно положить вдвое, и потому выйдет на три месяца 145525 рублей 83 коп.; надобно, следовательно, требовать у английского двора уплаты наперед 150000 ефимков наличными деньгами, чтоб для приготовления провизии и фуража в Литву и Польшу прежде вступления туда войск могли быть отправлены нарочные комиссары; а если эта сумма английскому двору покажется велика, то пусть пришлет своих комиссаров, которые будут заготовлять и выдавать войску провизию и фураж. В землях римской императрицы продовольствие войскам должно быть приготовлено также от английского двора или от римской императрицы, по их соглашению. Войска отпускаются на два года, считая с выступления их за границу, если мир будет заключен до этого срока, то войска отпустятся ранее назад, в Россию; если же нужно будет удержать их долее срока, то об этом дастся знать за полгода до истечения двух лет для новых соглашений. Если английский двор не примет войска на этих условиях, то императрица соглашается содержать на лифляндских границах от 80000 до 90000 регулярного войска во все время продолжения настоящей войны и 50 галер в Курляндии с 12000 войска за полмиллиона голландских ефимков. Начальником корпуса назначен был генерал-фельдцейгмейстер князь Василий Репнин, для которого фельдмаршал Леси написал инструкцию.
Между тем прошло два месяца – январь и февраль 1747 года, и 12 марта Гиндфорд прислал промеморию, что после подания им первой промемории (8 декабря) пропущено несколько недель понапрасну, что войско не может выступить в поход заблаговременно и может быть употреблено только на половину кампании; кроме того, данные парламентом королю деньги на субсидии текущего года по большей части уже издержаны на наем войска в других ближайших местах, и потому король желает заключить другую конвенцию, а именно чтобы Россия обязалась в течение 1747 года держать тридцатитысячный корпус войска на курляндских и лифляндских границах, 12000 в Курляндии и 18000 на лифляндских и литовских границах, сверх того 60 галер в курляндских портах, чтобы все это готово было действовать по первому требованию английского короля, который обязывается на этот год одновременно заплатить 100000 фунтов стерлингов, как скоро ратификации будут разменены. Если же войска действительно должны будут выступать в поход, то о содержании их должно быть дальнейшее соглашение.
Канцлер переслал промеморию и проект конвенции в коллегию на рассмотрение, давая знать, что императрица вообще согласна на конвенцию, но что по его, канцлерову, мнению согласиться на содержание войска в Курляндии нельзя, а надобно выразиться так, что войско пробудет там до тех пор, пока будет возможно, ибо со стороны поляков могут быть сильные крики. Члены коллегии Воронцов, Юрьев и Веселовский подали мнение, что в английском проекте очень темно сказано, «чтоб по первому требованию короля войско и галеры готовы были действовать». Необходимо знать, одним ли русским войскам действовать или вместе с союзниками и под каким именем, вспомогательных войск или данных за 100000 фунтов, также в каком месте должны действовать, а без точного знания всех этих обстоятельств глухо обязываться на письме кажется непристойно. Также и то надобно выговорить в конвенции, что если будет заключен мир между Франциею и Англиею, то деньги все же должны быть заплачены и войска с галерами не были бы понапрасну продержаны целый год. Недолжно обязываться держать войска и галеры в Курляндии, не имея права держать войска в чужой земле: и так уже поданы курляндцами горькие жалобы по поводу введения только трех полков. Наконец, надобно постановить, что в случае нападения на Россию с какой бы то ни было стороны можно было взять эти 30000 войска и галеры.
Тогда Бестужев подал свое «слабейшее мнение, которым он по поводу вице-канцлерова и обоих тайных советников мнения ее императ. величество поневоле утруждать принужден». «Вице-канцлер и тайные советники не приметили, – говорит Бестужев, – что в проекте ясно сказано: если войску понадобится выступить в поход нынешним годом, то о содержании его должно быть дальнейшее соглашение, прямо поэтому следует, что войска прежде в поход не выступят, пока не будут определены условия, как их содержать. Вице-канцлер и тайные советники хотят постановлять, чтобы деньги были заплачены, если бы даже и мир был заключен; но в проекте прямо сказано, что деньги выплачиваются немедленно после ратификации, и потому, что хотя бы мир заключен был по прошествии одного или двух дней по размене конвенции, деньги были бы выданы. Если же они думают, что хотя бы мир был заключен во время переговоров о конвенции, однако 100000 фунтов должны быть заплачены за одно сочинение контрпроекта, то английский двор не был бы так прост, чтоб стал давать деньги даром, а между тем утвердился бы в своем мнении, что здесь никакого дела к концу приводить не хотят. Если из уважения к королю прусскому войска от границ совершенно отвести и ему невозбранный путь в Лифляндию очистить, то это будет несогласно с интересами вашего императ. величества; чтоб не вносить в конвенцию о содержании войск в Курляндии – это было мое мнение. Но если принимать в уважение горькие жалобы курляндцев, то русским войскам никогда из своих границ трогаться нельзя будет; Петр Великий, невзирая на все их прошения и жалобы, не только войска свои там содержал, но и шведам сражения давал.
Что же касается до совета выговорить, чтоб в случае нападения на империю эти 30000 войска могли быть отведены от границ, то это противно прежнему решению, объявленному Англии, что ваше величество соглашаетесь содержать на границах от 80000 до 90000 войска во все продолжение войны, а теперь английский двор за 30000 войска предлагает почти такую же сумму, какую согласились взять за 90000. Разве вице-канцлер и тайные советники предварительно уверены в праводушии и миролюбивых чувствах короля прусского, что он русские области всегда в покое оставит? Хотя бы ваше величество со Швециею, Турциею или Персиею в войне были, то, по моему слабому мнению, необходимо до того времени, пока у короля прусского не будет миролюбивого преемника, иметь на лифляндских границах до 30000 войска, дабы в случае какого замысла со стороны Пруссии хотя первое нападение выдержать». 29 марта Гиндфорду было объявлено, что императрица согласна на новую конвенцию с одним условием, чтоб в случае польских криков войска могли быть отодвинуты из Курляндии в Лифляндию. Английский двор принял это изменение, и 12 июня последовала ратификация.
24 августа Гиндфорд вручил канцлеру новую промеморию, в которой предлагалось отдать тридцатитысячный корпус русской пехоты на жалованье морским державам, обеим вместе или одной из них отдельно, для употребления на Рейне или в Нидерландах, с тем чтобы прежняя конвенция 12 июня оставалась ненарушимой, т. е. чтобы 30000 войска находились по-прежнему на лифляндских границах. Затем 12 сентября Гиндфорд объявил, что он получил от своего двора приказание договариваться непременно вместе с голландским резидентом Шварцом, ибо войска должны быть даны Англии и Голландии вместе. Императрица велела отвечать, что согласна на это, но с условием, чтоб отправленный корпус всегда действовал нераздельно, и если одна из держав захочет отстать, то другая исполняет все обязательства, именно выплачивает в год по 300000 фунтов, всегда за 4 месяца вперед наличными деньгами; кроме того, морские державы обязаны выдать тотчас по размене ратификаций в Риге наличными деньгами 150000 голландских ефимков для содержания войска во время прохода его чрез Польшу; а когда корпус дойдет до границ Верхней Силезии, тогда морские державы возьмут его на свое содержание, будут доставлять припасы натурою на пищу людям и лошадям, именно каждому солдату ежедневно по два фунта хлеба, по фунту мяса или в постный день рыбы, по 1/4 фунта круп, на каждый месяц по два фунта соли, а на каждую лошадь в день по 6 2/3 фунта овса или по 16 2/3 фунта сена; кроме того, квартиры на зиму и дрова должны быть доставлены безденежно.
Морские державы приняли эти условия, и 4 декабря Военной коллегии дан был секретный указ, что для поддержания европейского равновесия и ускорения мира Россия посылает морским державам тридцатитысячный корпус для действия на Рейне, Мозеле или в Нидерландах; этот корпус должен составиться из полков, находящихся в Курляндии, Лифляндии и Эстляндии, и должен выступить в поход в последних числах января будущего 1748 года под главным начальством генерал-фельдцейхмейстера князя Репнина. Так как нынешние обстоятельства европейских дел необходимо требуют, чтоб по вступлении в поход означенного корпуса на лифляндских границах и в Курляндии наших войск оставалось не меньше, как прежде было, но по возможности и более, то на место отправляемых перевести столько же из находящихся при С.-Петербурге и около его полков и новоучрежденных батальонов, также из Выборга, а в Выборге дополнить новоучрежденными батальонами; к находящейся в Пскове тысячной команде прибавить еще к лифляндским границам 3000 донских козаков да из слободских и малороссийских по тысяче самых исправных.
Какое важное значение придавали в Англии этому договору морских держав с Россиею, видно из следующих слов в письме английского посланника в Константинополе Портера к лорду Гиндфорду: «Я должен начать поздравлением с успехом в важном деле отправления русских войск. Этот шаг спасает все и принуждает неприятеля к уступчивости; вашему превосходительству будет принадлежать бессмертная честь за обращение весов войны или мира в нашу пользу».
Легко понять, как в Вене дорожили утвердившимися дружескими отношениями к России. В феврале посол Марии Терезии барон Бретлак подал грамоту, в которой его императрица писала к своей «многолюбезной приятельнице и сестре», что хочет распространить драгоценную дружбу Елисаветы и на свое потомство, а так как время к разрешению ее от бремени приближается, то она просит русскую императрицу быть восприемницею имеющего родиться ребенка. Родился эрцгерцог и назван Петром (Петр Леопольд Иосиф).
У Австрии по-прежнему не ладилось с Саксониею, а Саксония становилась очень нужна союзникам. 18 декабря Мих. Петр. Бестужев-Рюмин объявил графу Брюлю в крайнейшей конфиденции о заключении морскими державами конвенции, в силу которой им посылается тридцатитысячный корпус русского войска; этот корпус в январе будущего года вступит в поход чрез Литву и Польшу. О пропуске его морские державы будут просить позволения; и в свою очередь императрица надеется, что так как русские войска отправляются для общего блага всей Европы и для скорейшего прекращения настоящей войны, то король проходу этих войск не только побудет противен, но еще будет содействовать успеху требования морских державу Речи Посполитой, несмотря на домогательства французского двора о непропуске их; императрица надеется, что король предпочтет русский, венский и лондонский дворы французскому. Брюль отвечал, что король для оказания императрице особенного внимания и дружбы сделает все, что от него зависит и сколько пристойно и возможно, чтоб не подать полякам на себя подозрения. Бестужев писал, что французский посол в Дрездене употребляет все способы для воспрепятствия пропуску русского войска, а резидент французский в Польше Кастера интригует там с тою же целью. На просьбу английского посланника о пропуске войска король отвечал, что без согласия всей Речи Посполитой он ничего сделать не может. Чтобы получить согласие Речи Посполитой, надобно было получить согласие значительнейших вельмож. Вице-канцлер коронный с жаром отвечал Бестужеву, что от прохода русских войск беспорядки и убыток будут жителям, как случилось и во время прохода из-под Хотина. Бестужев возражал, что во время хотинского похода беспорядки были от нерегулярных войск, но и за то жители получили вознаграждение, а теперь нерегулярных войск не будет. Вице-канцлер говорил, что не все потерпевшие получили удовлетворение; Бестужев повторял, что назначенные в нынешний поход войска все будут покупать на чистые деньги и будет за ними строгий надзор, чтоб не позволяли себе никакого насилия. Граф Брюль, бывший при этом разговоре, сказал со смехом, что желал бы иметь теперь деревни в Польше, потому что от похода русских войск получил бы большие деньги. Наедине Бестужеву Брюль говорил, что поляки по своему обычаю поднимут большой крик и шум против похода, но покричат да и перестанут; опасно одно, чтоб не устроили конфедерации по французским и прусским наущениям.
В Польше по-прежнему тянулось бесконечное дело о притеcнениях православных католиками и униатами, дело чрезвычайно трудное, как видно из донесений русского резидента в Варшаве Голембовского. На последнем сейме было постановлено составить комиссию, на которой должно было выслушать все жалобы православных и удовлетворить им. Бестужев и Голембовский думали, что они сделали все для православных, и вдруг узнают, что православные вовсе не довольны комиссиею и вовсе не готовы явиться на нее. Голембовский в сильном раздражении писал императрице жалобу на белорусского епископа Волчанского, который будто бы выставляет разные неосновательные затруднения, стараясь уклониться от комиссии, а слуцкий архимандрит Оранский пишет, что другие игумены не дают ему никакого ответа на его внушения и не хотят быть послушны указам киевского митрополита. Таким образом, писал Голембовский, можно понять, какую они все оказывают охоту явиться в комиссию с теми жалобами, которыми они беспрестанно утруждали ваше величество и о которых королю и министрам так много внушено; однако без этого они не могут получить никакого удовлетворения и привести свои дела в лучшее состояние. Громадная переписка посла Бестужева и моя свидетельствуют ясно, что с нашей стороны все сделано; теперь они сами должны приняться задело, и я очень боюсь, что если они в назначенный срок не явятся на комиссию со своими жалобами и доказательствами, то магнаты, которые нарочно приедут издалека в Варшаву для комиссии, рассердятся и отложат комиссию в дальний ящик или совсем оставят, объявив все жалобы и претензии православных ложными, мало того, неявившихся, как непослушных подданных, приговорят к какому-нибудь штрафу; тогда уже мы с послом лишимся всякой возможности в чем-нибудь помочь им.
Но выслушаем и другую сторону, что нам легко сделать, ибо Голембовский переслал в Петербург письма епископа могилевского. «Вы меня спрашиваете, – пишет епископ, – приготовлен ли к предстоящей комиссии список обидам и озлоблениям, также имели ли мы с архимандритом слуцким и другими начальными людьми монастырей и братств совет и соглашение насчет приготовления доказательств, основанных на правах и конституциях, и уполномоченные на комиссии в состоянии ли вести порученные им дела? На это как прежде отвечал, так и теперь отвечаю: 1) что я во всей моей епархии не имею ни одного способного к тому человека, потому что кто и где мог научиться правам? Ни в Польше, ни в Литве никого из наших ни в школы, ни в канцелярии не пускают; а католик хотя бы и мог за это взяться, но боится отлучения от церкви, как я уже несколько раз пробовал; у нас даже нет человека, который бы мог искусно написать позыв к суду и полномочие. 2) Звать к суду трудно, потому что в Польше крестьяне не могут жаловаться на своих господ, равно как духовные на землевладельцев, в имениях которых находятся их церкви. В позывах надобно точно показать, от кого именно какие были обиды, а когда помещик прочтет такие позывы, то попа и холопа прежде комиссии велит повесить или убить. В Польше что жбан, то пан, шляхтич на загороде равен воеводе и одним правом с ним судится; а магнаты здешние всегда вольное право над своими подданными имеют, не так, как в абсолютных государствах, в которых господину и крестьянину одинакая справедливость. Они не очень испугались универсала, выданного из королевской комиссии, и какие делали прежде, такие и теперь продолжают делать обиды, церкви на унию отнимают, священников бьют, вяжут и обирают.
Например, если послать позывы к князю воеводе русскому за насильное отнятие на унию церквей в графстве Шкловском, а к Сапеге за отнятие церквей в графстве Домбровенском, то, значит, обоих этих знатных магнатов прежде озлобить, а потом у. них же на других справедливости просить, ибо они оба в комиссию судьями определены? Также надобно будет позвать в суд князя подканцлера литовского, Огинского, воеводу витебского, Соллогуба, воеводу бржеского, и Сапегу, воеводу подляшского, с которыми так же трудно тягаться, как трудно защитить себя от громовой стрелы. Не только ни одно духовное лицо не может явиться в комиссию со своими жалобами, но и ко мне являться с жалобами им запрещают; духовенство боится бывать у меня и со своими церковными нуждами; а которые прежде письменно доносили мне о своих обидах, то теперь очень об этом жалеют, боясь за свое здоровье и жизнь, видя пример священника расенского Цитовича, который для сохранения жизни оставил церковь, дом, жену и детей, ушел в Могилев, скитается здесь теперь и для спасения от смерти сбирается уйти за границу. Огинский, надворный маршалок литовский, в нынешний проезд свой в Вильну для открытия трибунала заехал в Борисов, где приказал всем обывателям стать пред собою, склонял их к унии и наконец приказал борисовскому своему подстаросте, что если кто подаст мне жалобу на религиозное гонение, то для таких челобитчиков поставить колья и виселицы, причем запретил починку церкви и колокольни, венчание, крещение младенцев и прочие обряды. Сам он министр государственный и все права знает, однако ж поступает против них. Таким образом, и другие, когда будут раздражены нынешними позывами, еще больше озлятся и нашу религию в своих местностях совсем искоренят. Комиссия на время, а господин всегда господином останется».
Оранский, архимандрит слуцкий, писал то же самое: «Перо выпадает из рук, ибо не знаю, что написать вам насчет людей, искусных в правах. И сам Диоген со свечою такого человека между нашими духовными не сыщет, ибо между ними большая часть таких, которые только имя свое подписать умеют. В последнюю бытность мою в Варшаве мнение графа Бестужева было, чтоб об этом представить высшей команде и просить сыскать двоих пленипотентов, совершенно искусных в правах польских, и заключить с ними контракт. Поэтому прошу вас повторить вышней команде прошение об этих двоих пленипотентах, иначе никакого успеха от комиссии ожидать нельзя».
Голембовский написал Огинскому с выговором за его поступок, обозначенный в письме Волчанского, причем напоминал ему о благодарности, которою он обязан за милости императрицы. Огинский отвечал ему наглым письмом: «На ваши выговоры я отвечаю умеренно и без оскорбления вашей особы, с выражением, однако, удивления, что вы, будучи уже совершеннолетним, дали себя обмануть баснями Волчанского, который забавляется донесениями о таких делах, каких никогда не бывало, с явным намерением нарушить мир, господствующий между обоими государствами. Увлекшись излишнею доверчивостью, вы заносчивым слогом упрекаете меня в неблагодарности и других качествах, от которых я далек по природе моей. Пусть эта ложь останется при том, кто ей верит и кто ее выдумал. Я питаю всякую благодарность к пресветлейшей государыне, подданных своих имею право наказывать и стращать как хочу и в этом ни у кого спрашиваться не обязан; дело же веры принадлежит одному богу, который сам просвещает совесть. Соизвольте предпочесть мою правду пустым донесениям».
Вместо того чтобы рассердиться на Огинского, который позволил себе отделаться одною наглостью, не привел ни одного доказательства в свою пользу и подтвердил только показание Волчанского словами: «Подданных своих имею право наказывать и стращать как хочу и в этом ни у кого спрашиваться не обязан», – вместо того чтобы рассердиться на Огинского, Голембовский рассердился на Волчанского и жаловался на православных духовных, что они «преждевременными и часто весьма неосновательными жалобами сами возбуждают ненависть к себе, а нам причиняют беспокойство, нас из-за них обвиняют в легковерии». С такими жалобами Голембовский обращался в Петербург и в своих сношениях с западнорусским духовенством не скрывал своего неудовольствия на него. Тогда епископ Волчанский обратился в Синод с жалобою на резидента как на неверного слугу государыни; Синод принял сторону епископа, и резидент получил предписание не беспокоить более духовенства своими наставлениями, не вмешиваться в его дела, разве оно само потребует его помощи. Дело о комиссии кончилось по желанию духовенства: из Дрездена пришел приказ королевский, что комиссия откладывается до приезда самого Августа III в Варшаву. Понятно, что православные могли получить удовлетворение не от какой-нибудь польской комиссии, а только от русского комиссара, каким был Рудаковский, присланный отцом Елисаветы. Но теперь обстоятельства были не те: хотели противодействовать прусскому влиянию в Польше, хотели провести чрез ее земли войска и потому не хотели ссориться с поляками.
В Берлине ничего не выиграли от удаления Чернышева, ибо его место занял вызванный из Франкфурта Кейзерлинг, известный враг франко-прусской политики. От 7 февраля Кейзерлинг известил свой двор об аудиенции, которую он имел у Фридриха II в Потсдаме. Кейзерлинг начал тем, что истинное намерение императрицы – ненарушимо сохранять дружбу между обоими дворами и усиливать ее, для чего он, Кейзерлинг, и прислан. Король отвечал, что и он ничего так не желает, как еще больше затянуть этот узел дружбы, признавая драгоценность последней. Кейзерлинга пригласили к столу, оставили ночевать в Потсдаме и на другой день опять пригласили к столу. На место Мардефельда в Петербург отправлен был министром граф Финкенштейн, о котором Кейзерлинг прислал не очень лестные отзывы как о мастере подольщаться и всякого привлекать на свою сторону, интригане, человеке лживом, необразованном и небольшого ума и потому употребляющем мелкие средства.
И в Петербурге мало выигрывали от смены Мардефельда Финкенштейном. Первым делом нового посланника было сблизиться с Воронцовым, которого в депешах своих он обыкновенно называет «важным приятелем». От 3 июля он писал королю: «Я нахожу здесь дела в самом неполезном состоянии для интересов вашего величества. Канцлер остается все тот же относительно вашего величества; но хуже всего то, что он теперь сильнее и пользуется большим против прежнего доверием императрицы. Он так хорошо воспользовался всеми обстоятельствами, случившимися по отъезде барона Мардефельда, что неприятелям его ничего другого не остается делать, как держать себя в оборонительном положении и ожидать лучших времен. Подкуп канцлера кажется мне делом очень трудным, даже невозможным, ибо при его пламенном усердии к делу союзных дворов можно было бы только подать ему этим новое оружие в руки, которое он стал бы употреблять против вашего величества. По моему убеждению, я должен вести себя так, чтоб не подать ему ни малейшего повода ко мне привязаться; я должен оказывать ему уважение, притворствовать и не возбуждать ни малейшего подозрения, что я нахожусь в каких-либо сношениях с его врагами, а между тем под рукою входить с ними в соглашения, каким бы образом предупреждать и отвращать удары, которых от него всегда должно опасаться, и с терпением ожидать, пока фортуна утомится служением злодею».
Вскоре затем Финкенштейн доносил, что дружба между «важным и смелым приятелями» (Воронцовым и Лестоком) неизменно очень велика; они нашли способ приклонить на свою сторону тайного советника Веселовского, самого умного человека в России и знающего тайны канцлера. Смелому приятелю Лестоку Финкенштейн дал денег, и тот просил обнадежить короля в его усердии.
В августе важный приятель рассказал Финкенштейну, что канцлер со своею шайкою обвиняет его, Воронцова, будто бы он все тайны открывает прусскому королю; чтоб дать большую силу этому обвинению, они несколько смягчают его, внушая, что вице-канцлер – человек честный и предан интересам государыни, но не умеет хранить тайны и, питая любовь к Фридриху II, иногда с самыми добрыми намерениями открывает такие дела, которые могут иметь важные последствия. Воронцов открыл также Финкенштейну, что последнее пребывание его в Петергофе дало ему возможность разговаривать о многих важных предметах с императрицею и открыть ей глаза относительно множества вещей, от чего она пришла в большое удивление; он указал ей на самовластие канцлера, который в коллегии один сам собою дела отправляет, не давая знать об них ни вице-канцлеру, ни другим членам. Он предложил императрице и способ сократить чрезмерную власть первого министра, именно дать ему указ все дела производить чрез коллегию и ни о чем не докладывать прежде, чем дело будет известно всем, кому об нем знать надлежит. Письменное мнение об этом Воронцова Елисавета оставила у себя, сказавши, что просмотрит его. В благодарность за такую откровенность Финкенштейн сообщил важному приятелю известие, что канцлеру приписывается обширный замысел, касающийся ниспровержения наследственного порядка в России и восстановления принца Иоанна на место великого князя Петра Федоровича. Воронцов заметил на это, что канцлер в состоянии все предпринять.
Воронцов внушал Финкенштейну, чтоб тот был осторожнее в своих донесениях королю, потому что депеши его в цифрах могут перехватить, ибо для этого не жалеют труда. Финкенштейн сначала приписывал эти внушения трусливости вице-канцлера, но приведен был в крайнее изумление, когда тот рассказал ему содержание одной его депеши. Когда узнали об отправлении тридцатитысячного корпуса к Рейну, то Финкенштейн стал внушать Воронцову, нельзя ли склонить кого-нибудь из духовенства представить императрице с религиозной точки зрения непозволительность этой меры. Но Финкенштейн имел мало надежды на успех, ибо, писал он, канцлер держит большую часть духовенства в своих руках, так что оно чрез него обыкновенно делает свои внушения. Финкенштейн сообщил королю, что Воронцов подал мнение против похода на Рейн, но императрица не обратила на него внимания.
Фридрих II, обеспокоенный этою решительностью петербургского двора принять участие в войне, боялся, что может оказаться такая же энергия и относительно Швеции, и дал знать Финкенштейну, что это было бы противно интересам Пруссии.
В начале января шведский король объявил Корфу, что французская партия, по его мнению, не успеет провести прусского союза; если же она будет на это настаивать, то он никак не согласится и велит внести в протокол свой протест с подробным изложением причин, заставляющих его так действовать, и с указанием на присягу свою, которою он обязался пред государством. Король при этом высказал свое неудовольствие на слабость действий патриотической партии на сейме, что подвергло его самого опасности и заставило назначить сенаторами людей, ему неприязненных, которые в тайном комитете предлагали потребовать у него отречения от короны за умеренную пенсию. «Прошу обнадежить императрицу, – заключил король, – что я никогда не отступлю от главного моего принципа – утвердить доброе согласие между обоими государствами». Корф заметил, что при настоящем положении дел императрица не может ожидать добра от большинства голосов в Сенате. Король отвечал, что на будущее время по русским делам будет подавать свой голос не иначе как письменно: это должно сдержать злые намерения большинства, которое подвергнется ответственности на сеймах. Корф нашел в наружности короля большую перемену к худшему и дал знать своему двору, что печаль от несчастного сенаторского избрания может иметь опасные следствия для здоровья короля.
Тайный комитет, не опасаясь теперь никакого противодействия со стороны Сената, вознамерился было дать инструкцию шведскому послу в Петербурге графу Барку, чтоб он ревностно защищал Тессина и переменил к нему отношения петербургского двора; если же это не удастся, то французская партия надеялась выиграть в том, что неприятный ей Барк возбудил бы этим против себя нерасположение императрицы. Но это намерение было оставлено, когда из Берлина пришли известия, что в России делаются сильные вооружения, не могущие иметь никакой другой цели, кроме войны шведской. Тогда решили, чтоб король написал грамоту императрице, выставил бы все свои старания о поддержании дружбы, но если вместо нее обнаруживается холодность между двумя дворами, то виноват барон Корф, который вовсе поступает не так, как следовало бы поступать министру тесно союзного двора, а именно: не так часто бывает при дворе, как другие иностранные министры; о чем поговорит с королем, сейчас расскажет мещанам; подает мемориалы свои королю не чрез министерство, а чрез других особ; в этой же грамоте король должен был оправдать Тессина. Это подало повод в Сенате к жестокому спору между членами русской и французской партий. Король сказал, что он отечески советует Сенату не подавать русской императрицеповода к жалобе на Швецию, прекратить торговлю хлебом, льном, пенькою, удержать субсидии – одним словом, предоставить Швецию ее судьбе. Но французское большинство объявило, что если король откажется подписать грамоту, то по уставам может подписать и кронпринц. Тогда король отвечал, что подпишет, слагая ответственность на Сенат.
Корф, объясняя свое поведение по поводу этой грамоты, писал императрице, что при королевском дворе он бывает часто, при дворе кронпринца реже, потому что там не обращают на него должного внимания, приглашают к столу, когда никто не приглашен из знатных, тогда как король всегда приглашает вместе двоих или троих сенаторов; вечером при дворе кронпринца все садятся играть в карты, а русский посланник должен разговаривать с каким-нибудь прапорщиком или поручиком. На придворных балах кронпринцесса до тех пор не танцует, пока Корф не отойдет прочь, чтобы только не танцевать с ним.
7 февраля собрался секретный комитет в чрезвычайном множестве членов, и бургомистр небольшого городка Эрегрунда Боберг потребовал, чтоб арестован был купец Спрингер за то, что во время сейма часто ходит в дом русского посланника, следовательно, замышляет что-нибудь опасное. Предложение это подало повод к жестоким и продолжительным спорам; но члены французской партии заперли двери и приступили к подаче голосов, рассчитывая на успех при своем большинстве, а между тем духовные встали и удалились с протестом. Когда большинством голосов решен был арест, то депутация секретного комитета, обойдя короля, который об этом ничего не знал, отправилась к кронпринцу с просьбою дать с гауптвахты офицера и 14 человек солдат для арестования Спрингера. Кронпринц, давно уже с нетерпением ожидавший этой депутации, немедленно дал караул, и Спрингера арестовали, захватили все его бумаги. Кроме Спрингера хотели схватить еще канцелярии советника Рангштета. Корф, зная, что арест человека, игравшего одну из самых видных ролей в русской партии, приведет членов ее в совершенное бездействие, тем более что они сильно уныли и от Спрингерова ареста, – Корф поздно вечером отправился к королю, объявил, какой слух в городе носится о Рангштете, и прибавил, что он принадлежит к русскому посольству, заведует хозяйством посла, ибо прочие служители, как иностранцы, по незнанию местных условий не могут вести выгодно хозяйство. Король в тот же вечер велел позвать к себе Пальмштерна и Горлемана и в присутствии генерала Шталя сделал им жестокий выговор. «Вы, – говорил он, – обнадежили меня словесно и письменно, что не предпримете ничего, что бы могло нарушить дружбу с русскою императрицею; а теперь вы позволяете себе такие поступки, в которых едва ли можете оправдаться. Арестование Спрингера, в котором я никакого участия не имею, я отдаю на вашу совесть; а теперь уже носится слух, что невинного Рангштета хотят также схватить на улице, хоть известно, что он принадлежит к русскому посольскому дому и ни одному иностранцу не запрещено держать слуг из шведов».
На другой день король прислал к Корфу статс-секретаря Нолькена с объявлением, что слух о Рангштете неоснователен. Но Корф дал знать своему правительству, что французская партия хочет схватить крестьянского предводителя на сейме Гедмана, и писал по этому случаю: «Если члены французской партии этих трех человек достанут в свои руки, то намерены по примеру испанской инквизиции хитростью, насилством, обещаниями и угрозами, как они это сделали в 1741 году с бедным Гильденштерном, заставить того или другого оговорить сенаторов Окергельма, Левена и Цедеркрейца, также двоих надворных советников, Аркенгольца и Вормгольца, чтобы их можно было также арестовать, а за ними арестовать генералов Дюринга и Сталя, канцлера юстиции Сильфершильда, надворного суда советника Фрединштирна, молодого камергера барона Пехлина; тогда они легко могли бы управиться и с графом Белке, ниспровергнуть всю патриотическую партию, и ваше величество в рассуждении своего интереса уже ни на что положиться не могли бы, и потому надобно употреблять всякие способы у духовного и крестьянского чина, чтоб отвратить этот опасный подкоп. Кронпринц играл в карты, когда капитан гвардии Флемминг из тайного комитета сообщил ему, что из писем канальи Спрингера ничего нельзя извлечь для его обвинения. Принц переменился в лице, карты выпали из рук; он велел позвать к себе Пальмштерна и долго с ним разговаривал».
Между тем, несмотря на силу французской партии, арестование Спрингера произвело сильное волнение, ибо здесь затронута была безопасность каждого; духовенство 22 голосами против 14 решило, что назначенные из секретного комитета в следственную комиссию над Спрингером три члена из духовенства не должны в ней присутствовать. Французская партия со своей стороны разгласила в народе, что в руках у секретного комитета список тех лиц, которые подписали просительное о вспоможении письмо к русской императрице. Это было сделано с тем, чтобы испугать членов русской партии и зажать им рот. Однако благодаря решению духовенства следственная комиссия над Спрингером не могла состояться. Тогда кронпринц решился на отчаянное средство: отправил в секретный комитет письмо, где все те, которые откажутся присутствовать в комиссии над Спрингером, названы бунтовщиками и государственными изменниками. Секретный комитет приказал предводителю (тальману) духовенства архиепископу созвать свой чин в чрезвычайное собрание, что и было исполнено; но когда предводитель изустно предложил, чтобы чин отменил прежнее свое решение относительно комиссии над Спрингером, ибо этого требует безопасность короля, кронпринца и государства, иначе духовный чин, по письму кронпринца, сделается виновным в государственной измене, то протопоп Серениус обвинил архиепископа в незаконности действия, ибо тот сделал такое важное предложение изустно, тогда как должен был представить извлечение из протокола секретного комитета. После сильных споров собрание разошлось, ничего не постановивши; но архиепископ самовольно приказал троим депутатам из духовенства присутствовать в комиссии. В это самое время Упсальский университет избирал нового канцлера вместо умершего графа Гилленборга; граф Тессин очень добивался этого почетного и влиятельного места, ибо большая часть молодого дворянства воспитывалась в Упсале; но университет выбрал сенатора Окергельма. Чтобы не допустить одного из главных членов противной партии усилить свое значение, Тессин уговорил кронпринца искать канцлерского места, вследствие чего назначены были вторые выборы, но и на них снова был избран Окергельм. Но Окергельм не радовался этой победе; он боялся, что если французской партии удастся овладеть крестьянским чином, то это будет грозить страшною опасностью существующей правительственной форме; он просил Корфа ради самого бога не жалеть никаких денег для подкрепления крестьян; но Корф отвечал, что уже издержал последние деньги и теперь ждет указа императрицы, а между тем надеется, что патриоты при таких сомнительных обстоятельствах сами постараются собрать сколько-нибудь денег.
Не имея денег, Корф действовал другими средствами: подал правительству промеморию против задержания Спрингера, чем затруднил французскую партию, не знавшую, что отвечать на промеморию, ибо за Спрингером не оказывалось никакой вины; кроме того, Корф распространил в народе напечатанную в Германии брошюру «Разговор двух шведов»; брошюра была направлена против прусского союза. Корф писал своему двору, что французская партия сильно домогается установления самодержавия и все к тому приготовлено. Когда сенатор Окергельм представлял кронпринцу, что если б он имел малейшее известие, что его высочеству угодно быть канцлером Упсальского университета, то никак бы не позволил внести себя в число кандидатов, то кронпринц отвечал ему презрительным тоном: «Я это звание хочу иметь и получу». Составляют план, чтоб кронпринцу привести в свое распоряжение стокгольмских горожан; для этого склоняют обер-штатгольда барона Фукса уступить это место кронпринцу за деньги. Составлен также план в полках, находящихся в осьми ближайших к Стокгольму провинциях, заставить полковников за деньги уступить свои места, которые раздать членам французской партии, а полк лейб-гвардии отдать самому принцу и, таким образом, приготовить корпус войска, который бы по первому сигналу мог произвести в действие насильственный план французской партии. Помехою для осуществления этого плана служит старый король, и потому сильно хлопочут, каким бы образом лишить его престола; духовный и крестьянский чины тут больше всего препятствуют. Король дал знать Корфу чрез генерала Сталя, что если будут сделаны ему предложения об отречении от престола, то он отвергнет их с твердостью, если только не будет употреблено насилия. Подозрительность дошла до такой степени, что король принимал меры за столом, чтобы не съесть или не выпить чего-нибудь отравленного.
Члены французской партии прямо говорили в секретном комитете: «Благодаря деятельности комитета, благодаря избранию новых сенаторов Швеция освобождена от русской зависимости, а если б мы позволили себе испугаться поступков русского посла, то государство наше навеки должно было б повиноваться повелениям его двора. Все известия единогласно подтверждают, как ошиблись заблудшие дети шведского отечества, которые полагались на русскую помощь. Известен обычай русского двора на сеймах гордо говорить, но при этом и остаться. Удивительно, что друзья России так упорно ее держатся, хотя они горьким опытом дознали, что, кроме обещаний, они от нее ничего не получили». Кронпринц сказал одному преданному человеку, который обнаружил сомнение насчет полезных следствий его поступков: «Не думаешь ли ты, что я не получал никаких известий о состоянии русского двора? Если колпаки надеются получить от него помощь, то они обмануты; мне надобно пользоваться настоящими обстоятельствами или навсегда отречься от своего плана. Когда я был любским епископом, то нуждался в помощи русской императрицы; а теперь, будучи кронпринцем шведским, должен сам себе помогать». Кронпринц главным средством поставить себя на твердую почву считал привлечение на свою сторону крестьянства для чего разослал по областям преданных себе людей. Но крестьянские депутаты на сейме крепко держались против французской стороны, и Корф писал, что причину такого поведения их должно приписать королю, ибо хотя русская партия и собрала небольшую сумму денег на содержание крестьян, но так как эта сумма оказалась недостаточною, то король дал значительную сумму как на крестьян, так и на духовенство. «Старый мудрый государь, – писал Корф, – принял при этом такие хорошие меры, что только три человека знают тайну, так что члены французской партии никак не могут угадать, каким образом крестьяне оказываются им противны, несмотря на большие деньги, розданные кронпринцем». Так как у крестьянского оратора были в руках доказательства интриг, которые производились для склонения крестьян к французской стороне, в его же руках находился и список лиц чрез которые производились эти интриги, то преданный русской партии ландмаршал уговорил оратора и еще одного крестьянина объясниться откровенно с графом Тессином. Крестьяне прямо объявили графу, что он во всем государстве считается виновником всякого беспорядка; что преданные французской партии крестьяне во всех публичных местах хвастают, будто кронпринц объявил себя главою сеймовых дел, и они под таким покровительством и разумным руководством графа Тессина надеются иметь полный успех. Но неудовольствие в большинстве крестьян от нарушения их вольности и привилегий так усилилось, что может быть опасно ему, графу Тессину. Конечно, ему известно мнение большинства народного, что, пока правление будет в его руках, до тех пор ни на какой надежный мир с Россиею надеяться нельзя, ибо Россия оскорблена поступками его и его партии на сейме, и если Дания, увидав слабость Швеции вследствие потери русской дружбы, начнет неприятельские действия, то на кого падет ответственность? Он, граф Тессин, напрасно думает, что те крестьяне, которые известным образом его посещают, ему друзья: в случае опасности они первые обратятся против него. Смущение Тессина при этих словах было величайшее; он мог только отвечать, что все это русский посланник внушает народу дурные об нем слухи, но время покажет его невинность. Тут оратор, чтоб еще более напугать Тессина, объявил ему решение крестьян отправить депутацию к кронпринцу с представлением, что крестьянский чин никак не может думать, чтоб его высочество позволил так употреблять во зло свое имя, чтоб позволил объявить себя главою некоторых мятежных крестьян, и потому крестьянский чин просит позволения исследовать, кто распустил подобный слух. Тессин начал усердно просить оратора, чтоб он уговорил крестьян не приводить в исполнение своего решения, и со своей стороны дал честное слово донести кронпринцу обо всем и переменить все дело.
Король при первом свидании спросил Корфа, слышал ли он о разговоре крестьянского оратора с графом Тессином. «Кое-что слышал», – отвечал Корф. «Я, – продолжал король, – сегодня в Сенате свое прямое мнение объявил, а еще прежде в своем кабинете графу Тессину сильный выговор сделал». Тут король подозвал к себе сенатора Окергельма и сказал ему: «По моим ведомостям, французское большинство в секретном комитете начало уменьшаться, и надеюсь, что наконец дела благополучно пойдут. Этим мы обязаны русской императрице; что бы теперь с вами, бедными колпаками, сделалось, если б русский посол не оказал твердости и противную вам партию не держал в страхе и трепете? Были бы вы совершенно уничтожены, потому что насилия уже начались». Корф сказал на это: «Я сердечно желаю обращения злой партии, но чтоб это обращение последовало не от страха, а из сознания истинных шведских интересов».
Корф предложил шведскому правительству приступить к союзу, заключенному между Россиею и Австриею. Русская партия требовала этого приступления, указывая на датские вооружения, которые кончатся ничем, как скоро узнают о тройном союзе между Россиею, Австриею и Швециею; тогда французская партия начала распускать слухи, что Россия не будет в состоянии помочь Швеции, ибо на нее вооружается Турция, и потому единственное спасение Швеции – просить предлагаемые Франциею субсидии и, теснее соединиться с Пруссиею. Корф вместе с австрийским резидентом опровергали слухи о враждебных движениях Турции, а король в Сенате прочел и велел записать в протокол мнение, где он указывал на необходимость приступить к австро-русскому союзу и отвергнуть прусский.
Этот вопрос о союзе подал повод к страшным спорам в секретном комитете. Приверженцы прусского союза выставляли преимущественно опасность, которая будет грозить кронпринцу, если состоится приступление к австро-русскому союзу, и потом указывали на состояние внутренних и внешних дел России, цитуя тайные известия из Петербурга, Копенгагена, Лондона. По этим известиям, будто бы состоялось соглашение между Россиею, Даниею и Англиею о низвержении наследного принца шведского; но Россия сама находится в опасном положении: неудовольствие между императрицею и великим князем усиливается день ото дня и народ разделился на партии; образовалась и третья сильная партия в пользу принца Ивана: она поддерживается некоторыми иностранными дворами. Персияне с сильным флотом приближаются к русским берегам, на кораблях у них 72000 войска. Граф Тарло обещал генералу Штейнфлихту, что как скоро будет заключен союз между Швециею и Пруссиею, то он образует конфедерацию в пользу короля прусского и выставит польскую конницу, которая будет защищать Пруссию от русских нерегулярных войск. В России ни о каких вооружениях не помышляют, в Финляндии только пять галер и три полка, между которыми обнаружились болезни; при таких обстоятельствах Швеция поступила бы крайне неблагоразумно, если б не обеспечила себя сильным союзом прусским.
23 апреля Сенат получил извещение из тайного комитета, что в нем решено вступить в союз с королем прусским и отклонить предложение императорского двора о приступлении к австро-русскому союзу. Король, поддерживаемый сенаторами русской партии, потребовал было, нельзя ли об этом решении сообщить наперед русской императрице; но французская партия восстала против этого, говоря, что это покажет какую-то зависимость Швеции от России. Когда Корф выговаривал колпакам за слабость, оказанную ими в этом деле, то они отвечали, что они в меньшинстве и на противной стороне кронпринц, который действует как самодержец; так как противная партия мало уважает совесть, законы, честь и стыд, то они должны опасаться арестов, гонений и самой пытки по обвинению во враждебных замыслах к кронпринцу и государству, если б они оказали дальнейшее сопротивление прусскому союзу, не будучи наверно обнадежены в помощи иностранных держав. Они даже не знают, какой предстоит им жребий во время сейма, а крестьянский чин хотя довольно постоянен и мог бы вместе с духовным чином много добра сделать, но опасно, чтоб и в нем не произвелено было движений интригами противной партии, а противиться этим интригам нельзя без денег.
Торжествующая французская партия приступила теперь к оправданию графа Тессина от взведенных на него русским двором обвинений, потому что ей хотелось доставить ему место президента Канцелярии иностранных дел; говорили: «Граф отнесся с презрением к разглашенным против него неосновательным слухам; теперь не только шведы, но даже иностранцы знают о его невинности из напечатанных в его пользу сочинений». Корф молчал; тогда начали говорить: «Если б русский посол мог доказать что-нибудь против графа Тессина, то не упустил бы сделать это теперь; его молчание показывает, что русский двор, затрагивая графа Тессина, хотел затронуть не его, но кронпринца». Тогда Корф препроводил канцлеру Нолькену промеморию, в которой излагал содержание пересланного ему из Петербурга письма Тессинова к известному ренегату Бонневалю. Русский двор, недовольный поведением шведского министра в Константинополе Карлсона, требовал его отозвания, что и было исполнено; но при этом Тессин писал Бонневалю, что Карлсон призывается в Швецию только для необходимых донесений сейму о состоянии дел, по окончании чего возвратится в Константинополь, что король очень доволен поведением Карлсона и богато наградит его. Мало того, преемника Карлсонова Целзинга граф Тессин не усомнился поручить милости и руководству Бонневаля, т. е. такого человека, который издавна оказывал себя врагом России. «Императрица, – заключил Корф в своей промемории, – никак не хочет приписывать этого королю; она обвиняет только министра, который для прикрытия своих тайных замыслов употребил во зло имя государя и государства, и потому императрица представляет просвещенному рассуждению, может ли при министерстве этого сенатора соблюдаться и укореняться доброе согласие между Россиею и Швециею».
Когда промемория прочтена была в Сенате, то французская партия пришла в ужас, зная, что в раздаче копий с нее недостатка не будет. Граф Тессин совершенно растерялся и поспешил объявить, что при таком состоянии дел никогда не примет звания президента Канцелярии иностранных сношений. Так как не могли понять, каким путем письма достались в руки Корфу, и опасались, что, пожалуй, у него есть и оригиналы, если Неплюев нашел средство по смерти Бонневаля достать некоторые его бумаги, то и не имели духа отрицать подлинность писем.
Шведский посол при петербургском дворе граф Барк действовал не так, как бы хотелось господствующей партии, а потому на его место назначен был Вульфенстерн, который перед отъездом имел совещания с членами тайного комитета. Содержание этих совещаний не осталось тайною для Корфа. Вульфенстерну было поручено, во-первых, стараться о свержении канцлера Бестужева и потом о свержении настоящего правительства. Не надобно упускать времени для свержения Бестужева, пока еще война идет в Европе, ибо после мира королю прусскому еще крепче будут связаны руки: ему нужно будет тогда ласкать те дворы, которые теперь, находясь в войне, принуждены его ласкать. У Бестужева много врагов в России, и Вульфенстерн должен с ними сблизиться, особенно надобно ему получить основательное сведение, кто из дам в наибольшей силе при дворе; их он должен приводить в движение двумя способами, в которых ошибиться не может и которые он с успехом употреблял при дрезденском дворе, а именно свое красивое лицо и волокитство; страсть к игре должна ему также помочь. Хотя граф Барк и назвал некоторых мужчин и женщин. которые при случае показывали свое расположение к Франции и. следовательно, к Швеции и Пруссии и находятся в сильной вражде с Бестужевым, но так как Барк поступал двоедушно, то Вульфенстерн не обязан слепо следовать его указаниям, не подвергнувши их прежде поверке, в чем граф Финкенштейн и Дальон не откажут ему помочь. Если он при движениях против Бестужева будет нуждаться в деньгах, то ему стоит только дать знать об этом французскому министру, которого двор не откажется доставить надобную сумму. Пока дело не достигнет зрелости, он должен содержать виды шведского правительства в глубочайшей тайне, особенно не должен он иметь явных сношений с людьми, преданными принцу Ивану, хотя под рукою может обещать им всякую помощь сo стороны Швеции. Что касается Корфа, то Вульфенстерну причтено будет в особую услугу, если он добьется его отозвания. Во что бы то ни стало его должно выжить из Стокгольма: ему одному надобно приписать то, что колпаки так упорно держатся и не хотят уступить. Настоящий сейм был самый трудный из всех и по введении в Сенат благонамеренных членов давно уже должен был бы кончиться, если бы колпачная партия не была подкреплена хитростями Корфа при ее вредных видах. Кроме того, самые тайные советы и меры не могут укрыться от Корфа, а каналы, которыми доходят до него сведения, до сих пор открыть нельзя. Вульфенстерн должен стараться, чтоб в случае отозвания Корфа на его место не был назначен граф Михайла Бестужев-Рюмин: он так знает шведские дела и так всеми любим в Стокгольме, что при такой перемене нельзя ничего выиграть. Вместе с Корфом должен быть удален и канцелярии юнкер Симолин, подозрительный своим знакомством со всеми людьми, враждебными настоящей системе.
Самым видным из этих людей был сенатор Окергельм, и шляпы решились поднять против него обвинение; так как Окергельм пользовался большим уважением, то вопрос, наряжать ли против него следствие, прошел утвердительно только большинством трех голосов. Колпаки обратились к Корфу с представлением, что благодаря такому расположению к Окергельму можно еще выиграть дело, что они сложились и собрали несколько денег, но мало и потому не может ли он дать им 4000 рублей для соблюдения интересов ее величества, так тесно связанных с сохранением Окергельма. Корф отвечал, что пошлет за указом в Петербург. План французской партии состоял в том, чтоб, управясь с Окергельмом, в продолжение сейма вытеснить из Сената и других сенаторов русской партии, именно Кронстета, Левена, Врангеля и Цедеркрейца, а чтоб сделать приятное Елисавете, ввести снова в Сенат члена русской партии графа Бонде и даже сделать его президентом Канцелярии иностранных дел. Но Корф писал, что Бонде неумен и трусоват, без подкрепления и наставления Окергельма никакой помощи России оказать не может; граф Тессин со своими сообщниками в Сенате стали бы совершенно им управлять. Все благонамеренные усердно молятся, чтобы благоприятным ветром принесло русские галеры к шведским берегам: тогда французская партия ослабеет, благонамеренные приедут из провинций и дела примут другой ход.