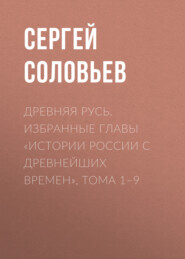По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История России с древнейших времен. Том 14
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Своим поведением и видом, не идущими к простому плотнику (хотя своею красною фризовою курткою и белыми холстинными штанами он нисколько не отличался от обыкновенных работников), Петр сейчас же выдал себя: заговорили, что это не простой плотник, и вдруг разносится слух, что это сам царь московский. Старый плотник зашел в цирюльню и прочел там письмо, полученное от сына из России; в письме рассказывались чудеса: в Голландию идет большое русское посольство и при нем сам царь, который, верно, будет в Сардаме; плотник написал и приметы царя – и тут, как нарочно, отворяется дверь и входят в цирюльню русские плотники, у одного точь-в-точь те приметы: и головою трясет, и рукою размахивает, и бородавка на щеке. Цирюльник, разумеется, не замедлил разгласить об удивительном явлении. Скоро слух подтвердился: Петр раздразнил уличных мальчишек, которые попотчевали его песком и камнями, и бургомистр издал объявление, чтоб никто не смел оскорблять знатных иностранцев, которые хотят быть неизвестными. Напрасно после того царь старался сохранить свое инкогнито, отказался от почетных приглашений, от удобного помещения, говоря: «Мы не знатные господа, а простые люди, нам довольно и нашей каморки». Жил в каморке, а купил буер за 450 гульденов! Толпа преследовала Петра, что приводило его в ярость, сдерживать которую он не выучился в Преображенском с потешными конюхами. Однажды, проталкиваясь сквозь неотвязную толпу, он был особенно раздражен глупою фигурою какого-то Марцена и дал ему пощечину; «Марцен пожалован в рыцари!» – закричала толпа, и прозвание «рыцарь» осталось за Марценом навсегда.
Из Амстердама дали знать о приближении русского посольства, и Петр поехал туда, прожив в Сардаме 8 дней. 16 августа Лефорт с товарищами торжественно въехал в Амстердам. Прием был великолепный; Петр участвовал в празднествах, которые давали посольству Генеральные Штаты, зная о присутствии самого царя. В Амстердаме знакомее всех других имен Петру было имя бургомистра Николая Витзена. Еще при царе Алексее Михайловиче Витзен был в России, проехал и до Каспийского моря, был известен как автор знаменитого сочинения «Татария восточная и южная», как издатель Избрандидесова путешествия в Китай. Витзен сохранял постоянную связь с Россиею; его издания были посвящены царям, он исполнял поручения русского правительства по заказу судов Голландии, находился в переписке с Лефортом. К Витзену обратился Петр с просьбою доставить ему возможность заняться кораблестроением в амстердамских верфях, и Витзен поместил его на верфи Ост-Индской компании, где нарочно для него заложен был фрегат. Получив об этом известие, Петр ночью поехал в Сардам, забрал там свои плотничьи инструменты и к утру возвратился в Амстердам, чтоб немедленно же приняться за работу; волонтеры, приехавшие с посольством, были также размещены по работам. Петр откликался, только когда ему кричали «плотник Петр сардамский!» или «мастер Петр!», но когда обращались к нему со словами «ваше величество!» или «милостивый государь!» – поворачивался спиною. Но не одним кораблестроением занимался Петр в Голландии: он ездил с Витзеном и Лефортом в Утрехт для свидания со знаменитым штатгалтером голландским и королем английским Вильгельмом Оранским. Витзен должен был водить его всюду, все показывать – китовый флот, госпитали, воспитательные дома, фабрики, мастерские; особенно понравилось ему в анатомическом кабинете профессора Рюйша; он познакомился с профессором, слушал его лекции, ходил с ним в госпиталь. В кабинете Рюйша он так увлекся, что поцеловал отлично приготовленный труп ребенка, который улыбался как живой. В Лейдене в анатомическом театре знаменитого Боергава, заметив отвращение своих русских спутников к трупам, заставил их зубами разрывать мускулы трупа. Разумеется, Петр должен был наблюдать большую экономию во времени: так, во время поездки в Лейден на яхте часа два занимался с натуралистом Леувенгоком, который показывал ему свои лучшие аппараты и микроскоп. Ненасытимая жадность все видеть и знать приводила в отчаяние голландских провожатых: никакие отговорки не помогали; только и слышалось: «Это я должен видеть!», и надобно было вести, несмотря ни на какие затруднения. И ночью он не давал им покоя; вдруг экипаж получит сильный толчок: «Стой! что это такое?» – надобно зажигать фонари и показывать. Гениальный царь был полным представителем народа, который так долго голодал без научной пищи и теперь вдруг дорвался до нее. Корабельный плотник занимался и гравированием. В Амстердаме оставшаяся после него гравюра изображает предмет, соответствующий положению Петра, его тогдашней главной думе: она представляет торжество христианской религии над мусульманскою в виде ангела, который с крестом и пальмою в руках попирает полулуние и турецкие бунчуки. Предмет гравюры объясняется и письмом Петра к патриарху Адриану в Москву: «Мы в Нидерландах, в городе Амстердаме, благодатию божиею и вашими молитвами, при добром состоянии живы и последуя божию слову, бывшему к праотцу Адаму, трудимся, что чиним не от нужды, но доброго ради приобретения морского пути, дабы, искусясь совершенно, могли, возвратясь, против врагов имени Иисуса Христа победителями, а христиан, тамо будущих, свободителями, благодатию его, быть. Чего до последнего издыхания желать не престану».
Кроме патриарха Петр постоянно переписывался и с другими правительственными лицами, которые извещали его о том, что делалось в России. Около Азова возводились укрепления: крепости Алексеевская и Петровская, Троицкая на Таганроге и подле нее Павловская; при Таганроге устраивалась гавань. Татары были отражены от Азова. На Днепре турки и татары были отбиты от занятых русскими крепостей – Казыкерменя и Тавани, в Польше окончательно утвердился королем Август; кумпанства усердно строили корабли, шведский король прислал 300 пушек для войны с неверными. Охотнее, чем с другими, переписывался Петр с Виниусом, как с человеком более других образованным и неутомимым в своей деятельности. Виниус в своих письмах постоянно требовал присылки оружейных мастеров, потому что железо есть доброе, а мастеров нет: «Наипаче болит сердце, что иноземцы, высокою ценою продав свойское железо и побрав деньги, за рубеж поехали, а наше сибирское многим свейского лучше». Никто больше Петра не мог сочувствовать этой сердечной боли Виниуса. Он отвечал ему: «Пишешь, ваша милость, о мастерах: из тех мастеров, которые делают ружья и замки зело доброе, сыскали и пошлем, не мешкав; а ради поспешения из тех же мест, где Бутманна олонецкие заводы сыскал, добыть возможно. Однако же мы здесь сыщем таких, за что взялся бургомистр Витзен, только, мню, не вскоре». Известия о мастерах перемешивались с известиями политическими: «Что пишешь о мастерах железных, что в том деле бургомистр Витзен может радение показать и сыскать, о чем я ему непрестанно говорю, а он только манит день за день, а прямой отповеди по ся поры не скажет; и если ныне он не промыслит, то надеюсь у короля польского чрез его посла добыть не только железных, но и медных. Мир с французом учинен, и здесь дураки зело рады, а умные не рады, для того, что француз обманул, и чают вскоре опять войны». В другом письме Петр опять пишет о Витзене: «О железных мастерах многажды говорил Витзену: только он от меня отходил московским часом». Между делом Виниус доносил и о пирах оставленных в Москве членов компании: «В царские имянины князь Федор Юрьевич Ромодановский великую нам трапезу и богатую даровал в столовой генеральской в Преображенском: сидели за разными столами больше ста человек, и с таким усердием и милостию нас трактовал, и стрельба мелкая и крупная так была сильна, что едва столовая устояла и стена одна гораздо повыдалась; даже до 4 и до 5 часа ночи, что в три дни каждый насилу мог оправиться». Описывая другой пир, Виниус пишет: «Ивашко с дядею своим (Бахусом) из своих великих мокрых сребреных и цкляных можеров в желудки бросали». Ивашку не забывали и в Голландии: извиняясь, что не ко всем отправил письма, Петр писал Виниусу: «Иное за недосугом, а иное за отлучкою, а иное за хмельницким не исправишь».
Четыре месяца с половиною жил Петр в Голландии: фрегат, заложенный им, был спущен. На Ост-Индской верфи, вдав себя с прочими волонтерами в научение корабельной архитектуры, государь в краткое время совершился в том, что подобало доброму плотнику знать, и своими трудами и мастерством новый корабль построил и на воду спустил. Потом просил той верфи баса (мастера) Яна Поля, дабы учил его препорции корабельной, который ему чрез четыре дня показал. Но понеже в Голландии нет на сие мастерство совершенства геометрическим образом, но точию некоторые принципии, прочее же с долговременной практики, о чем и вышереченный бас сказал и что всего на чертеже показать не умеет, тогда зело ему стало противно, что такой дальний путь для сего восприял, а желаемого конца не достиг. И по нескольких днях прилучилось быть его величеству на загородном дворе купца Яна Тесинга в компании, где сидел гораздо не весел ради вышеописанной причины; но когда между разговоров спрошен был: для чего так печален? тогда оную причину объявил. В той компании был один англичанин, который, слыша сие, сказал, что у них в Англии сия архитектура так в совершенстве, как и другие, и что кратким временем научиться можно. Сие слово его величество зело обрадовало, по которому немедленно в Англию поехал и там, чрез 4 месяца, оную науку окончил.
В январе 1698 года Петр переехал из Голландии в Англию и скоро из Лондона перебрался в городок Дептфорд, где на королевской верфи занимался окончанием науки. Здесь он приговорил до 60 человек иностранцев, мастеров золотых дел, в то же время послы в Голландии приговорили более 100 человек, для флота много нанял принятый в Голландии в русскую службу капитан Корнелий Крейс: он был принят прямо вице-адмиралом.
Проведя три месяца в Англии, Петр переехал в Голландию, но не остановился здесь, а направил путь на юго-восток – в Вену. Переговоры посольства с Генеральными Штатами насчет помощи царю в войне с турками не удались: Штаты под тем предлогом, что страна их истощена французскою войною, отказались ссудить царя мореходцами, оружием, снарядами, и скоро Петр узнал, что Штаты вместе с английским королем хлопочут о посредничестве к заключению мира между Австриею и Турциею. Этот мир был необходим для Голландии и Англии, чтоб дать императору возможность свободно действовать против Франции: предстояла страшная война за наследство испанского престола, т. е. для сокрушения опасного для всей Европы могущества Франции. Но во сколько для Англии и Голландии было выгодно заключение мира между Австриею и Турциею, во столько же им было выгодно продолжение войны между Россиею и Турциею, чтоб последняя была занята и не могла, по наущению Франции, снова отвлечь силы Австрии от войны за общеевропейские интересы. Но эти интересы находились в противоположности с интересами России: Петр трудился изо всех сил, чтобы окончить с успехом войну с Турциею, приобрести выгодный мир; но мог ли он надеяться с успехом вести войну и окончить ее один, без Австрии и Венеции? Следовательно, главною заботою Петра теперь было – или уговорить императора к продолжению войны с турками, или по крайней мере настоять, чтоб мирные переговоры были ведены сообща и все союзники были одинаково удовлетворены.
16 июня посольство въехало торжественно в Вену: царь, по обыкновению, опередил его и приехал просто на почтовых. Он спешил приступить к делу и в разговоре с канцлером, графом Кинским, объявил, что недоволен решением императора заключить мир на основании uti possidetis (да владеет каждый тем, чем владеет во время мирных переговоров), объявил, что для России необходимо обеспечить себя со стороны Крыма, овладеть здесь хорошею крепостию; Россия для императора разорвала мир с турками; надобно, чтоб все союзники получили желаемые ими выгоды; англичан и голландцев слушать нечего: они заботятся только о своих барышах; император спешит помириться с турками для войны с французами за испанское наследство и покидает своих союзников: но как скоро начнется французская война, султан немедленно поднимется на императора; войска выйдут из Венгрии для французской войны, и венгры забунтуют. Царь требовал кроме удержания всех своих завоеваний еще крепости Керчи в Крыму, без которой никакой пользы ему от мира не будет: татары по-прежнему будут нападать на Россию. Петр не досказал: с Азовом и Таганрогом без Керчи он был заперт в Азовском море. Если турки не согласятся на уступку Керчи России, то союзники должны продолжать войну Император отвечал, что требования царя справедливы, но чтоб заставить турок исполнить их, лучше всего, если русские поспешат взять Керчь оружием, обещал поддерживать на конгрессе требования русских уполномоченных и не приступать ни к чему без согласия с царем.
Переговоры этим должны были прекратиться; Петр, осмотрев все замечательное в Вене, съездив в местечко Баден и в Пресбург, собрался уже в Венецию, как почта привезла письма из Москвы: Ромодановский писал, что стрельцы взбунтовались и идут к Москве. Вместо Венеции Петр отправился в Россию.
Мы видели, что в 1689 году очень немногие из стрельцов участвовали в замыслах Софьи и Шакловитого, большинство сначала отстранялось от вмешательства в ссору между братом и сестрою а потом явно приняло сторону Петра, принудив Софью исполнить его требование – выдать Шакловитого. По-видимому, такое поведение должно было совершенно примирить новое правительство со стрельцами; но вышло напротив. Еще прежде 1689 года образовались потешные полки, которые вместе со старыми солдатами ста ли в противоположность стрельцам; привыкли смотреть так, что потешные – войско Петра, стрельцы – войско Софьи. Помирить потешных и вождей их со стрельцами нельзя было не по одним этим отношениям: потешные были представителями нового, имеющего жить, стрельцы – представители отжившей старины. Новое получило торжество в торжестве Петра над Софьею, стрельцам предстояло перестать быть стрельцами, превратиться в солдат; эта перемена была для них страшно тяжела, они не согласятся на нее добровольно, прежде попытаются, нельзя ли удержаться в прежнем положении, удержать старину. При таком положении дел в причинах к раздражению не могло быть недостатка. Вспомним потехи: дерутся два войска: русское войско, на стороне которого сам царь, – это потешные солдаты; войско враждебное, которым предводительствует польский король, – это стрельцы; они побеждаются, и этим выказывается их несостоятельность пред новым войском. Унижение и раздражение сильные. Причины к раздражению были и на стороне противной: мы не имеем никакого права отвергнуть известие, что стрельцы подкопались под Девичий монастырь, проломали пол в покоях царевны Софьи и вывели было ее подземным ходом, по после сильной схватки со сторожившими монастырь солдатами были переловлены и казнены. Как близкие к царю люди смотрели на стрельцов, на их отношения к правительству, всего лучше видно из приведенного выше письма Виниуса к Петру, что по получении благоприятных известий из-под Азова даже и в стрелецких слободах радовались. Азовские походы были очень тяжелы для стрельцов: два года сряду они должны были ходить так далеко, покидать семейства и выгодные промыслы в Москве; царь был ими недоволен, делал выговоры. Кто же виноват? Разумеется, иностранцы, и больше всех самый близкий из них к царю – Лефорт, и между стрельцами сильное раздражение против Лефорта. Обстоятельства становились все хуже и хуже для стрельцов. По взятии Азова их задержали там для охраны города, потом заставили работать над его укреплениями. Люди, недовольные царем, желающие избавиться каким бы то ни было средством, обращаются к стрельцам, как более других недовольным, обреченным на погибель. «Что они спят? – говорит Соковнин, – им бы можно было убить государя, все равно им пропадать же». Легко понять чувства людей, которым все равно пропадать же, и легко понять отношения Петра и его приверженцев к людям недовольным, раздраженным, в которых враги видят верное, готовое орудие: Цыклер обращается к стрельцам, а Петру все живее и живее представляется 15 мая 1682 года и стрелецкие копья, обагренные кровью Матвеева и Нарышкиных; все враждебное связано для него со стрельцами и все враждебное и стрелецкое относится, как к своему началу, к замыслу Ивана Милославского, все враждебное и стрелецкое есть в его глазах семя Милославского: этот взгляд уже высказался в страшном зрелище казни Цыклера с товарищами, когда кровь их стекала в гроб Милославского; тут же высказалось и сильное ожесточение, высказалось, как впечатление отрочества оживлялось и укоренялось при каждом удобном случае.
А стрельцов в Азове мучила тоска по Москве, по привольной, спокойной, семейной жизни в столице. Была еще надежда, что азовская служба скоро кончится и последует перевод в Москву; но вдруг указ – передвинуть четыре стрелецких полка – Чубарова, Колзакова, Черного и Гундертмарка из Азова к литовской границе, в войско князя Михайлы Григорьевича Ромодановского, который с полками дворянскими, рейтарскими и солдатскими стоял в ожидании, как разыграется борьба саксонской и французской партии в Польше. Стрельцы пришли из Азова в Великие Луки. Им на смену в Азов отправлены другие шесть полков стрелецких, остальные размещены по юго-западной границе; Москва очищена от стрельцов, там одни солдаты. Всего тягостнее четырем полкам стрелецким, которые вместо возвращения в Москву должны были пропутешествовать из Азова в Великие Луки. Многие из стрельцов решились во что бы то ни стало побывать в Москве! В марте месяце больше полутораста человек убежали из полков и явились в Москве в челобитчиках; на спрос правительства, зачем ушли из полков, отвечали что «их братья стрельцы с службы от бескормицы идут многие». Им назначили срок – 3 апреля, к которому они должны оставить Москву, причем велено им выдавать из Стрелецкого приказа кормовые месячные деньги сполна. Но беглецы узнали в Москве любопытные вещи.
Русские люди переживали небывалое время, и многим представлялся вопрос: не последнее ли это время? Царь явно сложился с немцами и уехал к ним за границу. Что там с ним делается неизвестно; правят бояре; а тут повсюду идут толки о старой и но вой вере; сойдутся где-нибудь двое, станут разговаривать о божестве, и первый вопрос: как ты в перстном сложении крестное знамение на себе воображаешь? Беглые стрельцы встретили на Ивановской площади своих знакомых, стрельцов же, которые сидели в площадных подьячих; завязались разговоры; первое слово: «Государь наш залетел на чужую сторону!» Государь-то на чужой стороне, а что без него в Москве делается! Подьячие рассказали, что бояре хотят царевича удушить, хочет удушить боярин Тихон Никитич Стрешнев и сам на Москве властителем быть. «А вам уже на Москве не бывать!» – говорили подьячие стрельцам.
Легко понять, с каким чувством слушали стрельцы последние слова. Надобно как-нибудь промыслить, чтоб быть в Москве, а тут еще и приглашение. Бывшая правительница, царевна Софья, живет в заточении в Девичьем монастыре; сестры ее от Милославской на свободе во дворце, но и всем им тяжело после 1689 года; вместе с Софьею и они правительствовали; понадобятся деньги – пошлют в любой приказ и возьмут сколько хотят; а теперь уже не то, теперь они царевны опальные, беззаступные. У них, разумеется, сильное желание, чтоб дела переменились – хотя бы стрельцы опять помогли! У них средоточие всех сплетен, всех неблагоприятных для правительства слухов, между ними и Девичьим монастырем тайные пересылки, недовольные стрельчихи тут служат службы недовольным царевнам. Стрельцы, прибежавшие в Москву, не могли не обратиться к царевнам, которые на Верху одни могли принять в них участие, не могли не выражать желания видеть опять царевну Софью в державстве; хотя царевен и заперли на Верху на это смутное время, однако стрельцы нашли средство войти с ними в сношения; двое из беглых стрельцов, Проскуряков и Тума, составили челобитную о стрелецких нуждах и отдали вхожей в Верх стрельчихе, чтоб передала которой-нибудь царевне. Деятельнее других была царевна Марфа, и к ней пошла стрелецкая челобитная, ее же постельница отдала грамотку стрельчихе, чтоб та передала ее Туме. Марфа говорила постельнице о грамотке: «Смотри, я тебе верю; а если пронесется, то тебя распытают а мне, кроме монастыря, ничего не будет». Той же постельнице Марфа велела сказать стрельчихе: «У нас на Верху позамялось: хотели было бояре царевича удушить; хорошо, если б и стрельцы подошли». С Верху же шли слухи: «Бояре хотели было царевича удушить, но его подменили и платье его на другого надели; царица узнала, что не царевич; а царевича сыскали в другой комнате, и бояре царицу по щекам били; а государь неведомо жив, неведомо мертв, и по стрельцов указ послан». На Арбате, у ограды церкви Николы Явленного, стояла толпа стрельцов, и один из них, Василий Тума, читал грамоту – из Девичья монастыря, от царевны Софьи Алексеевны, зовет все четыре полка, чтоб шли к Москве, становились табором под Девичьим монастырем и подавали ей, царевне, челобитье, чтоб шла по-прежнему на державство.
Если все должны приходить к Москве, то зачем же уходить из нее челобитчикам? В срочный день, 3 апреля, толпа стрельцов пришла к дому начальника Стрелецкого приказа, князя Ив. Бор. Троекурова, и просила, чтоб боярин выслушал их. Троекуров велел им выбрать четверых лучших людей для разговора с ним. Выборные явились и начали говорить, что они на службу до просухи не идут, били челом об отсрочке, представляли свою нужду, что доведены до крайнего упадка. Боярин прервал их и велел сейчас же идти на службу. Выборные отвечали, что не пойдут; тогда Троекуров велел их схватить и посадить в тюрьму; но на дороге товарищи отбили их. Весть об этом навела страх на бояр, помнивших хорошо стрелецкий бунт; притом же в апреле 1697 года и между солдатами Лефортова полка шла речь, чтоб подать челобитную царевне в Девичьем монастыре о даче им сухарей, потому что какой-то солдат рассказывал: стоял он на карауле в Верху, выходила государыня и говорила: что-де вы голы? берете по 30 алтын на месяц, только на вас, что красные кафтаны. И солдат ей говорил, что берут по алтыну на день, а сходится по 4 деньги на день, вывороты (вычеты) большие. Беспокойство бояр увеличивалось еще тем, что давно уже не было вестей из-за границы от царя. Против стрельцов надобно было приготовить другую вооруженную силу, солдат, и князь Ромодановский послал за генералом Гордоном, рассказал ему, в чем дело. Гордону показалось, что князь преувеличивает опасность, и он заметил ему, что дело неважное: стрельцы слабы и предводителя у них нет. От Ромодановского Гордон отправился на Бутырки, где жили его солдаты, чтоб приготовиться на всякий случай, и был успокоен тем, что все солдаты были налицо в слободе, кроме занимавших караулы в разных местах. На другой день стрельцы по-прежнему оставались в Москве, но спокойно, побушевали только двое пьяных в Стрелецком приказе. Между тем на Верху сидели бояре, советовались, как быть. Решили выслать отряд солдат и выбить стрельцов – силою из Москвы. Вечером сотня семеновцев при помощи посадских выбили незваных гостей за заставу, буянили только двое: одного прибили так, что скоро умер, другого вместе с буянившими прежде в Приказе сослали в Сибирь.
В письме от 8 апреля Ромодановский дал знать Петру о приход беглых стрельцов и о том, что они выпровожены солдатами. Петр получил письмо в Амстердаме, сбираясь в Вену, и отвечал: «Письмо ваше государское я принял и, выразумев, благодарствую и впредь прошу, дабы не был оставлен. В том же письме объявлен бунт от стрельцов, и что вашим правительством и службою солдат усмирен. Зело радуемся; только зело мне печально и досадно на тебя, для чего ты сего дела в розыск не вступил, бог тебя судит Не так было говорено на загороднем дворе в сенях. Для чего и Автамона (Головина, командира Преображенского полка) взял, что не для этого? А буде думаете, что мы пропали, для того, что почты задержались, и для того, боясь, и в дело не вступаешь: воистину скоряе бы почты весть была; только, слава богу, ни один не умер: все живы. Я не знаю, откуда на вас такой страх бабий! Мало ль живет, что почты пропадают? А се в ту пору была и половодь. Неколи ничего ожидать с такою трусостью! Пожалуй, не осердись: воистину от болезни сердца писал». Чрез несколько дней Петр написал к Виниусу с упреком за опасения по поводу неприхода почт: «Зело дивлюсь и суду божию предаю тебя, что ты так сумненно пишешь о замедлении почт, а сам в конец известен сим странам. Не диво, кто не бывал. Я, было, надеялся, что ты станешь всем рассуждать бывалостью своею и от мнения отводить; а ты сам предводитель им в яму. Потому все думают, что коли-де кто бывал, так боится того, то уже конечно так. Воистину не от радости пишу». Виниус спешил просить прощения, и царь отвечал ему: «Господь бог да оставит всем нам наши долги, милосердия своего ради. А что я так к вам писал, о том сам рассудишь, каково мне то дело».
Дело было действительно важное. Стрельцов выгнали из Москвы, и они понесли в Торопец, где стояли теперь их полки с Ромодановским, разные вести и призыв из Девичьего монастыря. На дороге нагнала их стрельчиха и отдала новую грамотку от царевны Софьи: «Теперь вам худо, а впредь будет еще хуже. Ступайте к Москве, чего вы стали? Про государя ничего не слышно». В доказательство, что вперед стрельцам будет еще хуже, пришел указ из Москвы от 28 мая: Ромодановский должен был распустить по домам своих полчан, пеших и конных, сам приехать в Москву, а стрельцы должны были оставаться до указа в городах Вязьме, Белой, Ржеве Володимировой и Дорогобуже; бегавших в Москву стрельцов, всего 155 человек, велено было сослать в малороссийские города – Чернигов, Переяславль, Новобогородицкой на вечное житье с женами и детьми, а пятидесятникам, десятникам и стрельцам, которые со службы не сходили, за их верную службу и за то, что ворам не потакали и подали на них заручные челобитные, сказать государево милостивое слово. Значит, правду говорили подьячие на Ивановской площади: стрельцам Москвы не видать! Когда этот указ, присланный от царского имени, был объявлен, то полковники Чубаров, Черный и Тихон Гундертмарк представили Ромодановскому беглых стрельцов из своих полков, человек с 50, и Ромодановский велел отвести их в город (крепость) и сдать торопецким воеводам; но есаулы, провожавшие беглых, встретили на дороге толпы стрельцов, которые отбили товарищей, гонялись за есаулами и бросали палками. Ромодановский отправил было против них новгородских стрельцов, но те по малолюдству не могли сладить с мятежниками. Тогда Ромодановский по просьбе полковников послал вычитать подлинный указ на съезжих дворах по полкам порознь, а к разрядному шатру для сказки указа московских стрельцов призывать не велел за такою их воровскою шатостию, опасаясь от них всякого дурна. В полках Чубарова и Колзакова стрельцы грамоту слушали, и Колзакова полка стрельцы били челом на милости и сказали, что за воров, если они явятся, стоять не станут; а чубаровские стрельцы сказали, что у них воров нет, а которые из них ходили в Москву, те ходили от голода. Колзаков из своего полка привел воров 15 человек к разрядному шатру, а оттуда повел в Торопец и отдал воеводе; но стрельцы, собравшись, отняли их у воеводы отбоем, а за полковником Колзаковым гонялись и палками за ним вслед бросали, и ушел он от них, покинув лошадь, за реку Торопу, по мостовинам. А стрельцы полков Черного и Гундертмарка слушать царской грамоты к съезжим избам не пошли и по улицам, близ разрядного шатра и двора, где стоял Ромодановский, начали ломать изгороди и с кольем, собравшись многолюдством, стояли великими толпами. Ромодановский, испугавшись, с конными дворянскими полками выступил из города в поле и стал в ополчении по московской дороге; Чубаров, Гундертмарк и Колзаков были с ним; князь велел им ехать в свои полки и выводить их порознь из слобод в поле и идти в указные города. Полк Чубарова выступил и пошел сквозь конные роты и полки. Ромодановский, подъехавши к нему, велел остановиться и стал уговаривать, чтоб выдали бегавших в Москву. Стрельцы отвечали, что за беглых не стоят, только взять их и выдать мочи нет. Ромодановский сказал им на это: «Беглецов малое число, а вас 500 человек с лишком!» Стрельцы пошли в полк; прошел час времени – никакого движения. Ромодановский посылает сказать им, чтоб не медлили выдачею; прежний ответ: «Мочи нашей нет!» Вслед за этим полк пошел, а беглые отстали и повернули к Торопцу; Ромодановский послал копейщиков и рейтар ловить их, те стали ловить, но тут выступает полк Гундертмарка, и воры скрылись в него, пробравшись болотными местами и кустарниками. Полковник и начальные люди кричали, чтоб воров в полк не пускать; но рядовые стрельцы не послушались и хотели биться с конницею, ловившею воров; они кричали: «У нас в полках воров нет, а ходили в Москву от нужды и бескормицы!» Все стрельцы пошли в указные города, и Ромодановский отослал им жалованье на два месяца, чтоб не было никакого предлога к продолжению смуты.
Но стрельцам нужно было не одно жалованье, им нужна была Москва, в которую их не пускали; притом же дело было уже начато: царскому указу учинились ослушны, бегунов не выдали; семь бед – один ответ! Разумеется, бегуны, по инстинкту самосохранения, должны были изо всех сил бунтовать остальных. Стрельцы шли медленно, нехотя, делали верст по пяти в день, и 6 июня, на берегу Двины, бунт вспыхнул. На телеге, перед четырьмя полками, стоял стрелец Маслов и читал призывное письмо от царевны Софьи: «Вестно мне учинилось, что ваших полков стрельцов приходило к Москве малое число: и вам бы быть в Москве всем четырем полкам и стать под Девичьим монастырем табором, и бить челом мне идтить к Москве против прежнего на державство; а если бы солдаты, кои стоят у монастыря, к Москве пускать не стали, и с ними бы управиться, их побить и к Москве быть; а кто б не стал пускать с людьми своими или с солдаты, и вам бы чинить с ними бой».
Толпы зашумели: «Идти к Москве! Немецкую слободу разорить и немцев побить за то, что от них православие закоснело; бояр побить, а им, стрельцам, жить в домах своих. Послать ив иные полки, чтоб и те полки шли к Москве для того, что стрельцы от бояр и от иноземцев погибают и Москвы не знают, непременно идти к Москве, хотя б умереть, а один предел учинить. И к донским козакам ведомость послать. Если царевна в правительство не вступится и по коих мест возмужает царевич, можно взять и князя Василья Голицына: он к стрельцам и в крымских походах и на Москве милосерд был, а по коих мест государь здравствует, и нам Москвы не видать; государя в Москву не пустить и убить за то, что почал веровать в немцев, сложился с немцами. Все царевны стрельцов к Москве желают; царевна Софья торопецким козакам дала денег по полтине, чтоб шли к Москве». Собрались круги, отставили прежних полковников и капитанов, а на их место выбрали новых и пошли к Москве.
Но в Москве солдаты, и потому у стрельцов дорогою такая речь была, чтоб им побывать на Бутырках, проведать у солдат, что у них делается? Стрелец Пузан отправился на Бутырки к знакомым солдатам Салениковым, и с одним из них виделся; но тот ему отказал: «Нам об вас заказ крепкий, и с вами нейдем, дела до вас нам нет, и вы как хотите». У стрельцов была и другая речь: с солдатами не биться, по малолюдству (всего 2200 человек), а обойти Москву и засесть в Серпухове или Туле и писать в Белгород, Азов, Севск и другие города к тамошним стрельцам, чтоб шли к ним немедленно; всем вместе идти к Москве и бить бояр. Страх напал на жителей Москвы, когда узнали о приближении стрельцов. Зажиточные люди начали со всем имением разъезжаться в дальние деревни. Между боярами начались споры о мерах; наконец мнение князя Бориса Алексеевича Голицына восторжествовало, и положено было выслать против мятежников боярина Шеина с генералами Гордоном и князем Кольцовым-Масальским; войска у них было около 4000 и 25 пушек. 17 июня царское войско встретило стрельцов под Воскресенским монастырем при переправе через реку Истру. Стрельцы прислали к Шеину письмо, в котором жаловались, что в Азове терпели всякую нужду, зимою и летом трудились над городовыми крепостями, потом из Азова перешли в полк к князю Ромодановскому, голод, холод и всякую нужду терпели: человек по полтораста их стояло на одном дворе, месячных кормовых денег не ставало и на две недели; тех, которые ходили по миру, били батогами. Из Торопца Ромодановский велел вывесть их на разные дороги по полку, отобрать ружье, знамена и всякую полковую казну и велел коннице, обступя их вокруг, рубить. Испугавшись этого, они не пошли в указные места, идут к Москве, чтоб напрасно не умереть, а не для бунту; пусть дадут им хотя немножко повидаться с женами и детьми, а там, как представится случай, и они опять рады идти на службу.
Шеин отправил Гордона в стаи к стрельцам объявить, что если они возвратятся в указные места и выдадут бегавших в Москву, также заводчиков настоящего бунта, то государь простит их и жалованье будет им выдано в указных местах по тамошним ценам. Гордон понапрасну истощал всю свою реторику, как сам выражается, уговаривая стрельцов: они отвечали, что или помрут, или будут на Москве, хотя бы на малое время, а там пойдут всюду, куда великий государь укажет; на дальнейшую реторику Гордона отвечали, что зажмут ему рот. Иноземцу не удалось, Шеин отправил русского князя Кольцова-Масальского уговаривать стрельцов; к нему вышел один из заводчиков, десятник Зорин, с черновою, неоконченною челобитною, в которой говорилось: «Бьют челом многоскорбне и великими слезами московские стрелецкие полки: служили они и прежде их прародители и деды и отцы их великим государям во всякой обыкновенной христианской вере; и обещались до кончины жизни их благочестие хранити, якоже содержит св. апостольская церковь. И в 190 году стремление бесчинства, радея о благочестии, удержали, и по их, великих государей, указу в пременении того времени их изменниками и бунтовщиками звать не велено, и по обещанию, как целовали крест, о благочестии непременно служат. И в 203 г. сказано им служить в городах погодно; а в том же году, будучи под Азовом, умышлением еретика, иноземца Францка Лефорта, чтобы благочестию великое препятие учинить, чин их московских стрельцов подвел он, Францко, под стену безвременно, и ставя в самых нужных в крови местах, побито их множество; его ж умышлением делан подкоп под их шанцы, и тем подкопом он их же побил человек с 300 и больше; его же умыслом на приступе под Азовом посулено по 10 рублев рядовому, а кто послужит, тому повышение чести: и на том приступе, с которою сторону они были, побито премножество лучших; а что они, радея ему, великому государю, и всему христианству, Азов говорили взять привалом, и то он оставил; он же, не хотя наследия христианского видеть, самых последних из них удержал под Азовом октября до 3 числа; а из Черкасского 14 числа пошел степью, чтоб их и до конца всех погубить, и идучи, ели мертвечину, и премножество их пропало. И в 206 году Азов привалом взяли и оставлены город строить, и работали денно и нощно во весь год пресовершенною трудностию. И из Азова сказано им идти к Москве: и по вестям были они в Змиеве, в Изюме, в Цареве Борисове, на Мояке, в самой последней скудости; и из тех мест велено им идти в полк к боярину и воеводе к князю М. Г. Ромодановскому в Пустую Ржеву на зимовье, не займуя Москвы; и они, радея ему, великому государю, в тот полк шли денно и нощно, в самую последнюю нужду осенним путем, и пришли чуть живы; и, будучи на польском рубеже, в зимнее время, в лесу, в самых нужных местах, мразом и всякими нуждами утеснены, служили, надеясь на его, великого государя, милость. И по указу велено все полки новгородского разряду распустить; а боярин и воевода Ромодановский, выведчи их из Торопца по полкам, велел рубить, а за что, не ведают. Они же, слыша, что в Москве чинится великое страхование и от того город затворяют рано, а отворяют часу в другом дня или в третьем, и всему народу чинится наглость: им слышно же, что идут к Москве немцы, и то знатно последуя брадобритию и табаку во всесовершенное благочестия испровержение».
Зорин требовал, чтоб челобитная была прочтена перед всем царским войском. Разумеется, это требование не было исполнено, и Шеин мог ясно видеть из челобитной, куда заходит дело, когда, с одной стороны, было выставлено православие, а с другой – еретик Францко Лефорт; под скромным именем челобитной это была злая выходка против царя, прикрытая выходкою против его любимца. Шеин мог ясно видеть, что переговоры, увещания усилили только дерзость стрельцов, тогда как успех против них не мог быть сомнителен: это была нестройная толпа, не имевшая предводителя, при недостаточной артиллерии. Начали приготовляться к битве; в обеих ратях служили молебны; стрельцы исповедались и дали клятву помереть друг за друга безо всякой измены. В последний раз послано им сказать, чтоб положили оружие и в винах своих добили челом государю, в противном случае начнется стрельба из пушек; стрельцы отвечали: «Мы того не боимся, видали мы пушки и не такие!» Но Шеин и тут шел постепенно: увидавши неуспешность переговоров, увещаний и угроз на словах, он попробовал постращать посильнее, велел выстрелить, но так, что ядра перелетели через головы стрельцов. Это еще более их ободрило: они стали распускать знамена, бросать вверх шапки и готовиться к бою. Но другой залп – и стрельцы замялись, несмотря на то что некоторые кричали: «Пойдем против большого полка грудью напролом, и хотя б умереть, а быть на Москве!» Еще два залпа – и немного их осталось в обозе, который немедленно был занят царскими войсками. Битва продолжалась не более часу. В царском войске было ранено только 4 человека, один смертельно; у стрельцов убито 15 человек и ранено, большею частию смертельно, 37. Разбежавшиеся из обоза были переловлены; Шеин «разбирал и смотрел у них, кто воры и кто добрые люди, и которые в Москве бунт заводили? И после того были розыски великие и пытки им, стрельцам, жестокие и по тем розыскам многие казнены и повешены по дороге; остальных разослали в тюрьмы и монастыри под стражу». С пытки винились в том, что было сделано в Торопце и по выходе из него на Двине: но никто не сказал о письме от царевны.
Получив от Ромодановского – короля известие о бунте стрельцов и движении их к Москве, Петр отвечал ему: «Пишет, ваша милость, что семя Ивана Михайловича растет: в чем прошу вас быть крепким; а кроме сего ничем сеи огнь угасить не можно. Хотя зело нам жаль нынешнего полезного дела (поездки в Венецию), однако сей ради причины будем к вам так, как вы не чаете». Ромодановский пишет о возмущении стрельцов, а Петру представляется, что растет семя Милославского! Остальные слова, что «только крепостию можно угасить сеи огнь», уже показывают сильное раздражение, которое внушало убеждение в необходимости крайних мер для уничтожения зла. Привести в ужас противников, кровью залить сопротивление – эта мысль обыкновенно приходит в голову революционным деятелям, в разгаре борьбы, при сильном ожесточении от сопротивления, при опасении за будущность свою и за будущность проводимого начала. Зловещий ответ Ромодановскому обещал Москве террор.
На дороге из Вены в Россию Петр получил известия о прекращении бунта победою Шеина. Между прочим Виниус писал: «Ни един не ушел: по розыску пущие из них посланы в путь иной темной жизни с возвещением своей братьи таким же, которые, мню, и в ад посажены в особых местах для того, что, чаю, и сатана боится, чтоб в аде не учинили бунту и его самого не выгнали из его державы».
26 августа по Москве разнеслась весть, что накануне приехал царь; побывал кой-где, был у девицы Монс; не был во дворце, не видался с женою; вечер провел у Лефорта, ночевать уехал в Преображенское. В этот вечер или в эту ночь решено было дело, которое на другой день должно было изумить Москву и многих поразить ужасом.
Петр возвратился в Москву в сильном раздражении: семя Ивана Милославского, стрельцы, пошли опять ему наперекор; перед отъездом Соковнин, Цыклер, стрельцы; только что отдохнул за границею, занявшись любимыми делами, как опять стрельцы не дают продолжать путешествия. Но стрельцы – это только застрельщики, это только вооруженная сила, за которою стоит масса людей, противных преобразованию, противных всему тому, чем уже заявил Петр свою деятельность, с чем связал себя невозвратно, без чего не может существовать. Петр хорошо знал, как смотрели эти люди на его деятельность; он не откажется в угоду им от этой деятельности, напротив, он ее усилит и, следовательно, возбудит против себя еще большую ненависть, большее ожесточение; сознание этого ожесточения в других страшно ожесточает его самого; он готов к борьбе на жизнь и на смерть, он возбужден, он кипит, первый пойдет напролом, он бросится на знамя противников, вырвет и потопчет его: это знамя – борода, это знамя – старинное длинное платье.
Но мы не можем остановиться здесь на одних личных побуждениях Петра и выпустить из внимания общий ход народного дела. До Петра народ повернул к Западу, до Петра начал работать новому началу, и это должно было непременно высказаться в одежде и волосах. Удивляться нечего этому явлению, которое повторяется беспрерывно в глазах наших: человек прежде всего в своей наружности, в одежде и уборке волос старается выразить состояние своего духа, свои чувства, свои взгляды и стремления. Как только признано превосходство иностранца, обязанность учиться у него, так сейчас же является подражание, которое естественно и необходимо начинается со внешнего, с одежды, с убранства волос, а тут еще твердили, что в покрое платья выказывается разум народа: русское платье некрасиво и неудобно, за него иностранцы зовут нас варварами, особенно нерасчесанные волосы делают нас мерзкими, смешными, какими-то лесовиками. Уже при Борисе Годунове при первом движении к Западу начинается между русскими подражание иностранцам в наружности, начинается бритье бород, и тут же начинаются против этого сильные выходки хранителей старины. При царе Алексее Михайловиче с усилением движения к Западу усиливается и брадобритие: мы видели, как ревностный блюститель отеческих преданий Аввакум не хотел благословить сына боярина Шереметева, потому что тот явился к нему в блудоносном образе, т. е. с бритою бородою. Ревнители отеческих преданий употребили все свои усилия, чтоб искоренить «еллинские, блуднические, гнусные обычаи», и достигли, по-видимому, своей цели, когда правительство, в угоду им, начало отнимать чины за подрезывание волос. Но эта ревность была вредна только ревнителям, которые были не в состоянии остановить рокового движения и только раздражали противников, заставляли их относиться к бороде и старому длинному платью так же враждебно, как ревнители относились к блудоносному образу: борода стала знаменем в борьбе двух сторон, и понятно, что когда победит сторона нового, то первым ее делом будет низложить враждебное знамя. Движение, долженствовавшее привести к этой победе, шло безостановочно: в 1681 году царь Федор Алексеевич издал указ всему синклиту и всем дворянам и приказным людям носить короткие кафтаны вместо прежних длинных охабней и однорядок: в охабне или однорядке никто не смел являться не только во дворец, но и в Кремль. Патриарх Иоаким с отчаянием увидел, что еллинский, блуднический, гнусный обычай брадобрития явился с новою силою; опять загремел против него патриарх: «Еллинский, блуднический, гнусный обычай, древле многащи возбраняемый, во днех царя Алексея Михайловича всесовершенно искорененный, паки ныне юнонеистовнии начаша образ, от бога мужу дарованный, губити». Патриарх отлучает за брадобритие от церкви, отлучает и тех, которые с брадобрийцами общение имеют, – тщетные усилия, обращающиеся только во вред авторитету церкви и духовенства. Преемник Иоакима Адриан издал также сильное послание против брадобрития, еретического безобразия, уподобляющего человека котам и псам; патриарх стращал русских людей вопросом: если они обреют бороды, то где станут на страшном суде: «с праведниками ли, украшенными брадою, или с обритыми еретиками?»
Эти выходки служат для нас лучшим мерилом силы стремления, против которого они делались, лучшим мерилом силы раздражения, какое должны были возбуждать в людях «юнонеистовых». Заметим также, что способ, употребленный Петром против бород и русского платья, был завещан ему предшественниками, и другой способ был тогда немыслим: указом царь Алексей Михайлович вооружился против брадобрития, наказывая ослушников понижением в чинах; указом царь Федор Алексеевич велел носить короткие кафтаны вместо длинных охабней и однорядок; патриарх со своей стороны отлучением от церкви наказывал за еллинский обычай: Петр точно таким же насильственным образом выводит бороды и русское платье. Наконец, заметим еще одно обстоятельство: без сомнения, первым делом Петра по приезде в Москву было потребовать розыскное дело о стрельцах, и легко понять, с каким чувством читал он челобитную их, наполненную злыми выходками против Францка Лефорта (т. е. против самого Петра), против немцев, последующих брадобритию. – Я немец, последующий брадобритию: так вот же вам ваши бороды!
Утром 26 августа толпа всякого рода людей наполняла деревянный Преображенский дворец, где Петр жил запросто, принимая вместе с знатью людей самых простых. Тут, разговаривая с вельможами, он собственноручно обрезывал им бороды, начиная с Шеина и Ромодановского; не дотронулся только до самых почтенных стариков, которым вовсе не к лицу была новая мода: до Тихона Никитича Стрешнева и князя Михаила Алегуковича Черкаского, они одни и остались с бородами; другие догадались, в дело, и начали бриться; недогадливым было сделано еще внушение: 1 сентября, в тогдашний Новый год, был большой обед у Шеи некоторые явились с бородами, но теперь уже не сам царь, а царский шут упражнялся в обрезывании бород. Кто после того не хотел бриться, должен был платить известную пошлину.
Дело было начато, вызов брошен людям, провозглашавшим брадобритие блудною, еретическою новостию; но Петр но дал им опомниться от этого удара, сразил новым ужасом, начавши кровавый розыск против стрельцов, которые осмелились с оружием в руках пойти против немцев, последующим брадобритию. С половины сентября начали привозить в Москву стрельцов, оставшихся в живых после первого. Шеиновского розыска, и наполнили ими окрестные монастыри и села: всего было более 1700 человек. В Преображенском в 14 застенках начались пытки с 17 сентября – печальный день именин Софьи, когда 16 лет тому назад без суда казнены были Хованские. Пытки отличались неслыханною жестокостию. Добыто было признание, что стрельцы хотели стать под Девичьим монастырем и звать Софию в управительство; наконец один стрелец, с третьего огня, признался, что было к ним послано от царевны Софьи письмо, которое Тума принес из Москвы в Великие Луки; то же показано было и некоторыми другими стрельцами; дело дошло до стрельчих, оговоренных в передаче письма, до женщин, живших при Софье в монастыре, при сестре ее Марфе: женщины были пытаны и показали уже известное нам о сношениях двух сестер и о передаче письма стрельцу.
Между тем делались страшные приготовления к казням: ставили виселицы по Белому и Земляному городам, у ворот под Новодевичьим монастырем и у четырех съезжих изб возмутившихся полков. Патриарх вспомнил, что его предшественники в подобных случаях становились между царем и жертвами его гнева, печаловались за опальных, утоляли кровь: Адриан поднял икону Богородицы и отправился в Преображенское к Петру. Но богатырь расходился, никто и ничто его не удержит; завидев патриарха, он закричал ему: «К чему это икона? разве твое дело приходить сюда? Убирайся скорее и поставь икону на свое место. Быть может, я побольше тебя почитаю бога и пресвятую его матерь. Я исполняю свою обязанность и делаю богоугодное дело, когда защищаю народ и казню злодеев, против него умышлявших».
Петр сам допросил обеих сестер, замешанных в дело, Марфу и Софью. Марфа призналась, что говорила Софье о приходе стрельцов, о их желании видеть ее, Софью, на царстве; но отреклась, что никакого письма не передавала стрельчихе. Софья, спрошенная про письмо, переданное стрельцами от ее имени, отвечала: «Такова письма, которое к розыску явилось, от ней в стрелецкие полки не посылывано. А что те стрельцы говорят, что, пришед было им к Москве, звать ее, царевну, по-прежнему в правительство, и то не по письму от нее, а знатно потому, что она со 190 года была в правительстве».
30 сентября была первая казнь: стрельцов, числом 201 человек, повезли из Преображенского в телегах к Покровским воротам; в каждой телеге сидело по двое и держали в руке по зажженной свече; за телегами бежали жены, матери, дети со страшными криками. У Покровских ворот в присутствии самого царя прочитана была сказка: «В распросе и с пыток все сказали, что было придтить к Москве, и на Москве, учиня бунт, бояр побить и Немецкую слободу разорить, и немцев побить, и чернь возмутить, всеми четыре полки ведали и умышляли. И за то ваше воровство указал великий государь казнить смертию». По прочтении сказки осужденных развезли вершить на указные места; но пятерым, сказано в деле, отсечены головы в Преображенском; свидетели достоверные объясняют нам эту странность: сам Петр собственноручно отрубил головы этим пятерым стрельцам. 11 октября новые казни: вершено 144 человека, на другой день – 205, на третий – 141, семнадцатого октября – 109, осьмнадцатого – 63, девятнадцатого – 106, двадцать первого – 2. 195 стрельцов повешено под Новодевичьим монастырем, перед кельею царевны Софьи, трое из них, повешенные подле самых окон, держали в руках челобитные, «а в тех челобитных написано против их повинки». В Преображенском происходили кровавые упражнения; здесь 17 октября приближенные царя рубили головы стрельцам: князь Ромодановский отсек четыре головы; Голицын, по неуменью рубить, увеличил муки доставшегося ему несчастного; любимец Петра Алексашка (Меншиков) хвалился, что обезглавил 20 человек; полковник Преображенского полка Блюмберг и Лефорт отказались от упражнений, говоря, что в их землях этого не водится. Петр смотрел на зрелище, сидя на лошади, и сердился, что некоторые бояре принимались за дело трепетными руками. «А у пущих воров и заводчиков ломаны руки и ноги колесами; и те колеса воткнуты были на Красной площади на колья; и те стрельцы, за их воровство, ломаны живые, положены были на те колеса и живы были на тех колесах не много не сутки, и на тех колесах стонали и охали; и по указу великого государя один из них застрелен из фузеи, а застрелил его преображенский сержант Александр Меншиков. А попы, которые с теми стрельцами были у них в полках, один перед тиунскою избою повешен, а другому отсечена голова и воткнута на кол, и тело его положено на колесо». Целые пять месяцев трупы не убирались с мест казни, целые пять месяцев стрельцы держали свои челобитные перед окнами Софьи.
Кроме розыска стрельцами, взятыми под Воскресенским монастырем, шел еще розыск по азовскому делу. Когда узнали в Черкасске на Дону о поражении стрельцов под Воскресенским монастырем, то козаки говорили писарю, приехавшему из Воронежа: «Знать ты потешный, дай только нам сроку, перерубим мы и самих вас, как вы стрельцов перерубили. Если великий государь к заговенью в Москве не будет и вестей никаких не будет, то нечего государя и ждать! А боярам мы не будем служить и царством им не владеть, и атаман нас Фрол (Минаев) не одержит, и Москву нам очищать. Мы Азова не покинем; а как будет то время, что идти нам к Москве, и у нас молодцы с реки не все пойдут, и река у нас впусте не будет, пойдем хотя половиною рекою, а до Москвы города будем брать и городовых людей с собою брать, и воевод будем рубить или в воду сажать». Когда в Азове узнали о событиях под Воскресенским монастырем, то стрельцы начали говорить: «Отцов наших и братьев и сродичев порубили, а мы в Азове зачтем, начальных людей побьем». Монахи распустили слух, что четыре полка стрельцов и солдат Преображенского и Семеновского полков, которые были посланы против стрельцов, но с ними не бились, порублены все, а царевич окопался на Бутырках. Монахи говорили стрельцам: «Дураки вы, б… дети, что за свои головы не умеете стоять, вас и остальных всех немцы порубят, а донские козаки давно готовы». Стрелец Парфен Тимофеев говорил: «Когда бунтовал Разин, и я ходил с ним же: еще я на старости тряхну!» А другой стрелец, Бугаев, толковал: «Стрельцам ни в Москве, ни в Азове житья нигде пет: на Москве от бояр, что у них жалованье отняли без указу; в Азове от немец, что их на работе бьют и заставляют работать безвременно. На Москве бояре, в Азове немцы, в земле черви, в воде черти». Кроме азовского еще новый розыск: стрелецкий полковой поп донес, что в Змиеве в шинке стрельцы толковали о своей беде, сбирались со всеми своими полками, стоявшими в Малороссии, идти к Москве; первые должны были попасть на их копья – боярин Тихон Стрешнев за то, что у них хлеба убавил, Шеин за то, что ходил под Воскресенский монастырь. А как будут брать наряд в Белгороде, убить прежде всего боярина князя Якова Фед. Долгорукова, если наряда не даст. В походах говорили: «Боярин князь Яков Фед. Долгорукий выбил нас в дождь и слякоть; чем было нам татар рубить, пойдем к Москве бояр рубить».
11 октября, во второй день казней, Петр созвал собор из всех чинов людей, которому поручил исследовать злоумышление царевны Софьи и определить, какому наказанию она должна быть подвергнута. Решение собора неизвестно; царевну можно было сильно подозревать; но для прямого доказательства ее вины розыск не мог ничего представить. Мы видели, что отвечала Софья брату: «Письма я никакого не посылала, но стрельцы могли желать меня на правительство, потому что прежде я была правительницею». Чтоб уничтожить связь между этим прошедшим и будущим, чтоб впредь никто не мог желать ее на правительство, лучшим средством было пострижение. Софья была пострижена под именем Сусанны и оставлена на житье в том же Новодевичьем монастыре под постоянною стражею из сотни солдат. Сестры ее могли ездить в монастырь только на Светлой неделе и в монастырский праздник Смоленской иконы (28 июля) да еще в случае болезни монахини Сусанны; Петр сам назначил доверенных людей, которых можно было посылать с спросом о ее здоровье, и приписал: «А певчих в монастырь не пускать: поют и старицы хорошо, лишь бы вера была, а не так, что в церкви поют спаси от бед, а в паперти деньги на убийство дают».
Софья была оставлена в подмосковном монастыре: гораздо виновнее по следствию являлась сестра ее Марфа, которая сама призналась, что сообщила сестре о приходе стрельцов и желании их видеть ее, Софью, правительницею, а постельница Марфы утверждала, что царевна получила челобитную от стрельцов и от нее шло письмо к Туме. Марфу постригли под именем Маргариты в Успенском монастыре Александровской слободы (теперь города Александрова Владимирской губернии).
Еще прежде сестер Софьи и Марфы Петр постриг жену свою, царицу Евдокию Федоровну. Из известного нам образа жизни Петра с его компаниею, Петра – плотника, шкипера, бомбардира, вождя новой дружины, бросившего дворец, столицу для беспрерывного движения, – из такого образа жизни легко догадаться, что Петр не мог быть хорошим семьянином. Петр женился, т. е. Петра женили 17 лет, женили по старому обычаю, на молодой, красивой женщине, которая могла сначала нравиться. Но теремная воспитанница не имела никакого нравственного влияния на молодого богатыря, который рвался в совершенно иной мир; Евдокия Федоровна не могла за ним следовать и была постоянно покидаема для любимых потех. Отлучка производила охлаждение, жалобы на разлуку раздражали. Но этого мало; Петр повадился в Немецкую слободу, где увидал первую красавицу слободы, очаровательную Анну Монс, дочь виноторговца. Легко понять, как должна была проигрывать в глазах Петра бедная Евдокия Федоровна в сравнении с развязною немкою, привыкшею к обществу мужчин, как претили ему приветствия вроде: лапушка мой, Петр Алексеевич! – в сравнении с любезностями цивилизованной мещанки. Но легко понять также, как должна была смотреть Евдокия Федоровна на эти потехи мужа, как раздражали Петра справедливые жалобы жены и как сильно становилось стремление не видать жены, чтоб не слыхать ее жалоб. Опостылела жена; должны были опостылеть и ее родственники Лопухины, и Льву Кирилловичу Нарышкину легко было избавиться от соперников: мы видели, какие страшные слухи ходили по Москве об участи самого видного из Лопухиных. А всему виною проклятые немцы, проклятый Лефорт, которому вместе с Плещеевым приписывали доставление Петру развлечений, особенно неприятных царице. И вот у Лопухиных к Лефорту ненависть страшная. Рассказывают, что однажды за обедом у Лефорта один из Лопухиных побранился с хозяином, кинулся на него и помял прическу, а Петр за это надавал пощечин Лопухину. Перед отъездом Петра за границу, когда удаляли из Москвы всех ненадежных людей, удалены были и отец царицы с двумя братьями: «Марта в 23 день великий государь указал быть в городах на воеводствах: на Тотме боярину Федору Авраамовичу, на Чаронде боярину Василию Авраамовичу да с ним племяннику его стольнику Алексею Андрееву сыну, в Вязьме стольнику Сергею Авраамову сыну Лопухиным, и с Москвы в те городы ехать им вскоре». После всего этого Петру, разумеется, не хотелось возвратиться из-за границы в Москву и застать здесь подле сына постылую Евдокию. Женившись по старине, Петр задумал и избавиться от жены по старому русскому обычаю: уговорить нелюбимую постричься, а не согласится – постричь и насильно. Из Лондона он писал Нарышкину, Стрешневу и духовнику Евдокии, чтоб они уговорили ее добровольно постричься. Стрешнев отвечал, что она упрямится, а духовник – человек малословный, и что надобно ему письмом подновить.
Ничто не подействовало, и Петр по возвращении в Москву решился принудить Евдокию постричься. 23 сентября Евдокию отправили в суздальский Покровский девичий монастырь, где и была пострижена под именем Елены в июне следующего 1699 года. Причина этой медленности неизвестна; сохранилось только любопытное известие от сентября 1698 года, что царь рассердился на патриарха, зачем не исполнено его повеление и Евдокия еще не пострижена, патриарх сложил всю вину на архимандрита и четырех священников, которые не соглашались на пострижение, как на дело незаконное, и отвезены были за это ночью в Преображенское. Малолетнего царевича Алексея, по отъезде матери, перевезли к тетке, царевне Наталье Алексеевне.
В древней летописи Русской находится любопытный рассказ, как великий князь Владимир разлюбил жену свою Рогнеду, как та хотела его за это убить, не успела и приговорена была мужем к смерти; но когда Владимир вошел в комнату Рогнеды, чтоб убить ее, то к нему навстречу вышел маленький сын их Изяслав и, подавая меч Владимиру, сказал: «Разве ты думаешь, что ты здесь один?» Владимир понял смысл слов сына и отказался от намерения убить жену. Но обыкновенно мужья и жены, когда ссорятся, забывают, что они не одни; и Петр, постригая жену, забыл, что он не один, что у него остался сын от нее.
Печальные события лета и осени 1698 года держали Петра в сильном раздражении, которое в некоторых случаях выражалось порывами бешенства. 14 сентября на пиру у Лефорта Петр начал браниться с Шеиным и выбежал вон, чтоб справиться, сколько Шеин за деньги наделал полковников и других офицеров. Возвратился в страшной ярости, выхватив шпагу, ударил ею по столу и сказал Шеину: «Вот точно так я разобью и твой полк, и с тебя сдеру кожу». Ярость еще больше была усилена, когда князь Ромодановский и Зотов стали защищать Шеина; Петр бросился на них, ударил Зотова по голове, Ромодановского по руке, так что едва не отсек пальцев; Шеин был бы убит, если б Лефорт не удержал Петра, получивши и сам порядочный удар. Все были в ужасе, но молодой фаворит умел успокоить Петра, который потом весело пропировал до утра.
Этот молодой фаворит был сержант Преображенского полка Александр Данилович Меншиков, известный в описываемое время больше под именем Алексашки. Относительно происхождения знаменитого впоследствии светлейшего князя нет никаких противоречий в источниках: современники-иностранцы единогласно говорят, что Меншиков был очень незнатного происхождения; по русским известиям, он родился близ Владимира и был сыном придворного конюха. Известно, какое значение получили при Петре потешные конюхи, как из них преимущественно сформировались потешные полки Преображенский и Семеновский; отсюда понятно, каким образом отец Меншикова попал в капралы Преображенского полка. Следовательно, официальный акт – жалованная грамота на княжеское достоинство Меншикову говорит совершенно справедливо, что родитель Александра Даниловича служил в гвардии. Но при этом мы не имеем никакого права не допускать известия, что сын потешного конюха, который долго не назывался иначе как Алексашка, торговал пирогами, ибо все эти мелкие служилые люди и сами, как только могли, и дети их промышляли разными промыслами; не имеем никакого права отвергать следующий рассказ очевидца. Петр, рассердившись однажды сильно на князя Меншикова, сказал ему: «Знаешь ли ты, что я разом поворочу тебя в прежнее состояние, чем ты был? Тотчас возьми кузов свой с пирогами, скитайся по лагерю и по улицам, кричи: пироги подовые! как делывал прежде. Вон!» – и вытолкал его из комнаты. Меншиков обратился к императрице Екатерине, которая успела развеселить мужа, а между тем Меншиков добыл себе кузов с пирогами и явился с ним к Петру. Государь рассмеялся и сказал: «Слушай, Александр! Перестань бездельничать, или хуже будешь пирожника». Гнев прошел совершенно. Меншиков пошел за императрицею и кричал: пироги подовые! а государь вслед ему смеялся и говорил: «Помни, Александр!» – «Помню, ваше величество, и не забуду. Пироги подовые!».
Алексашка, вследствие фавора, уже и в описываемое время выдавался вперед между приближенными к царю и по смерти Лефорта займет его место, никого не будет ближе его к Петру, но вместе с тем от Лефорта перейдет к нему печальное наследство – ненависть людей, которые будут против Петра и дел его. Наружность фаворита была очень замечательна: он был высокого роста, хорошо сложен, худощав, с приятными чертами лица, с очень живыми глазами; любил одеваться великолепно и, главное, что особенно поражало иностранцев, был очень опрятен, качество, редкое еще тогда между русскими. Но не одною наружностью мог он держаться в приближении: люди внимательные и беспристрастные признали в нем большую проницательность, удивлялись необыкновенной ясности речи, отражавшей ясность мысли, ловкости, с какою умел обделать всякое дело, искусству выбирать людей. Так являлся Меншиков своею светлою стороной; обратимся к темной. Это была необыкновенно сильная природа: но мы уже говорили, как становится страшно перед сильными природами в обществе, подобном русскому в описываемое время. Все, что было сказано о Петре, прилагается к его птенцам, его сподвижникам; все это силы, для которых общество выработало так мало сдержек. В обществе подобного рода, как в широком степном пространстве, где нет определенных, искусственно проложенных дорог, каждый может раскатываться во всех направлениях. Везде и всегда один и тот же закон: сила не остановленная будет развиваться до бесконечности; не направленная будет идти вкось и вкривь. У Меншикова и товарищей его была большая сила, потому они и оставили имена свои в истории; но где они могли найти сдержку своим силам? В силе сильнейшего? Этой силы было недостаточно: лучшим доказательством служит то, что этот сильнейший должен был употреблять пощечины и палку для сдерживания своих сподвижников, а употребление таких средств – лучшее доказательство слабости того, кто их употребляет, лучшее доказательство слабости общества, где они употребляются. Силен был, кажется, Петр Великий лично, силен был и неограниченною властию своею, а между тем мы знаем, как он был слаб, как не мог достигнуть непосредственно при жизни своей самых благодетельных целей, ибо не может быть крепкой власти в слабом, незрелом обществе; власть вырастает из общества и крепка, если держится на твердом основании; на рыхлой почве, на болоте ничего утвердить нельзя.
Выхваченный снизу вверх, Меншиков расправил свои силы на широком просторе; силы эти, разумеется, выказались в захвате почестей, богатства; разнуздание при тогдашних общественных условиях, при этом кружившем голову перевороте, при этом сильном движении произошло быстро. Мы увидим, что Меншиков ни перед чем не остановится. И в описываемое время сержант Алексашка уже показывал страшное честолюбие. Петр не питал слепой привязанности к своему любимцу: когда кто-то просил царя, чтоб пожаловал Алексашку в стольники, то Петр отвечал, что Алексашка и без того употребляет во зло свое значение и что надобно уменьшать в нем честолюбие, а не увеличивать. После Петр не пожалеет никаких почестей для Меншикова, когда заслуги последнего станут явны перед всеми.
В своем раздражении Петр не щадил ни старого, ни нового любимца: заставши однажды Меншикова пляшущего в шпаге, он так ударил его, что у того полилась кровь из ноздрей; а потом, на пиру у полковника Чамберса, он схватил Лефорта, бросил на землю и топтал ногами. Тяжелая мысль давила Петра и увеличивала раздражение; при сравнении того, что он видел за границею, и того, что нашел в России, страшное сомнение западало в душу: можно ли что-нибудь сделать? не будет ли все сделанное с громадными усилиями жалким и ничтожным в сравнении с тем, что он видел на Западе? Ограничиться бедными начатками, не видать важных результатов своей деятельности было тяжело для богатыря, кипевшего такими силами. Особенно, как видно, приводило его в отчаяние любимое дело, кораблестроение, при воспоминании о том, что он видел в Голландии и Англии, и о том, что оставил в Воронеже. Через два дни после осенних стрелецких казней, вечером 23 октября, Петр поехал в Воронеж и оттуда писал Виниусу: «Мы, слава богу, зело в изрядном состоянии нашли флот и магазеи обрели. Только еще облак сомнения закрывает мысль нашу, да не у коснеет сей плод, яко фиников, которого насаждающи не получают видеть. Обаче надеемся на бога с блаженным Павлом: подобает делателю от плода вкусити». – «Только еще облак сомнения закрывает мысль нашу» – значит, сомнение тяготило в Москве и найденное изрядное состояние флота и магазеев не могло прогнать его. В другом письме пишет: «А здесь, при помощи божией, препораториум великий, только ожидаем благого утра, дабы мрак сумнения нашего прогнан был. Мы здесь начали корабль, который может носить 60 пушек». Тяжкое сомнение, которое отняло бы руки у другого, не привело, однако, Петра к бездействию; он работал так же неутомимо, как и до поездки за границу. А между тем происходили любопытные явления, характеризующие время. Лучшим из учеников морского дела, посланных Петром за границу, оказался Скляев, находившийся с царем в постоянной переписке. Он в описываемое время возвратился из-за границы и должен был ехать к царю в Воронеж. Петр ждет с нетерпением нужного человека – нет Скляева! Наконец приходит весть, что он вместе с товарищем своим Верещагиным в руках страшного пресбургского короля. Петр пишет Ромодановскому: «В чем держать наших товарищей, Скляева и Лукьяна (Верещагина)? Зело мне печально. Я зело ждал паче всех Скляева, потому что он лучший в сем мастерстве, а ты изволил задержать. Бог тебе судит! Истинно никого мне нет здесь помощника. А, чаю, дело не государственное. Для бога, свободи (а какое до них дело, я порука по них) и пришли сюды». Ромодановский отвечал: «Что ты изволишь ко мне писать о Лукьяне Верещагине и о Скляеве, будто я их задержал, – я их не задержал, только у меня сутки ночевали. Вина их такая: ехали Покровскою слободою пьяны и задрались с солдаты Преображенского полку, изрубили двух человек солдат, и по розыску явилось на обе стороны неправы; и я, розыскав, высек Скляева за его дурость, также и челобитчиков. с кем ссора учинилась, и того часу отослал к Федору Алексеевич; (Головину). В том на меня не прогневись: не обык в дуростях спускать, хотя б и не такова чину были».
Ромодановский в отсутствие царя должен был заниматься не одним разбором ссоры Скляева с Преображенскими солдатами. Тотчас по отъезде Петра в Воронеж по Москве пошли слухи, что начались тайные сборища недовольных; гонец, отправленный ночью к царю с письмами и дорогими инструментами, был схвачен на Каменном мосту и ограблен; письма нашли на другой день разбросанными по мосту, но инструменты и сам гонец пропали. В конце 1698 года царь возвратился в Москву и на Рождестве тешился одною из любимых своих забав: переряженный, с большою свитою на 80 санях ездил славить Христа; хозяева домов, куда приезжали славильщики, должны были давать им деньги; богач князь Черкасский был щедрее всех; но один купец дал на всю компанию только 12 рублей; Петр рассердился, набрал на улице сотню мужиков и привел к скупому купцу, который должен был теперь дать каждому мужику по рублю. В январе опять 10 застенков в Преображенском для оставшихся стрельцов; в феврале снова казни сотнями и опять упражнения самого царя с помощию Плещеева. В конце февраля начали вывозить трупы из Москвы: более тысячи было вывезено за заставы и там несколько времени лежали кучами, пока наконец зарыты в землю.
За несколько дней пред казнями был пир у Адама Вейде, но царь сидел погруженный в мрачную думу. Лефорт истощал свою изобретательность, чтоб развлечь его. Великолепный дом, построенный для адмирала на казенные деньги, был отстроен; назначено было большое торжество для открытия или посвящения этого храма Бахусу; шутовская процессия тянулась в Лефортов дворец из дома полковника Лимы: шествовал всешутейший Зотов, украшенный изображениями Бахуса, Купидона и Венеры, за ним вся компания: одни несли чаши, наполненные хмельными напитками, другие несли сосуды с курящимися табачными листьями.
Стрельцы, бунтовавшие в Торопце и Азове, были переказнены: все остальные московские и азовские стрельцы были распущены их было запрещено принимать в солдаты, запрещено жить в Москве им и женам их. Но дело не было исключительно стрелецкое, борьба разгоралась все более и более и кровь вызывала на новую кровь, пресбургский король в Преображенском не мог оставаться в бездействии. Когда стрельцов толпами начали сводить в Москву для розысков, то в народе пошел слух, что по них будут стрелять из пушек; возбудилось сочувствие, и в Преображенское был подан донос на жену стряпчего конюха Аксинью, которая говорила своему крепостному человеку Гавриле: «Видишь, он стрельцов не любит, стал их переводить, уж он всех их переведет», а Гаврила говорил: «Чего хотеть от басурмана, он обасурманился, в среду и пятницу мясо ест; коли стал стрельцов переводить, переведет и всех, уж ожидовел и без того жить не может, чтоб в который день крови не пить». Аксинья прибавила с ругательством: «Кадошевцев от Покровских ворот до Яузких велел бить кнутом, и как их били, и он за ними сам шел». Аксинью и Гаврилу казнили смертию. Стрелец Петрушка Кривой в вологодской тюрьме кричал: «Ныне нашу братью стрельцов прирубили, а остальных посылают в Сибирь: только нашей братии во всех сторонах и в Сибири осталось много; а кто их заставил рубить, и у того голова его чуть на нитке держится; собрався, все будем на Москве, и самому ему торчать у нас на коле; на Москве зубы у нас есть, будет у нас и тот в руках, кто нас пытал и вешал». В Преображенском Кривой не запирался и говорил: «Как я из Сибири ушел и мне было с своею братьею, ссылочными и беглыми, и с теми, которые в полках, и которые стрельцы из полков написались в города, в посады, с иными видеться, а с иными списываться, за ту свою обиду и за стрелецкую казнь идти к Москве и, учиня бунт, государя и бояр побить». Как обыкновенно бывает, недовольные настоящим искали утешения в будущем; недовольные Петром обращались с надеждою к наследнику, царевичу Алексею, который не будет похож на отца. Когда одна партия стрельцов сидела за караулом в Симонове монастыре, то монастырский конюх Никита Кузьмин говорил им: «Стрельцы, которые были в Новоспасском монастыре и которые монастырские служки и. крестьяне везли их на пушечный двор, говорили: не одни стрельцы пропадают, плачут и царские семена, и стрелецкие жены говорили: царевна Татьяна Михайловна жаловалась царевичу на боярина Тихона Никитича Стрешнева, что он их (царевен) поморил с голоду, если б-де не монастыри нас кормили, мы бы давно с голоду померли, и царевич ей сказал: дай-де мне сроку, я-де их переберу. Стрельчихи говорили: государь свою царицу послал в Суздаль, и везли ее одну, только с постельницею да с девицею, мимо их стрелецких слобод в худой карете и на худых лошадях. Как постельница из Суздаля приехала, и царевич хватился матери и стал тосковать и плакать, и царевича государь уговаривал, чтоб не плакал. И после государя царевич из хором своих вышел на перила, а за ним вышел Лев Кириллович Нарышкин, и царевич ему говорил: для чего ты за мною гоняешься, никуда не уйду. Намутила на царицу царевна Наталья Алексеевна; государь царице говорил: моли ты бога за того, кто меня от тебя осудил. Государь немец любит, а царевич немец не любит; приходил к нему немчин и говорил неведомо какие слова, и царевич на том немчине платье сжег и его опалил. Немчин жаловался государю, и тот сказал: „Для чего ты к нему ходишь, покаместь я жив, потаместь и вы“. Кузьмин объявил, что все это он слышал от Хлебенного дворца стряпчего Василья Костюрина. Стрелецкие казни произвели особенно сильное впечатление на женщин, которые говорили: „Государь с молодых лет бараны рубил, и ныне руку ту натвердил над стрельцами. Которого дня государь и князь Федор Юрьевич Ромодановский крови изопьют, того дня в те часы они веселы, а которого дня не изопьют, и того дня им и хлеб не естся“».
Как скоро начало ослабевать впечатление стрелецкого розыска, начались выходки против бритья бород. Духовенство и в челе его патриарх находились теперь в самом затруднительном положении: они провозглашали, что брадобритие есть богоненавистное дело, и вдруг царь своим примером и приказом вводит это богоненавистное дело: оставалось или продолжать высказывать прежнее мнение, т. е. идти против верховной власти, или замолчать; предпочли, разумеется, последнее и навлекли на себя сильные укоры со стороны ревнителей отеческих преданий. В июле 1699 года знаменский архимандрит Иоасаф подал следующее извещение: «Был я на погребении у посадского человека, у церкви Зачатия в Углу, и на том погребении, видя соблазн Нагого Ивашки и с ним других в волосяницах, с которыми он по рядам и по церквам ходил и деньги обманом сбирал, велел его, Ивашка Нагого, и волосяничника Ивашка Калинина и старца своего Герасима Босого взять за тот соблазн и посадить в цепь, а Ивашка Нагого велел взять к себе в келью, потому что он безмолвствовал и ни с кем не говорил при многих людях, и стал я ему говорить, что он по рядам и по погребениям ходит и деньги сбирает; и он сказал: в том-де вины нет, а дают мне ради моей святости, и в том мне будет мзда от бога, что я брал и раздаю нищим же, и иному бы и не дали, и я-де хочу и не то делать, идти в Преображенское царя обличать, что бороды бреет и с немцами водится и вера стала немецкая. Я ему сказал: проклятый сатана нагой бес! Что ты видел или от ума отошел? У нас св. патриарх глава и образ божий носит на себе, а никакого соблазну от него, государя, не слыхал. Нагой отвечал: „А какой де он патриарх? Живет из куска, спать бы ему да есть, да бережет де мантии, да клобука белова, за тем де он и не обличает, а вы де власти все накупные“». Нагой в Преображенском признался, что его зовут не Иваном, а Парамоном; на пытке объявил, что про царя слышал, как читали в прологе в церквах, о патриархе сказал с проста ума, дьявол научил. Сжен огнем и с огня говорил прежние речи; приговорен к кнуту и ссылке в Азов на каторги.
Мы видели, что при царе Михаиле табак был запрещен, а в начале царствования Алексея был в употреблении и продавался от казны; но табак, испытавший повсюду такое сильное сопротивление при своем введении, испытал его ив России: ревнители отеческих преданий опять вооружились против проклятой неизвестно кем травы и вынудили у правительства самые строгие против нее меры. Петр еще до поездки за границу позволил продажу табаку; сбор пошлин с этой продажи был отдан торговому человеку гостиной сотни Мартыну Орленку; а потом, будучи в Англии, царь предоставил право исключительной торговли табаком в России маркизу Кармартену за 20000 фунтов стерлингов (48000 рублей) с уплатою всей суммы вперед. Это позволение употреблять табак, разумеется, усилило негодование ревнителей отеческих преданий. «Какой то ныне государь, что пустил такую проклятую табаку в мир. – говорили они, – нынешние попы волки и церкви божией обругатели, а антидор против нынешней табаки, потому что попы и иных чинов люди табак пьют и принимают антидор».
Усиливалась борьба, раздражение с обеих сторон, усиливались выражения неудовольствия на царя и его дела, усиливались доносы и розыски в Преображенском. Но, кроме того. нашлись люди, которые хотели воспользоваться обстоятельствами, и начали являться ложные доносы. Монахи, напившись, поехали ночью по Москве, крича встречным: «Дай дорогу, убьем!» Навстречу попался царь, который не обратил на них никакого внимания, сказавши: «Это пьяные». Но через несколько времени явился донос, что монахи хотели убить государя: донос шел от монахов же. Нельзя стало строгому игумену смирить безнравственно живущего монаха: сейчас донос на игумена в непристойных словах или замыслах. Ложных доносчиков наказывали жестоко, но это мало помогало.
Дело Авдотьи Нелидовой служит лучшим доказательством, как изобретательны были люди, решавшиеся для собственного спасения тянуть других в Преображенское.
В мае 1698 года стольник Петр Волынский бил челом, чтоб взять к розыску и наказать дворовую жены его Авдотью Нелидову, обвиненную в порче. Авдотья в застенке сказала за собою великого государя слово: «До азовского похода, о святой неделе и после, к жене Волынского Авдотье Федоровне, когда она еще была вдовою после князя Ив. Никитича Засекина, приезжала в дом с Верху комнатная девка Жукова да с нею. приезжал певчий Василий Иванов; присылала Анну из Девичья монастыря царевна Софья Алексеевна говорить вдове Авдотье: „О чем тебе царевна прежде приказывала сходить в Преображенское – ходила ли ты или нет?“ – и Авдотья Анне сказала: „Была я в Преображенском и вынула землю из-под следа государева и эту землю отдала для составу крестьянской женке Федора Петровича Салтыкова Фионе Семеновой, чтоб сделала отраву у себя в доме, чем известь государя насмерть“. Спустя дня с три приехала опять Жукова и спрашивала Авдотью: куда ты дела отравное зелье. Та отвечала: „Ходила я в Марьину рощу с этим составом и не улучила времени, чтоб вылить его из кун шина в ступню государеву“. Состав этот Авдотья Нелидовой показывала: красен, точно кровь, причем говорила: если б мне удалось вылить его в ступню, то государь не жил бы и трех часов. Она же, вдова Авдотья, была в гостях у дьяка Лукина и, возвратясь, говорила Нелидовой: „Не знала я, что государь будет у дьяка, а если б знала, то взяла бы зелье с собою“. Нелидова стала ей говорить: „За что ты на великого государя такое злое дело помышляешь?“, и когда приехали ко вдове братья Воейковой, также родной брат ее Василий Головленков, то Нелидова всем им троим рассказала про замыслы боярыни, и Головленков после того не ездил недель с 30 к сестре. Боярыня рассердилась на Нелидову и сослала ее в Ряскую вотчину, приказав утопить в реке.
Из Амстердама дали знать о приближении русского посольства, и Петр поехал туда, прожив в Сардаме 8 дней. 16 августа Лефорт с товарищами торжественно въехал в Амстердам. Прием был великолепный; Петр участвовал в празднествах, которые давали посольству Генеральные Штаты, зная о присутствии самого царя. В Амстердаме знакомее всех других имен Петру было имя бургомистра Николая Витзена. Еще при царе Алексее Михайловиче Витзен был в России, проехал и до Каспийского моря, был известен как автор знаменитого сочинения «Татария восточная и южная», как издатель Избрандидесова путешествия в Китай. Витзен сохранял постоянную связь с Россиею; его издания были посвящены царям, он исполнял поручения русского правительства по заказу судов Голландии, находился в переписке с Лефортом. К Витзену обратился Петр с просьбою доставить ему возможность заняться кораблестроением в амстердамских верфях, и Витзен поместил его на верфи Ост-Индской компании, где нарочно для него заложен был фрегат. Получив об этом известие, Петр ночью поехал в Сардам, забрал там свои плотничьи инструменты и к утру возвратился в Амстердам, чтоб немедленно же приняться за работу; волонтеры, приехавшие с посольством, были также размещены по работам. Петр откликался, только когда ему кричали «плотник Петр сардамский!» или «мастер Петр!», но когда обращались к нему со словами «ваше величество!» или «милостивый государь!» – поворачивался спиною. Но не одним кораблестроением занимался Петр в Голландии: он ездил с Витзеном и Лефортом в Утрехт для свидания со знаменитым штатгалтером голландским и королем английским Вильгельмом Оранским. Витзен должен был водить его всюду, все показывать – китовый флот, госпитали, воспитательные дома, фабрики, мастерские; особенно понравилось ему в анатомическом кабинете профессора Рюйша; он познакомился с профессором, слушал его лекции, ходил с ним в госпиталь. В кабинете Рюйша он так увлекся, что поцеловал отлично приготовленный труп ребенка, который улыбался как живой. В Лейдене в анатомическом театре знаменитого Боергава, заметив отвращение своих русских спутников к трупам, заставил их зубами разрывать мускулы трупа. Разумеется, Петр должен был наблюдать большую экономию во времени: так, во время поездки в Лейден на яхте часа два занимался с натуралистом Леувенгоком, который показывал ему свои лучшие аппараты и микроскоп. Ненасытимая жадность все видеть и знать приводила в отчаяние голландских провожатых: никакие отговорки не помогали; только и слышалось: «Это я должен видеть!», и надобно было вести, несмотря ни на какие затруднения. И ночью он не давал им покоя; вдруг экипаж получит сильный толчок: «Стой! что это такое?» – надобно зажигать фонари и показывать. Гениальный царь был полным представителем народа, который так долго голодал без научной пищи и теперь вдруг дорвался до нее. Корабельный плотник занимался и гравированием. В Амстердаме оставшаяся после него гравюра изображает предмет, соответствующий положению Петра, его тогдашней главной думе: она представляет торжество христианской религии над мусульманскою в виде ангела, который с крестом и пальмою в руках попирает полулуние и турецкие бунчуки. Предмет гравюры объясняется и письмом Петра к патриарху Адриану в Москву: «Мы в Нидерландах, в городе Амстердаме, благодатию божиею и вашими молитвами, при добром состоянии живы и последуя божию слову, бывшему к праотцу Адаму, трудимся, что чиним не от нужды, но доброго ради приобретения морского пути, дабы, искусясь совершенно, могли, возвратясь, против врагов имени Иисуса Христа победителями, а христиан, тамо будущих, свободителями, благодатию его, быть. Чего до последнего издыхания желать не престану».
Кроме патриарха Петр постоянно переписывался и с другими правительственными лицами, которые извещали его о том, что делалось в России. Около Азова возводились укрепления: крепости Алексеевская и Петровская, Троицкая на Таганроге и подле нее Павловская; при Таганроге устраивалась гавань. Татары были отражены от Азова. На Днепре турки и татары были отбиты от занятых русскими крепостей – Казыкерменя и Тавани, в Польше окончательно утвердился королем Август; кумпанства усердно строили корабли, шведский король прислал 300 пушек для войны с неверными. Охотнее, чем с другими, переписывался Петр с Виниусом, как с человеком более других образованным и неутомимым в своей деятельности. Виниус в своих письмах постоянно требовал присылки оружейных мастеров, потому что железо есть доброе, а мастеров нет: «Наипаче болит сердце, что иноземцы, высокою ценою продав свойское железо и побрав деньги, за рубеж поехали, а наше сибирское многим свейского лучше». Никто больше Петра не мог сочувствовать этой сердечной боли Виниуса. Он отвечал ему: «Пишешь, ваша милость, о мастерах: из тех мастеров, которые делают ружья и замки зело доброе, сыскали и пошлем, не мешкав; а ради поспешения из тех же мест, где Бутманна олонецкие заводы сыскал, добыть возможно. Однако же мы здесь сыщем таких, за что взялся бургомистр Витзен, только, мню, не вскоре». Известия о мастерах перемешивались с известиями политическими: «Что пишешь о мастерах железных, что в том деле бургомистр Витзен может радение показать и сыскать, о чем я ему непрестанно говорю, а он только манит день за день, а прямой отповеди по ся поры не скажет; и если ныне он не промыслит, то надеюсь у короля польского чрез его посла добыть не только железных, но и медных. Мир с французом учинен, и здесь дураки зело рады, а умные не рады, для того, что француз обманул, и чают вскоре опять войны». В другом письме Петр опять пишет о Витзене: «О железных мастерах многажды говорил Витзену: только он от меня отходил московским часом». Между делом Виниус доносил и о пирах оставленных в Москве членов компании: «В царские имянины князь Федор Юрьевич Ромодановский великую нам трапезу и богатую даровал в столовой генеральской в Преображенском: сидели за разными столами больше ста человек, и с таким усердием и милостию нас трактовал, и стрельба мелкая и крупная так была сильна, что едва столовая устояла и стена одна гораздо повыдалась; даже до 4 и до 5 часа ночи, что в три дни каждый насилу мог оправиться». Описывая другой пир, Виниус пишет: «Ивашко с дядею своим (Бахусом) из своих великих мокрых сребреных и цкляных можеров в желудки бросали». Ивашку не забывали и в Голландии: извиняясь, что не ко всем отправил письма, Петр писал Виниусу: «Иное за недосугом, а иное за отлучкою, а иное за хмельницким не исправишь».
Четыре месяца с половиною жил Петр в Голландии: фрегат, заложенный им, был спущен. На Ост-Индской верфи, вдав себя с прочими волонтерами в научение корабельной архитектуры, государь в краткое время совершился в том, что подобало доброму плотнику знать, и своими трудами и мастерством новый корабль построил и на воду спустил. Потом просил той верфи баса (мастера) Яна Поля, дабы учил его препорции корабельной, который ему чрез четыре дня показал. Но понеже в Голландии нет на сие мастерство совершенства геометрическим образом, но точию некоторые принципии, прочее же с долговременной практики, о чем и вышереченный бас сказал и что всего на чертеже показать не умеет, тогда зело ему стало противно, что такой дальний путь для сего восприял, а желаемого конца не достиг. И по нескольких днях прилучилось быть его величеству на загородном дворе купца Яна Тесинга в компании, где сидел гораздо не весел ради вышеописанной причины; но когда между разговоров спрошен был: для чего так печален? тогда оную причину объявил. В той компании был один англичанин, который, слыша сие, сказал, что у них в Англии сия архитектура так в совершенстве, как и другие, и что кратким временем научиться можно. Сие слово его величество зело обрадовало, по которому немедленно в Англию поехал и там, чрез 4 месяца, оную науку окончил.
В январе 1698 года Петр переехал из Голландии в Англию и скоро из Лондона перебрался в городок Дептфорд, где на королевской верфи занимался окончанием науки. Здесь он приговорил до 60 человек иностранцев, мастеров золотых дел, в то же время послы в Голландии приговорили более 100 человек, для флота много нанял принятый в Голландии в русскую службу капитан Корнелий Крейс: он был принят прямо вице-адмиралом.
Проведя три месяца в Англии, Петр переехал в Голландию, но не остановился здесь, а направил путь на юго-восток – в Вену. Переговоры посольства с Генеральными Штатами насчет помощи царю в войне с турками не удались: Штаты под тем предлогом, что страна их истощена французскою войною, отказались ссудить царя мореходцами, оружием, снарядами, и скоро Петр узнал, что Штаты вместе с английским королем хлопочут о посредничестве к заключению мира между Австриею и Турциею. Этот мир был необходим для Голландии и Англии, чтоб дать императору возможность свободно действовать против Франции: предстояла страшная война за наследство испанского престола, т. е. для сокрушения опасного для всей Европы могущества Франции. Но во сколько для Англии и Голландии было выгодно заключение мира между Австриею и Турциею, во столько же им было выгодно продолжение войны между Россиею и Турциею, чтоб последняя была занята и не могла, по наущению Франции, снова отвлечь силы Австрии от войны за общеевропейские интересы. Но эти интересы находились в противоположности с интересами России: Петр трудился изо всех сил, чтобы окончить с успехом войну с Турциею, приобрести выгодный мир; но мог ли он надеяться с успехом вести войну и окончить ее один, без Австрии и Венеции? Следовательно, главною заботою Петра теперь было – или уговорить императора к продолжению войны с турками, или по крайней мере настоять, чтоб мирные переговоры были ведены сообща и все союзники были одинаково удовлетворены.
16 июня посольство въехало торжественно в Вену: царь, по обыкновению, опередил его и приехал просто на почтовых. Он спешил приступить к делу и в разговоре с канцлером, графом Кинским, объявил, что недоволен решением императора заключить мир на основании uti possidetis (да владеет каждый тем, чем владеет во время мирных переговоров), объявил, что для России необходимо обеспечить себя со стороны Крыма, овладеть здесь хорошею крепостию; Россия для императора разорвала мир с турками; надобно, чтоб все союзники получили желаемые ими выгоды; англичан и голландцев слушать нечего: они заботятся только о своих барышах; император спешит помириться с турками для войны с французами за испанское наследство и покидает своих союзников: но как скоро начнется французская война, султан немедленно поднимется на императора; войска выйдут из Венгрии для французской войны, и венгры забунтуют. Царь требовал кроме удержания всех своих завоеваний еще крепости Керчи в Крыму, без которой никакой пользы ему от мира не будет: татары по-прежнему будут нападать на Россию. Петр не досказал: с Азовом и Таганрогом без Керчи он был заперт в Азовском море. Если турки не согласятся на уступку Керчи России, то союзники должны продолжать войну Император отвечал, что требования царя справедливы, но чтоб заставить турок исполнить их, лучше всего, если русские поспешат взять Керчь оружием, обещал поддерживать на конгрессе требования русских уполномоченных и не приступать ни к чему без согласия с царем.
Переговоры этим должны были прекратиться; Петр, осмотрев все замечательное в Вене, съездив в местечко Баден и в Пресбург, собрался уже в Венецию, как почта привезла письма из Москвы: Ромодановский писал, что стрельцы взбунтовались и идут к Москве. Вместо Венеции Петр отправился в Россию.
Мы видели, что в 1689 году очень немногие из стрельцов участвовали в замыслах Софьи и Шакловитого, большинство сначала отстранялось от вмешательства в ссору между братом и сестрою а потом явно приняло сторону Петра, принудив Софью исполнить его требование – выдать Шакловитого. По-видимому, такое поведение должно было совершенно примирить новое правительство со стрельцами; но вышло напротив. Еще прежде 1689 года образовались потешные полки, которые вместе со старыми солдатами ста ли в противоположность стрельцам; привыкли смотреть так, что потешные – войско Петра, стрельцы – войско Софьи. Помирить потешных и вождей их со стрельцами нельзя было не по одним этим отношениям: потешные были представителями нового, имеющего жить, стрельцы – представители отжившей старины. Новое получило торжество в торжестве Петра над Софьею, стрельцам предстояло перестать быть стрельцами, превратиться в солдат; эта перемена была для них страшно тяжела, они не согласятся на нее добровольно, прежде попытаются, нельзя ли удержаться в прежнем положении, удержать старину. При таком положении дел в причинах к раздражению не могло быть недостатка. Вспомним потехи: дерутся два войска: русское войско, на стороне которого сам царь, – это потешные солдаты; войско враждебное, которым предводительствует польский король, – это стрельцы; они побеждаются, и этим выказывается их несостоятельность пред новым войском. Унижение и раздражение сильные. Причины к раздражению были и на стороне противной: мы не имеем никакого права отвергнуть известие, что стрельцы подкопались под Девичий монастырь, проломали пол в покоях царевны Софьи и вывели было ее подземным ходом, по после сильной схватки со сторожившими монастырь солдатами были переловлены и казнены. Как близкие к царю люди смотрели на стрельцов, на их отношения к правительству, всего лучше видно из приведенного выше письма Виниуса к Петру, что по получении благоприятных известий из-под Азова даже и в стрелецких слободах радовались. Азовские походы были очень тяжелы для стрельцов: два года сряду они должны были ходить так далеко, покидать семейства и выгодные промыслы в Москве; царь был ими недоволен, делал выговоры. Кто же виноват? Разумеется, иностранцы, и больше всех самый близкий из них к царю – Лефорт, и между стрельцами сильное раздражение против Лефорта. Обстоятельства становились все хуже и хуже для стрельцов. По взятии Азова их задержали там для охраны города, потом заставили работать над его укреплениями. Люди, недовольные царем, желающие избавиться каким бы то ни было средством, обращаются к стрельцам, как более других недовольным, обреченным на погибель. «Что они спят? – говорит Соковнин, – им бы можно было убить государя, все равно им пропадать же». Легко понять чувства людей, которым все равно пропадать же, и легко понять отношения Петра и его приверженцев к людям недовольным, раздраженным, в которых враги видят верное, готовое орудие: Цыклер обращается к стрельцам, а Петру все живее и живее представляется 15 мая 1682 года и стрелецкие копья, обагренные кровью Матвеева и Нарышкиных; все враждебное связано для него со стрельцами и все враждебное и стрелецкое относится, как к своему началу, к замыслу Ивана Милославского, все враждебное и стрелецкое есть в его глазах семя Милославского: этот взгляд уже высказался в страшном зрелище казни Цыклера с товарищами, когда кровь их стекала в гроб Милославского; тут же высказалось и сильное ожесточение, высказалось, как впечатление отрочества оживлялось и укоренялось при каждом удобном случае.
А стрельцов в Азове мучила тоска по Москве, по привольной, спокойной, семейной жизни в столице. Была еще надежда, что азовская служба скоро кончится и последует перевод в Москву; но вдруг указ – передвинуть четыре стрелецких полка – Чубарова, Колзакова, Черного и Гундертмарка из Азова к литовской границе, в войско князя Михайлы Григорьевича Ромодановского, который с полками дворянскими, рейтарскими и солдатскими стоял в ожидании, как разыграется борьба саксонской и французской партии в Польше. Стрельцы пришли из Азова в Великие Луки. Им на смену в Азов отправлены другие шесть полков стрелецких, остальные размещены по юго-западной границе; Москва очищена от стрельцов, там одни солдаты. Всего тягостнее четырем полкам стрелецким, которые вместо возвращения в Москву должны были пропутешествовать из Азова в Великие Луки. Многие из стрельцов решились во что бы то ни стало побывать в Москве! В марте месяце больше полутораста человек убежали из полков и явились в Москве в челобитчиках; на спрос правительства, зачем ушли из полков, отвечали что «их братья стрельцы с службы от бескормицы идут многие». Им назначили срок – 3 апреля, к которому они должны оставить Москву, причем велено им выдавать из Стрелецкого приказа кормовые месячные деньги сполна. Но беглецы узнали в Москве любопытные вещи.
Русские люди переживали небывалое время, и многим представлялся вопрос: не последнее ли это время? Царь явно сложился с немцами и уехал к ним за границу. Что там с ним делается неизвестно; правят бояре; а тут повсюду идут толки о старой и но вой вере; сойдутся где-нибудь двое, станут разговаривать о божестве, и первый вопрос: как ты в перстном сложении крестное знамение на себе воображаешь? Беглые стрельцы встретили на Ивановской площади своих знакомых, стрельцов же, которые сидели в площадных подьячих; завязались разговоры; первое слово: «Государь наш залетел на чужую сторону!» Государь-то на чужой стороне, а что без него в Москве делается! Подьячие рассказали, что бояре хотят царевича удушить, хочет удушить боярин Тихон Никитич Стрешнев и сам на Москве властителем быть. «А вам уже на Москве не бывать!» – говорили подьячие стрельцам.
Легко понять, с каким чувством слушали стрельцы последние слова. Надобно как-нибудь промыслить, чтоб быть в Москве, а тут еще и приглашение. Бывшая правительница, царевна Софья, живет в заточении в Девичьем монастыре; сестры ее от Милославской на свободе во дворце, но и всем им тяжело после 1689 года; вместе с Софьею и они правительствовали; понадобятся деньги – пошлют в любой приказ и возьмут сколько хотят; а теперь уже не то, теперь они царевны опальные, беззаступные. У них, разумеется, сильное желание, чтоб дела переменились – хотя бы стрельцы опять помогли! У них средоточие всех сплетен, всех неблагоприятных для правительства слухов, между ними и Девичьим монастырем тайные пересылки, недовольные стрельчихи тут служат службы недовольным царевнам. Стрельцы, прибежавшие в Москву, не могли не обратиться к царевнам, которые на Верху одни могли принять в них участие, не могли не выражать желания видеть опять царевну Софью в державстве; хотя царевен и заперли на Верху на это смутное время, однако стрельцы нашли средство войти с ними в сношения; двое из беглых стрельцов, Проскуряков и Тума, составили челобитную о стрелецких нуждах и отдали вхожей в Верх стрельчихе, чтоб передала которой-нибудь царевне. Деятельнее других была царевна Марфа, и к ней пошла стрелецкая челобитная, ее же постельница отдала грамотку стрельчихе, чтоб та передала ее Туме. Марфа говорила постельнице о грамотке: «Смотри, я тебе верю; а если пронесется, то тебя распытают а мне, кроме монастыря, ничего не будет». Той же постельнице Марфа велела сказать стрельчихе: «У нас на Верху позамялось: хотели было бояре царевича удушить; хорошо, если б и стрельцы подошли». С Верху же шли слухи: «Бояре хотели было царевича удушить, но его подменили и платье его на другого надели; царица узнала, что не царевич; а царевича сыскали в другой комнате, и бояре царицу по щекам били; а государь неведомо жив, неведомо мертв, и по стрельцов указ послан». На Арбате, у ограды церкви Николы Явленного, стояла толпа стрельцов, и один из них, Василий Тума, читал грамоту – из Девичья монастыря, от царевны Софьи Алексеевны, зовет все четыре полка, чтоб шли к Москве, становились табором под Девичьим монастырем и подавали ей, царевне, челобитье, чтоб шла по-прежнему на державство.
Если все должны приходить к Москве, то зачем же уходить из нее челобитчикам? В срочный день, 3 апреля, толпа стрельцов пришла к дому начальника Стрелецкого приказа, князя Ив. Бор. Троекурова, и просила, чтоб боярин выслушал их. Троекуров велел им выбрать четверых лучших людей для разговора с ним. Выборные явились и начали говорить, что они на службу до просухи не идут, били челом об отсрочке, представляли свою нужду, что доведены до крайнего упадка. Боярин прервал их и велел сейчас же идти на службу. Выборные отвечали, что не пойдут; тогда Троекуров велел их схватить и посадить в тюрьму; но на дороге товарищи отбили их. Весть об этом навела страх на бояр, помнивших хорошо стрелецкий бунт; притом же в апреле 1697 года и между солдатами Лефортова полка шла речь, чтоб подать челобитную царевне в Девичьем монастыре о даче им сухарей, потому что какой-то солдат рассказывал: стоял он на карауле в Верху, выходила государыня и говорила: что-де вы голы? берете по 30 алтын на месяц, только на вас, что красные кафтаны. И солдат ей говорил, что берут по алтыну на день, а сходится по 4 деньги на день, вывороты (вычеты) большие. Беспокойство бояр увеличивалось еще тем, что давно уже не было вестей из-за границы от царя. Против стрельцов надобно было приготовить другую вооруженную силу, солдат, и князь Ромодановский послал за генералом Гордоном, рассказал ему, в чем дело. Гордону показалось, что князь преувеличивает опасность, и он заметил ему, что дело неважное: стрельцы слабы и предводителя у них нет. От Ромодановского Гордон отправился на Бутырки, где жили его солдаты, чтоб приготовиться на всякий случай, и был успокоен тем, что все солдаты были налицо в слободе, кроме занимавших караулы в разных местах. На другой день стрельцы по-прежнему оставались в Москве, но спокойно, побушевали только двое пьяных в Стрелецком приказе. Между тем на Верху сидели бояре, советовались, как быть. Решили выслать отряд солдат и выбить стрельцов – силою из Москвы. Вечером сотня семеновцев при помощи посадских выбили незваных гостей за заставу, буянили только двое: одного прибили так, что скоро умер, другого вместе с буянившими прежде в Приказе сослали в Сибирь.
В письме от 8 апреля Ромодановский дал знать Петру о приход беглых стрельцов и о том, что они выпровожены солдатами. Петр получил письмо в Амстердаме, сбираясь в Вену, и отвечал: «Письмо ваше государское я принял и, выразумев, благодарствую и впредь прошу, дабы не был оставлен. В том же письме объявлен бунт от стрельцов, и что вашим правительством и службою солдат усмирен. Зело радуемся; только зело мне печально и досадно на тебя, для чего ты сего дела в розыск не вступил, бог тебя судит Не так было говорено на загороднем дворе в сенях. Для чего и Автамона (Головина, командира Преображенского полка) взял, что не для этого? А буде думаете, что мы пропали, для того, что почты задержались, и для того, боясь, и в дело не вступаешь: воистину скоряе бы почты весть была; только, слава богу, ни один не умер: все живы. Я не знаю, откуда на вас такой страх бабий! Мало ль живет, что почты пропадают? А се в ту пору была и половодь. Неколи ничего ожидать с такою трусостью! Пожалуй, не осердись: воистину от болезни сердца писал». Чрез несколько дней Петр написал к Виниусу с упреком за опасения по поводу неприхода почт: «Зело дивлюсь и суду божию предаю тебя, что ты так сумненно пишешь о замедлении почт, а сам в конец известен сим странам. Не диво, кто не бывал. Я, было, надеялся, что ты станешь всем рассуждать бывалостью своею и от мнения отводить; а ты сам предводитель им в яму. Потому все думают, что коли-де кто бывал, так боится того, то уже конечно так. Воистину не от радости пишу». Виниус спешил просить прощения, и царь отвечал ему: «Господь бог да оставит всем нам наши долги, милосердия своего ради. А что я так к вам писал, о том сам рассудишь, каково мне то дело».
Дело было действительно важное. Стрельцов выгнали из Москвы, и они понесли в Торопец, где стояли теперь их полки с Ромодановским, разные вести и призыв из Девичьего монастыря. На дороге нагнала их стрельчиха и отдала новую грамотку от царевны Софьи: «Теперь вам худо, а впредь будет еще хуже. Ступайте к Москве, чего вы стали? Про государя ничего не слышно». В доказательство, что вперед стрельцам будет еще хуже, пришел указ из Москвы от 28 мая: Ромодановский должен был распустить по домам своих полчан, пеших и конных, сам приехать в Москву, а стрельцы должны были оставаться до указа в городах Вязьме, Белой, Ржеве Володимировой и Дорогобуже; бегавших в Москву стрельцов, всего 155 человек, велено было сослать в малороссийские города – Чернигов, Переяславль, Новобогородицкой на вечное житье с женами и детьми, а пятидесятникам, десятникам и стрельцам, которые со службы не сходили, за их верную службу и за то, что ворам не потакали и подали на них заручные челобитные, сказать государево милостивое слово. Значит, правду говорили подьячие на Ивановской площади: стрельцам Москвы не видать! Когда этот указ, присланный от царского имени, был объявлен, то полковники Чубаров, Черный и Тихон Гундертмарк представили Ромодановскому беглых стрельцов из своих полков, человек с 50, и Ромодановский велел отвести их в город (крепость) и сдать торопецким воеводам; но есаулы, провожавшие беглых, встретили на дороге толпы стрельцов, которые отбили товарищей, гонялись за есаулами и бросали палками. Ромодановский отправил было против них новгородских стрельцов, но те по малолюдству не могли сладить с мятежниками. Тогда Ромодановский по просьбе полковников послал вычитать подлинный указ на съезжих дворах по полкам порознь, а к разрядному шатру для сказки указа московских стрельцов призывать не велел за такою их воровскою шатостию, опасаясь от них всякого дурна. В полках Чубарова и Колзакова стрельцы грамоту слушали, и Колзакова полка стрельцы били челом на милости и сказали, что за воров, если они явятся, стоять не станут; а чубаровские стрельцы сказали, что у них воров нет, а которые из них ходили в Москву, те ходили от голода. Колзаков из своего полка привел воров 15 человек к разрядному шатру, а оттуда повел в Торопец и отдал воеводе; но стрельцы, собравшись, отняли их у воеводы отбоем, а за полковником Колзаковым гонялись и палками за ним вслед бросали, и ушел он от них, покинув лошадь, за реку Торопу, по мостовинам. А стрельцы полков Черного и Гундертмарка слушать царской грамоты к съезжим избам не пошли и по улицам, близ разрядного шатра и двора, где стоял Ромодановский, начали ломать изгороди и с кольем, собравшись многолюдством, стояли великими толпами. Ромодановский, испугавшись, с конными дворянскими полками выступил из города в поле и стал в ополчении по московской дороге; Чубаров, Гундертмарк и Колзаков были с ним; князь велел им ехать в свои полки и выводить их порознь из слобод в поле и идти в указные города. Полк Чубарова выступил и пошел сквозь конные роты и полки. Ромодановский, подъехавши к нему, велел остановиться и стал уговаривать, чтоб выдали бегавших в Москву. Стрельцы отвечали, что за беглых не стоят, только взять их и выдать мочи нет. Ромодановский сказал им на это: «Беглецов малое число, а вас 500 человек с лишком!» Стрельцы пошли в полк; прошел час времени – никакого движения. Ромодановский посылает сказать им, чтоб не медлили выдачею; прежний ответ: «Мочи нашей нет!» Вслед за этим полк пошел, а беглые отстали и повернули к Торопцу; Ромодановский послал копейщиков и рейтар ловить их, те стали ловить, но тут выступает полк Гундертмарка, и воры скрылись в него, пробравшись болотными местами и кустарниками. Полковник и начальные люди кричали, чтоб воров в полк не пускать; но рядовые стрельцы не послушались и хотели биться с конницею, ловившею воров; они кричали: «У нас в полках воров нет, а ходили в Москву от нужды и бескормицы!» Все стрельцы пошли в указные города, и Ромодановский отослал им жалованье на два месяца, чтоб не было никакого предлога к продолжению смуты.
Но стрельцам нужно было не одно жалованье, им нужна была Москва, в которую их не пускали; притом же дело было уже начато: царскому указу учинились ослушны, бегунов не выдали; семь бед – один ответ! Разумеется, бегуны, по инстинкту самосохранения, должны были изо всех сил бунтовать остальных. Стрельцы шли медленно, нехотя, делали верст по пяти в день, и 6 июня, на берегу Двины, бунт вспыхнул. На телеге, перед четырьмя полками, стоял стрелец Маслов и читал призывное письмо от царевны Софьи: «Вестно мне учинилось, что ваших полков стрельцов приходило к Москве малое число: и вам бы быть в Москве всем четырем полкам и стать под Девичьим монастырем табором, и бить челом мне идтить к Москве против прежнего на державство; а если бы солдаты, кои стоят у монастыря, к Москве пускать не стали, и с ними бы управиться, их побить и к Москве быть; а кто б не стал пускать с людьми своими или с солдаты, и вам бы чинить с ними бой».
Толпы зашумели: «Идти к Москве! Немецкую слободу разорить и немцев побить за то, что от них православие закоснело; бояр побить, а им, стрельцам, жить в домах своих. Послать ив иные полки, чтоб и те полки шли к Москве для того, что стрельцы от бояр и от иноземцев погибают и Москвы не знают, непременно идти к Москве, хотя б умереть, а один предел учинить. И к донским козакам ведомость послать. Если царевна в правительство не вступится и по коих мест возмужает царевич, можно взять и князя Василья Голицына: он к стрельцам и в крымских походах и на Москве милосерд был, а по коих мест государь здравствует, и нам Москвы не видать; государя в Москву не пустить и убить за то, что почал веровать в немцев, сложился с немцами. Все царевны стрельцов к Москве желают; царевна Софья торопецким козакам дала денег по полтине, чтоб шли к Москве». Собрались круги, отставили прежних полковников и капитанов, а на их место выбрали новых и пошли к Москве.
Но в Москве солдаты, и потому у стрельцов дорогою такая речь была, чтоб им побывать на Бутырках, проведать у солдат, что у них делается? Стрелец Пузан отправился на Бутырки к знакомым солдатам Салениковым, и с одним из них виделся; но тот ему отказал: «Нам об вас заказ крепкий, и с вами нейдем, дела до вас нам нет, и вы как хотите». У стрельцов была и другая речь: с солдатами не биться, по малолюдству (всего 2200 человек), а обойти Москву и засесть в Серпухове или Туле и писать в Белгород, Азов, Севск и другие города к тамошним стрельцам, чтоб шли к ним немедленно; всем вместе идти к Москве и бить бояр. Страх напал на жителей Москвы, когда узнали о приближении стрельцов. Зажиточные люди начали со всем имением разъезжаться в дальние деревни. Между боярами начались споры о мерах; наконец мнение князя Бориса Алексеевича Голицына восторжествовало, и положено было выслать против мятежников боярина Шеина с генералами Гордоном и князем Кольцовым-Масальским; войска у них было около 4000 и 25 пушек. 17 июня царское войско встретило стрельцов под Воскресенским монастырем при переправе через реку Истру. Стрельцы прислали к Шеину письмо, в котором жаловались, что в Азове терпели всякую нужду, зимою и летом трудились над городовыми крепостями, потом из Азова перешли в полк к князю Ромодановскому, голод, холод и всякую нужду терпели: человек по полтораста их стояло на одном дворе, месячных кормовых денег не ставало и на две недели; тех, которые ходили по миру, били батогами. Из Торопца Ромодановский велел вывесть их на разные дороги по полку, отобрать ружье, знамена и всякую полковую казну и велел коннице, обступя их вокруг, рубить. Испугавшись этого, они не пошли в указные места, идут к Москве, чтоб напрасно не умереть, а не для бунту; пусть дадут им хотя немножко повидаться с женами и детьми, а там, как представится случай, и они опять рады идти на службу.
Шеин отправил Гордона в стаи к стрельцам объявить, что если они возвратятся в указные места и выдадут бегавших в Москву, также заводчиков настоящего бунта, то государь простит их и жалованье будет им выдано в указных местах по тамошним ценам. Гордон понапрасну истощал всю свою реторику, как сам выражается, уговаривая стрельцов: они отвечали, что или помрут, или будут на Москве, хотя бы на малое время, а там пойдут всюду, куда великий государь укажет; на дальнейшую реторику Гордона отвечали, что зажмут ему рот. Иноземцу не удалось, Шеин отправил русского князя Кольцова-Масальского уговаривать стрельцов; к нему вышел один из заводчиков, десятник Зорин, с черновою, неоконченною челобитною, в которой говорилось: «Бьют челом многоскорбне и великими слезами московские стрелецкие полки: служили они и прежде их прародители и деды и отцы их великим государям во всякой обыкновенной христианской вере; и обещались до кончины жизни их благочестие хранити, якоже содержит св. апостольская церковь. И в 190 году стремление бесчинства, радея о благочестии, удержали, и по их, великих государей, указу в пременении того времени их изменниками и бунтовщиками звать не велено, и по обещанию, как целовали крест, о благочестии непременно служат. И в 203 г. сказано им служить в городах погодно; а в том же году, будучи под Азовом, умышлением еретика, иноземца Францка Лефорта, чтобы благочестию великое препятие учинить, чин их московских стрельцов подвел он, Францко, под стену безвременно, и ставя в самых нужных в крови местах, побито их множество; его ж умышлением делан подкоп под их шанцы, и тем подкопом он их же побил человек с 300 и больше; его же умыслом на приступе под Азовом посулено по 10 рублев рядовому, а кто послужит, тому повышение чести: и на том приступе, с которою сторону они были, побито премножество лучших; а что они, радея ему, великому государю, и всему христианству, Азов говорили взять привалом, и то он оставил; он же, не хотя наследия христианского видеть, самых последних из них удержал под Азовом октября до 3 числа; а из Черкасского 14 числа пошел степью, чтоб их и до конца всех погубить, и идучи, ели мертвечину, и премножество их пропало. И в 206 году Азов привалом взяли и оставлены город строить, и работали денно и нощно во весь год пресовершенною трудностию. И из Азова сказано им идти к Москве: и по вестям были они в Змиеве, в Изюме, в Цареве Борисове, на Мояке, в самой последней скудости; и из тех мест велено им идти в полк к боярину и воеводе к князю М. Г. Ромодановскому в Пустую Ржеву на зимовье, не займуя Москвы; и они, радея ему, великому государю, в тот полк шли денно и нощно, в самую последнюю нужду осенним путем, и пришли чуть живы; и, будучи на польском рубеже, в зимнее время, в лесу, в самых нужных местах, мразом и всякими нуждами утеснены, служили, надеясь на его, великого государя, милость. И по указу велено все полки новгородского разряду распустить; а боярин и воевода Ромодановский, выведчи их из Торопца по полкам, велел рубить, а за что, не ведают. Они же, слыша, что в Москве чинится великое страхование и от того город затворяют рано, а отворяют часу в другом дня или в третьем, и всему народу чинится наглость: им слышно же, что идут к Москве немцы, и то знатно последуя брадобритию и табаку во всесовершенное благочестия испровержение».
Зорин требовал, чтоб челобитная была прочтена перед всем царским войском. Разумеется, это требование не было исполнено, и Шеин мог ясно видеть из челобитной, куда заходит дело, когда, с одной стороны, было выставлено православие, а с другой – еретик Францко Лефорт; под скромным именем челобитной это была злая выходка против царя, прикрытая выходкою против его любимца. Шеин мог ясно видеть, что переговоры, увещания усилили только дерзость стрельцов, тогда как успех против них не мог быть сомнителен: это была нестройная толпа, не имевшая предводителя, при недостаточной артиллерии. Начали приготовляться к битве; в обеих ратях служили молебны; стрельцы исповедались и дали клятву помереть друг за друга безо всякой измены. В последний раз послано им сказать, чтоб положили оружие и в винах своих добили челом государю, в противном случае начнется стрельба из пушек; стрельцы отвечали: «Мы того не боимся, видали мы пушки и не такие!» Но Шеин и тут шел постепенно: увидавши неуспешность переговоров, увещаний и угроз на словах, он попробовал постращать посильнее, велел выстрелить, но так, что ядра перелетели через головы стрельцов. Это еще более их ободрило: они стали распускать знамена, бросать вверх шапки и готовиться к бою. Но другой залп – и стрельцы замялись, несмотря на то что некоторые кричали: «Пойдем против большого полка грудью напролом, и хотя б умереть, а быть на Москве!» Еще два залпа – и немного их осталось в обозе, который немедленно был занят царскими войсками. Битва продолжалась не более часу. В царском войске было ранено только 4 человека, один смертельно; у стрельцов убито 15 человек и ранено, большею частию смертельно, 37. Разбежавшиеся из обоза были переловлены; Шеин «разбирал и смотрел у них, кто воры и кто добрые люди, и которые в Москве бунт заводили? И после того были розыски великие и пытки им, стрельцам, жестокие и по тем розыскам многие казнены и повешены по дороге; остальных разослали в тюрьмы и монастыри под стражу». С пытки винились в том, что было сделано в Торопце и по выходе из него на Двине: но никто не сказал о письме от царевны.
Получив от Ромодановского – короля известие о бунте стрельцов и движении их к Москве, Петр отвечал ему: «Пишет, ваша милость, что семя Ивана Михайловича растет: в чем прошу вас быть крепким; а кроме сего ничем сеи огнь угасить не можно. Хотя зело нам жаль нынешнего полезного дела (поездки в Венецию), однако сей ради причины будем к вам так, как вы не чаете». Ромодановский пишет о возмущении стрельцов, а Петру представляется, что растет семя Милославского! Остальные слова, что «только крепостию можно угасить сеи огнь», уже показывают сильное раздражение, которое внушало убеждение в необходимости крайних мер для уничтожения зла. Привести в ужас противников, кровью залить сопротивление – эта мысль обыкновенно приходит в голову революционным деятелям, в разгаре борьбы, при сильном ожесточении от сопротивления, при опасении за будущность свою и за будущность проводимого начала. Зловещий ответ Ромодановскому обещал Москве террор.
На дороге из Вены в Россию Петр получил известия о прекращении бунта победою Шеина. Между прочим Виниус писал: «Ни един не ушел: по розыску пущие из них посланы в путь иной темной жизни с возвещением своей братьи таким же, которые, мню, и в ад посажены в особых местах для того, что, чаю, и сатана боится, чтоб в аде не учинили бунту и его самого не выгнали из его державы».
26 августа по Москве разнеслась весть, что накануне приехал царь; побывал кой-где, был у девицы Монс; не был во дворце, не видался с женою; вечер провел у Лефорта, ночевать уехал в Преображенское. В этот вечер или в эту ночь решено было дело, которое на другой день должно было изумить Москву и многих поразить ужасом.
Петр возвратился в Москву в сильном раздражении: семя Ивана Милославского, стрельцы, пошли опять ему наперекор; перед отъездом Соковнин, Цыклер, стрельцы; только что отдохнул за границею, занявшись любимыми делами, как опять стрельцы не дают продолжать путешествия. Но стрельцы – это только застрельщики, это только вооруженная сила, за которою стоит масса людей, противных преобразованию, противных всему тому, чем уже заявил Петр свою деятельность, с чем связал себя невозвратно, без чего не может существовать. Петр хорошо знал, как смотрели эти люди на его деятельность; он не откажется в угоду им от этой деятельности, напротив, он ее усилит и, следовательно, возбудит против себя еще большую ненависть, большее ожесточение; сознание этого ожесточения в других страшно ожесточает его самого; он готов к борьбе на жизнь и на смерть, он возбужден, он кипит, первый пойдет напролом, он бросится на знамя противников, вырвет и потопчет его: это знамя – борода, это знамя – старинное длинное платье.
Но мы не можем остановиться здесь на одних личных побуждениях Петра и выпустить из внимания общий ход народного дела. До Петра народ повернул к Западу, до Петра начал работать новому началу, и это должно было непременно высказаться в одежде и волосах. Удивляться нечего этому явлению, которое повторяется беспрерывно в глазах наших: человек прежде всего в своей наружности, в одежде и уборке волос старается выразить состояние своего духа, свои чувства, свои взгляды и стремления. Как только признано превосходство иностранца, обязанность учиться у него, так сейчас же является подражание, которое естественно и необходимо начинается со внешнего, с одежды, с убранства волос, а тут еще твердили, что в покрое платья выказывается разум народа: русское платье некрасиво и неудобно, за него иностранцы зовут нас варварами, особенно нерасчесанные волосы делают нас мерзкими, смешными, какими-то лесовиками. Уже при Борисе Годунове при первом движении к Западу начинается между русскими подражание иностранцам в наружности, начинается бритье бород, и тут же начинаются против этого сильные выходки хранителей старины. При царе Алексее Михайловиче с усилением движения к Западу усиливается и брадобритие: мы видели, как ревностный блюститель отеческих преданий Аввакум не хотел благословить сына боярина Шереметева, потому что тот явился к нему в блудоносном образе, т. е. с бритою бородою. Ревнители отеческих преданий употребили все свои усилия, чтоб искоренить «еллинские, блуднические, гнусные обычаи», и достигли, по-видимому, своей цели, когда правительство, в угоду им, начало отнимать чины за подрезывание волос. Но эта ревность была вредна только ревнителям, которые были не в состоянии остановить рокового движения и только раздражали противников, заставляли их относиться к бороде и старому длинному платью так же враждебно, как ревнители относились к блудоносному образу: борода стала знаменем в борьбе двух сторон, и понятно, что когда победит сторона нового, то первым ее делом будет низложить враждебное знамя. Движение, долженствовавшее привести к этой победе, шло безостановочно: в 1681 году царь Федор Алексеевич издал указ всему синклиту и всем дворянам и приказным людям носить короткие кафтаны вместо прежних длинных охабней и однорядок: в охабне или однорядке никто не смел являться не только во дворец, но и в Кремль. Патриарх Иоаким с отчаянием увидел, что еллинский, блуднический, гнусный обычай брадобрития явился с новою силою; опять загремел против него патриарх: «Еллинский, блуднический, гнусный обычай, древле многащи возбраняемый, во днех царя Алексея Михайловича всесовершенно искорененный, паки ныне юнонеистовнии начаша образ, от бога мужу дарованный, губити». Патриарх отлучает за брадобритие от церкви, отлучает и тех, которые с брадобрийцами общение имеют, – тщетные усилия, обращающиеся только во вред авторитету церкви и духовенства. Преемник Иоакима Адриан издал также сильное послание против брадобрития, еретического безобразия, уподобляющего человека котам и псам; патриарх стращал русских людей вопросом: если они обреют бороды, то где станут на страшном суде: «с праведниками ли, украшенными брадою, или с обритыми еретиками?»
Эти выходки служат для нас лучшим мерилом силы стремления, против которого они делались, лучшим мерилом силы раздражения, какое должны были возбуждать в людях «юнонеистовых». Заметим также, что способ, употребленный Петром против бород и русского платья, был завещан ему предшественниками, и другой способ был тогда немыслим: указом царь Алексей Михайлович вооружился против брадобрития, наказывая ослушников понижением в чинах; указом царь Федор Алексеевич велел носить короткие кафтаны вместо длинных охабней и однорядок; патриарх со своей стороны отлучением от церкви наказывал за еллинский обычай: Петр точно таким же насильственным образом выводит бороды и русское платье. Наконец, заметим еще одно обстоятельство: без сомнения, первым делом Петра по приезде в Москву было потребовать розыскное дело о стрельцах, и легко понять, с каким чувством читал он челобитную их, наполненную злыми выходками против Францка Лефорта (т. е. против самого Петра), против немцев, последующих брадобритию. – Я немец, последующий брадобритию: так вот же вам ваши бороды!
Утром 26 августа толпа всякого рода людей наполняла деревянный Преображенский дворец, где Петр жил запросто, принимая вместе с знатью людей самых простых. Тут, разговаривая с вельможами, он собственноручно обрезывал им бороды, начиная с Шеина и Ромодановского; не дотронулся только до самых почтенных стариков, которым вовсе не к лицу была новая мода: до Тихона Никитича Стрешнева и князя Михаила Алегуковича Черкаского, они одни и остались с бородами; другие догадались, в дело, и начали бриться; недогадливым было сделано еще внушение: 1 сентября, в тогдашний Новый год, был большой обед у Шеи некоторые явились с бородами, но теперь уже не сам царь, а царский шут упражнялся в обрезывании бород. Кто после того не хотел бриться, должен был платить известную пошлину.
Дело было начато, вызов брошен людям, провозглашавшим брадобритие блудною, еретическою новостию; но Петр но дал им опомниться от этого удара, сразил новым ужасом, начавши кровавый розыск против стрельцов, которые осмелились с оружием в руках пойти против немцев, последующим брадобритию. С половины сентября начали привозить в Москву стрельцов, оставшихся в живых после первого. Шеиновского розыска, и наполнили ими окрестные монастыри и села: всего было более 1700 человек. В Преображенском в 14 застенках начались пытки с 17 сентября – печальный день именин Софьи, когда 16 лет тому назад без суда казнены были Хованские. Пытки отличались неслыханною жестокостию. Добыто было признание, что стрельцы хотели стать под Девичьим монастырем и звать Софию в управительство; наконец один стрелец, с третьего огня, признался, что было к ним послано от царевны Софьи письмо, которое Тума принес из Москвы в Великие Луки; то же показано было и некоторыми другими стрельцами; дело дошло до стрельчих, оговоренных в передаче письма, до женщин, живших при Софье в монастыре, при сестре ее Марфе: женщины были пытаны и показали уже известное нам о сношениях двух сестер и о передаче письма стрельцу.
Между тем делались страшные приготовления к казням: ставили виселицы по Белому и Земляному городам, у ворот под Новодевичьим монастырем и у четырех съезжих изб возмутившихся полков. Патриарх вспомнил, что его предшественники в подобных случаях становились между царем и жертвами его гнева, печаловались за опальных, утоляли кровь: Адриан поднял икону Богородицы и отправился в Преображенское к Петру. Но богатырь расходился, никто и ничто его не удержит; завидев патриарха, он закричал ему: «К чему это икона? разве твое дело приходить сюда? Убирайся скорее и поставь икону на свое место. Быть может, я побольше тебя почитаю бога и пресвятую его матерь. Я исполняю свою обязанность и делаю богоугодное дело, когда защищаю народ и казню злодеев, против него умышлявших».
Петр сам допросил обеих сестер, замешанных в дело, Марфу и Софью. Марфа призналась, что говорила Софье о приходе стрельцов, о их желании видеть ее, Софью, на царстве; но отреклась, что никакого письма не передавала стрельчихе. Софья, спрошенная про письмо, переданное стрельцами от ее имени, отвечала: «Такова письма, которое к розыску явилось, от ней в стрелецкие полки не посылывано. А что те стрельцы говорят, что, пришед было им к Москве, звать ее, царевну, по-прежнему в правительство, и то не по письму от нее, а знатно потому, что она со 190 года была в правительстве».
30 сентября была первая казнь: стрельцов, числом 201 человек, повезли из Преображенского в телегах к Покровским воротам; в каждой телеге сидело по двое и держали в руке по зажженной свече; за телегами бежали жены, матери, дети со страшными криками. У Покровских ворот в присутствии самого царя прочитана была сказка: «В распросе и с пыток все сказали, что было придтить к Москве, и на Москве, учиня бунт, бояр побить и Немецкую слободу разорить, и немцев побить, и чернь возмутить, всеми четыре полки ведали и умышляли. И за то ваше воровство указал великий государь казнить смертию». По прочтении сказки осужденных развезли вершить на указные места; но пятерым, сказано в деле, отсечены головы в Преображенском; свидетели достоверные объясняют нам эту странность: сам Петр собственноручно отрубил головы этим пятерым стрельцам. 11 октября новые казни: вершено 144 человека, на другой день – 205, на третий – 141, семнадцатого октября – 109, осьмнадцатого – 63, девятнадцатого – 106, двадцать первого – 2. 195 стрельцов повешено под Новодевичьим монастырем, перед кельею царевны Софьи, трое из них, повешенные подле самых окон, держали в руках челобитные, «а в тех челобитных написано против их повинки». В Преображенском происходили кровавые упражнения; здесь 17 октября приближенные царя рубили головы стрельцам: князь Ромодановский отсек четыре головы; Голицын, по неуменью рубить, увеличил муки доставшегося ему несчастного; любимец Петра Алексашка (Меншиков) хвалился, что обезглавил 20 человек; полковник Преображенского полка Блюмберг и Лефорт отказались от упражнений, говоря, что в их землях этого не водится. Петр смотрел на зрелище, сидя на лошади, и сердился, что некоторые бояре принимались за дело трепетными руками. «А у пущих воров и заводчиков ломаны руки и ноги колесами; и те колеса воткнуты были на Красной площади на колья; и те стрельцы, за их воровство, ломаны живые, положены были на те колеса и живы были на тех колесах не много не сутки, и на тех колесах стонали и охали; и по указу великого государя один из них застрелен из фузеи, а застрелил его преображенский сержант Александр Меншиков. А попы, которые с теми стрельцами были у них в полках, один перед тиунскою избою повешен, а другому отсечена голова и воткнута на кол, и тело его положено на колесо». Целые пять месяцев трупы не убирались с мест казни, целые пять месяцев стрельцы держали свои челобитные перед окнами Софьи.
Кроме розыска стрельцами, взятыми под Воскресенским монастырем, шел еще розыск по азовскому делу. Когда узнали в Черкасске на Дону о поражении стрельцов под Воскресенским монастырем, то козаки говорили писарю, приехавшему из Воронежа: «Знать ты потешный, дай только нам сроку, перерубим мы и самих вас, как вы стрельцов перерубили. Если великий государь к заговенью в Москве не будет и вестей никаких не будет, то нечего государя и ждать! А боярам мы не будем служить и царством им не владеть, и атаман нас Фрол (Минаев) не одержит, и Москву нам очищать. Мы Азова не покинем; а как будет то время, что идти нам к Москве, и у нас молодцы с реки не все пойдут, и река у нас впусте не будет, пойдем хотя половиною рекою, а до Москвы города будем брать и городовых людей с собою брать, и воевод будем рубить или в воду сажать». Когда в Азове узнали о событиях под Воскресенским монастырем, то стрельцы начали говорить: «Отцов наших и братьев и сродичев порубили, а мы в Азове зачтем, начальных людей побьем». Монахи распустили слух, что четыре полка стрельцов и солдат Преображенского и Семеновского полков, которые были посланы против стрельцов, но с ними не бились, порублены все, а царевич окопался на Бутырках. Монахи говорили стрельцам: «Дураки вы, б… дети, что за свои головы не умеете стоять, вас и остальных всех немцы порубят, а донские козаки давно готовы». Стрелец Парфен Тимофеев говорил: «Когда бунтовал Разин, и я ходил с ним же: еще я на старости тряхну!» А другой стрелец, Бугаев, толковал: «Стрельцам ни в Москве, ни в Азове житья нигде пет: на Москве от бояр, что у них жалованье отняли без указу; в Азове от немец, что их на работе бьют и заставляют работать безвременно. На Москве бояре, в Азове немцы, в земле черви, в воде черти». Кроме азовского еще новый розыск: стрелецкий полковой поп донес, что в Змиеве в шинке стрельцы толковали о своей беде, сбирались со всеми своими полками, стоявшими в Малороссии, идти к Москве; первые должны были попасть на их копья – боярин Тихон Стрешнев за то, что у них хлеба убавил, Шеин за то, что ходил под Воскресенский монастырь. А как будут брать наряд в Белгороде, убить прежде всего боярина князя Якова Фед. Долгорукова, если наряда не даст. В походах говорили: «Боярин князь Яков Фед. Долгорукий выбил нас в дождь и слякоть; чем было нам татар рубить, пойдем к Москве бояр рубить».
11 октября, во второй день казней, Петр созвал собор из всех чинов людей, которому поручил исследовать злоумышление царевны Софьи и определить, какому наказанию она должна быть подвергнута. Решение собора неизвестно; царевну можно было сильно подозревать; но для прямого доказательства ее вины розыск не мог ничего представить. Мы видели, что отвечала Софья брату: «Письма я никакого не посылала, но стрельцы могли желать меня на правительство, потому что прежде я была правительницею». Чтоб уничтожить связь между этим прошедшим и будущим, чтоб впредь никто не мог желать ее на правительство, лучшим средством было пострижение. Софья была пострижена под именем Сусанны и оставлена на житье в том же Новодевичьем монастыре под постоянною стражею из сотни солдат. Сестры ее могли ездить в монастырь только на Светлой неделе и в монастырский праздник Смоленской иконы (28 июля) да еще в случае болезни монахини Сусанны; Петр сам назначил доверенных людей, которых можно было посылать с спросом о ее здоровье, и приписал: «А певчих в монастырь не пускать: поют и старицы хорошо, лишь бы вера была, а не так, что в церкви поют спаси от бед, а в паперти деньги на убийство дают».
Софья была оставлена в подмосковном монастыре: гораздо виновнее по следствию являлась сестра ее Марфа, которая сама призналась, что сообщила сестре о приходе стрельцов и желании их видеть ее, Софью, правительницею, а постельница Марфы утверждала, что царевна получила челобитную от стрельцов и от нее шло письмо к Туме. Марфу постригли под именем Маргариты в Успенском монастыре Александровской слободы (теперь города Александрова Владимирской губернии).
Еще прежде сестер Софьи и Марфы Петр постриг жену свою, царицу Евдокию Федоровну. Из известного нам образа жизни Петра с его компаниею, Петра – плотника, шкипера, бомбардира, вождя новой дружины, бросившего дворец, столицу для беспрерывного движения, – из такого образа жизни легко догадаться, что Петр не мог быть хорошим семьянином. Петр женился, т. е. Петра женили 17 лет, женили по старому обычаю, на молодой, красивой женщине, которая могла сначала нравиться. Но теремная воспитанница не имела никакого нравственного влияния на молодого богатыря, который рвался в совершенно иной мир; Евдокия Федоровна не могла за ним следовать и была постоянно покидаема для любимых потех. Отлучка производила охлаждение, жалобы на разлуку раздражали. Но этого мало; Петр повадился в Немецкую слободу, где увидал первую красавицу слободы, очаровательную Анну Монс, дочь виноторговца. Легко понять, как должна была проигрывать в глазах Петра бедная Евдокия Федоровна в сравнении с развязною немкою, привыкшею к обществу мужчин, как претили ему приветствия вроде: лапушка мой, Петр Алексеевич! – в сравнении с любезностями цивилизованной мещанки. Но легко понять также, как должна была смотреть Евдокия Федоровна на эти потехи мужа, как раздражали Петра справедливые жалобы жены и как сильно становилось стремление не видать жены, чтоб не слыхать ее жалоб. Опостылела жена; должны были опостылеть и ее родственники Лопухины, и Льву Кирилловичу Нарышкину легко было избавиться от соперников: мы видели, какие страшные слухи ходили по Москве об участи самого видного из Лопухиных. А всему виною проклятые немцы, проклятый Лефорт, которому вместе с Плещеевым приписывали доставление Петру развлечений, особенно неприятных царице. И вот у Лопухиных к Лефорту ненависть страшная. Рассказывают, что однажды за обедом у Лефорта один из Лопухиных побранился с хозяином, кинулся на него и помял прическу, а Петр за это надавал пощечин Лопухину. Перед отъездом Петра за границу, когда удаляли из Москвы всех ненадежных людей, удалены были и отец царицы с двумя братьями: «Марта в 23 день великий государь указал быть в городах на воеводствах: на Тотме боярину Федору Авраамовичу, на Чаронде боярину Василию Авраамовичу да с ним племяннику его стольнику Алексею Андрееву сыну, в Вязьме стольнику Сергею Авраамову сыну Лопухиным, и с Москвы в те городы ехать им вскоре». После всего этого Петру, разумеется, не хотелось возвратиться из-за границы в Москву и застать здесь подле сына постылую Евдокию. Женившись по старине, Петр задумал и избавиться от жены по старому русскому обычаю: уговорить нелюбимую постричься, а не согласится – постричь и насильно. Из Лондона он писал Нарышкину, Стрешневу и духовнику Евдокии, чтоб они уговорили ее добровольно постричься. Стрешнев отвечал, что она упрямится, а духовник – человек малословный, и что надобно ему письмом подновить.
Ничто не подействовало, и Петр по возвращении в Москву решился принудить Евдокию постричься. 23 сентября Евдокию отправили в суздальский Покровский девичий монастырь, где и была пострижена под именем Елены в июне следующего 1699 года. Причина этой медленности неизвестна; сохранилось только любопытное известие от сентября 1698 года, что царь рассердился на патриарха, зачем не исполнено его повеление и Евдокия еще не пострижена, патриарх сложил всю вину на архимандрита и четырех священников, которые не соглашались на пострижение, как на дело незаконное, и отвезены были за это ночью в Преображенское. Малолетнего царевича Алексея, по отъезде матери, перевезли к тетке, царевне Наталье Алексеевне.
В древней летописи Русской находится любопытный рассказ, как великий князь Владимир разлюбил жену свою Рогнеду, как та хотела его за это убить, не успела и приговорена была мужем к смерти; но когда Владимир вошел в комнату Рогнеды, чтоб убить ее, то к нему навстречу вышел маленький сын их Изяслав и, подавая меч Владимиру, сказал: «Разве ты думаешь, что ты здесь один?» Владимир понял смысл слов сына и отказался от намерения убить жену. Но обыкновенно мужья и жены, когда ссорятся, забывают, что они не одни; и Петр, постригая жену, забыл, что он не один, что у него остался сын от нее.
Печальные события лета и осени 1698 года держали Петра в сильном раздражении, которое в некоторых случаях выражалось порывами бешенства. 14 сентября на пиру у Лефорта Петр начал браниться с Шеиным и выбежал вон, чтоб справиться, сколько Шеин за деньги наделал полковников и других офицеров. Возвратился в страшной ярости, выхватив шпагу, ударил ею по столу и сказал Шеину: «Вот точно так я разобью и твой полк, и с тебя сдеру кожу». Ярость еще больше была усилена, когда князь Ромодановский и Зотов стали защищать Шеина; Петр бросился на них, ударил Зотова по голове, Ромодановского по руке, так что едва не отсек пальцев; Шеин был бы убит, если б Лефорт не удержал Петра, получивши и сам порядочный удар. Все были в ужасе, но молодой фаворит умел успокоить Петра, который потом весело пропировал до утра.
Этот молодой фаворит был сержант Преображенского полка Александр Данилович Меншиков, известный в описываемое время больше под именем Алексашки. Относительно происхождения знаменитого впоследствии светлейшего князя нет никаких противоречий в источниках: современники-иностранцы единогласно говорят, что Меншиков был очень незнатного происхождения; по русским известиям, он родился близ Владимира и был сыном придворного конюха. Известно, какое значение получили при Петре потешные конюхи, как из них преимущественно сформировались потешные полки Преображенский и Семеновский; отсюда понятно, каким образом отец Меншикова попал в капралы Преображенского полка. Следовательно, официальный акт – жалованная грамота на княжеское достоинство Меншикову говорит совершенно справедливо, что родитель Александра Даниловича служил в гвардии. Но при этом мы не имеем никакого права не допускать известия, что сын потешного конюха, который долго не назывался иначе как Алексашка, торговал пирогами, ибо все эти мелкие служилые люди и сами, как только могли, и дети их промышляли разными промыслами; не имеем никакого права отвергать следующий рассказ очевидца. Петр, рассердившись однажды сильно на князя Меншикова, сказал ему: «Знаешь ли ты, что я разом поворочу тебя в прежнее состояние, чем ты был? Тотчас возьми кузов свой с пирогами, скитайся по лагерю и по улицам, кричи: пироги подовые! как делывал прежде. Вон!» – и вытолкал его из комнаты. Меншиков обратился к императрице Екатерине, которая успела развеселить мужа, а между тем Меншиков добыл себе кузов с пирогами и явился с ним к Петру. Государь рассмеялся и сказал: «Слушай, Александр! Перестань бездельничать, или хуже будешь пирожника». Гнев прошел совершенно. Меншиков пошел за императрицею и кричал: пироги подовые! а государь вслед ему смеялся и говорил: «Помни, Александр!» – «Помню, ваше величество, и не забуду. Пироги подовые!».
Алексашка, вследствие фавора, уже и в описываемое время выдавался вперед между приближенными к царю и по смерти Лефорта займет его место, никого не будет ближе его к Петру, но вместе с тем от Лефорта перейдет к нему печальное наследство – ненависть людей, которые будут против Петра и дел его. Наружность фаворита была очень замечательна: он был высокого роста, хорошо сложен, худощав, с приятными чертами лица, с очень живыми глазами; любил одеваться великолепно и, главное, что особенно поражало иностранцев, был очень опрятен, качество, редкое еще тогда между русскими. Но не одною наружностью мог он держаться в приближении: люди внимательные и беспристрастные признали в нем большую проницательность, удивлялись необыкновенной ясности речи, отражавшей ясность мысли, ловкости, с какою умел обделать всякое дело, искусству выбирать людей. Так являлся Меншиков своею светлою стороной; обратимся к темной. Это была необыкновенно сильная природа: но мы уже говорили, как становится страшно перед сильными природами в обществе, подобном русскому в описываемое время. Все, что было сказано о Петре, прилагается к его птенцам, его сподвижникам; все это силы, для которых общество выработало так мало сдержек. В обществе подобного рода, как в широком степном пространстве, где нет определенных, искусственно проложенных дорог, каждый может раскатываться во всех направлениях. Везде и всегда один и тот же закон: сила не остановленная будет развиваться до бесконечности; не направленная будет идти вкось и вкривь. У Меншикова и товарищей его была большая сила, потому они и оставили имена свои в истории; но где они могли найти сдержку своим силам? В силе сильнейшего? Этой силы было недостаточно: лучшим доказательством служит то, что этот сильнейший должен был употреблять пощечины и палку для сдерживания своих сподвижников, а употребление таких средств – лучшее доказательство слабости того, кто их употребляет, лучшее доказательство слабости общества, где они употребляются. Силен был, кажется, Петр Великий лично, силен был и неограниченною властию своею, а между тем мы знаем, как он был слаб, как не мог достигнуть непосредственно при жизни своей самых благодетельных целей, ибо не может быть крепкой власти в слабом, незрелом обществе; власть вырастает из общества и крепка, если держится на твердом основании; на рыхлой почве, на болоте ничего утвердить нельзя.
Выхваченный снизу вверх, Меншиков расправил свои силы на широком просторе; силы эти, разумеется, выказались в захвате почестей, богатства; разнуздание при тогдашних общественных условиях, при этом кружившем голову перевороте, при этом сильном движении произошло быстро. Мы увидим, что Меншиков ни перед чем не остановится. И в описываемое время сержант Алексашка уже показывал страшное честолюбие. Петр не питал слепой привязанности к своему любимцу: когда кто-то просил царя, чтоб пожаловал Алексашку в стольники, то Петр отвечал, что Алексашка и без того употребляет во зло свое значение и что надобно уменьшать в нем честолюбие, а не увеличивать. После Петр не пожалеет никаких почестей для Меншикова, когда заслуги последнего станут явны перед всеми.
В своем раздражении Петр не щадил ни старого, ни нового любимца: заставши однажды Меншикова пляшущего в шпаге, он так ударил его, что у того полилась кровь из ноздрей; а потом, на пиру у полковника Чамберса, он схватил Лефорта, бросил на землю и топтал ногами. Тяжелая мысль давила Петра и увеличивала раздражение; при сравнении того, что он видел за границею, и того, что нашел в России, страшное сомнение западало в душу: можно ли что-нибудь сделать? не будет ли все сделанное с громадными усилиями жалким и ничтожным в сравнении с тем, что он видел на Западе? Ограничиться бедными начатками, не видать важных результатов своей деятельности было тяжело для богатыря, кипевшего такими силами. Особенно, как видно, приводило его в отчаяние любимое дело, кораблестроение, при воспоминании о том, что он видел в Голландии и Англии, и о том, что оставил в Воронеже. Через два дни после осенних стрелецких казней, вечером 23 октября, Петр поехал в Воронеж и оттуда писал Виниусу: «Мы, слава богу, зело в изрядном состоянии нашли флот и магазеи обрели. Только еще облак сомнения закрывает мысль нашу, да не у коснеет сей плод, яко фиников, которого насаждающи не получают видеть. Обаче надеемся на бога с блаженным Павлом: подобает делателю от плода вкусити». – «Только еще облак сомнения закрывает мысль нашу» – значит, сомнение тяготило в Москве и найденное изрядное состояние флота и магазеев не могло прогнать его. В другом письме пишет: «А здесь, при помощи божией, препораториум великий, только ожидаем благого утра, дабы мрак сумнения нашего прогнан был. Мы здесь начали корабль, который может носить 60 пушек». Тяжкое сомнение, которое отняло бы руки у другого, не привело, однако, Петра к бездействию; он работал так же неутомимо, как и до поездки за границу. А между тем происходили любопытные явления, характеризующие время. Лучшим из учеников морского дела, посланных Петром за границу, оказался Скляев, находившийся с царем в постоянной переписке. Он в описываемое время возвратился из-за границы и должен был ехать к царю в Воронеж. Петр ждет с нетерпением нужного человека – нет Скляева! Наконец приходит весть, что он вместе с товарищем своим Верещагиным в руках страшного пресбургского короля. Петр пишет Ромодановскому: «В чем держать наших товарищей, Скляева и Лукьяна (Верещагина)? Зело мне печально. Я зело ждал паче всех Скляева, потому что он лучший в сем мастерстве, а ты изволил задержать. Бог тебе судит! Истинно никого мне нет здесь помощника. А, чаю, дело не государственное. Для бога, свободи (а какое до них дело, я порука по них) и пришли сюды». Ромодановский отвечал: «Что ты изволишь ко мне писать о Лукьяне Верещагине и о Скляеве, будто я их задержал, – я их не задержал, только у меня сутки ночевали. Вина их такая: ехали Покровскою слободою пьяны и задрались с солдаты Преображенского полку, изрубили двух человек солдат, и по розыску явилось на обе стороны неправы; и я, розыскав, высек Скляева за его дурость, также и челобитчиков. с кем ссора учинилась, и того часу отослал к Федору Алексеевич; (Головину). В том на меня не прогневись: не обык в дуростях спускать, хотя б и не такова чину были».
Ромодановский в отсутствие царя должен был заниматься не одним разбором ссоры Скляева с Преображенскими солдатами. Тотчас по отъезде Петра в Воронеж по Москве пошли слухи, что начались тайные сборища недовольных; гонец, отправленный ночью к царю с письмами и дорогими инструментами, был схвачен на Каменном мосту и ограблен; письма нашли на другой день разбросанными по мосту, но инструменты и сам гонец пропали. В конце 1698 года царь возвратился в Москву и на Рождестве тешился одною из любимых своих забав: переряженный, с большою свитою на 80 санях ездил славить Христа; хозяева домов, куда приезжали славильщики, должны были давать им деньги; богач князь Черкасский был щедрее всех; но один купец дал на всю компанию только 12 рублей; Петр рассердился, набрал на улице сотню мужиков и привел к скупому купцу, который должен был теперь дать каждому мужику по рублю. В январе опять 10 застенков в Преображенском для оставшихся стрельцов; в феврале снова казни сотнями и опять упражнения самого царя с помощию Плещеева. В конце февраля начали вывозить трупы из Москвы: более тысячи было вывезено за заставы и там несколько времени лежали кучами, пока наконец зарыты в землю.
За несколько дней пред казнями был пир у Адама Вейде, но царь сидел погруженный в мрачную думу. Лефорт истощал свою изобретательность, чтоб развлечь его. Великолепный дом, построенный для адмирала на казенные деньги, был отстроен; назначено было большое торжество для открытия или посвящения этого храма Бахусу; шутовская процессия тянулась в Лефортов дворец из дома полковника Лимы: шествовал всешутейший Зотов, украшенный изображениями Бахуса, Купидона и Венеры, за ним вся компания: одни несли чаши, наполненные хмельными напитками, другие несли сосуды с курящимися табачными листьями.
Стрельцы, бунтовавшие в Торопце и Азове, были переказнены: все остальные московские и азовские стрельцы были распущены их было запрещено принимать в солдаты, запрещено жить в Москве им и женам их. Но дело не было исключительно стрелецкое, борьба разгоралась все более и более и кровь вызывала на новую кровь, пресбургский король в Преображенском не мог оставаться в бездействии. Когда стрельцов толпами начали сводить в Москву для розысков, то в народе пошел слух, что по них будут стрелять из пушек; возбудилось сочувствие, и в Преображенское был подан донос на жену стряпчего конюха Аксинью, которая говорила своему крепостному человеку Гавриле: «Видишь, он стрельцов не любит, стал их переводить, уж он всех их переведет», а Гаврила говорил: «Чего хотеть от басурмана, он обасурманился, в среду и пятницу мясо ест; коли стал стрельцов переводить, переведет и всех, уж ожидовел и без того жить не может, чтоб в который день крови не пить». Аксинья прибавила с ругательством: «Кадошевцев от Покровских ворот до Яузких велел бить кнутом, и как их били, и он за ними сам шел». Аксинью и Гаврилу казнили смертию. Стрелец Петрушка Кривой в вологодской тюрьме кричал: «Ныне нашу братью стрельцов прирубили, а остальных посылают в Сибирь: только нашей братии во всех сторонах и в Сибири осталось много; а кто их заставил рубить, и у того голова его чуть на нитке держится; собрався, все будем на Москве, и самому ему торчать у нас на коле; на Москве зубы у нас есть, будет у нас и тот в руках, кто нас пытал и вешал». В Преображенском Кривой не запирался и говорил: «Как я из Сибири ушел и мне было с своею братьею, ссылочными и беглыми, и с теми, которые в полках, и которые стрельцы из полков написались в города, в посады, с иными видеться, а с иными списываться, за ту свою обиду и за стрелецкую казнь идти к Москве и, учиня бунт, государя и бояр побить». Как обыкновенно бывает, недовольные настоящим искали утешения в будущем; недовольные Петром обращались с надеждою к наследнику, царевичу Алексею, который не будет похож на отца. Когда одна партия стрельцов сидела за караулом в Симонове монастыре, то монастырский конюх Никита Кузьмин говорил им: «Стрельцы, которые были в Новоспасском монастыре и которые монастырские служки и. крестьяне везли их на пушечный двор, говорили: не одни стрельцы пропадают, плачут и царские семена, и стрелецкие жены говорили: царевна Татьяна Михайловна жаловалась царевичу на боярина Тихона Никитича Стрешнева, что он их (царевен) поморил с голоду, если б-де не монастыри нас кормили, мы бы давно с голоду померли, и царевич ей сказал: дай-де мне сроку, я-де их переберу. Стрельчихи говорили: государь свою царицу послал в Суздаль, и везли ее одну, только с постельницею да с девицею, мимо их стрелецких слобод в худой карете и на худых лошадях. Как постельница из Суздаля приехала, и царевич хватился матери и стал тосковать и плакать, и царевича государь уговаривал, чтоб не плакал. И после государя царевич из хором своих вышел на перила, а за ним вышел Лев Кириллович Нарышкин, и царевич ему говорил: для чего ты за мною гоняешься, никуда не уйду. Намутила на царицу царевна Наталья Алексеевна; государь царице говорил: моли ты бога за того, кто меня от тебя осудил. Государь немец любит, а царевич немец не любит; приходил к нему немчин и говорил неведомо какие слова, и царевич на том немчине платье сжег и его опалил. Немчин жаловался государю, и тот сказал: „Для чего ты к нему ходишь, покаместь я жив, потаместь и вы“. Кузьмин объявил, что все это он слышал от Хлебенного дворца стряпчего Василья Костюрина. Стрелецкие казни произвели особенно сильное впечатление на женщин, которые говорили: „Государь с молодых лет бараны рубил, и ныне руку ту натвердил над стрельцами. Которого дня государь и князь Федор Юрьевич Ромодановский крови изопьют, того дня в те часы они веселы, а которого дня не изопьют, и того дня им и хлеб не естся“».
Как скоро начало ослабевать впечатление стрелецкого розыска, начались выходки против бритья бород. Духовенство и в челе его патриарх находились теперь в самом затруднительном положении: они провозглашали, что брадобритие есть богоненавистное дело, и вдруг царь своим примером и приказом вводит это богоненавистное дело: оставалось или продолжать высказывать прежнее мнение, т. е. идти против верховной власти, или замолчать; предпочли, разумеется, последнее и навлекли на себя сильные укоры со стороны ревнителей отеческих преданий. В июле 1699 года знаменский архимандрит Иоасаф подал следующее извещение: «Был я на погребении у посадского человека, у церкви Зачатия в Углу, и на том погребении, видя соблазн Нагого Ивашки и с ним других в волосяницах, с которыми он по рядам и по церквам ходил и деньги обманом сбирал, велел его, Ивашка Нагого, и волосяничника Ивашка Калинина и старца своего Герасима Босого взять за тот соблазн и посадить в цепь, а Ивашка Нагого велел взять к себе в келью, потому что он безмолвствовал и ни с кем не говорил при многих людях, и стал я ему говорить, что он по рядам и по погребениям ходит и деньги сбирает; и он сказал: в том-де вины нет, а дают мне ради моей святости, и в том мне будет мзда от бога, что я брал и раздаю нищим же, и иному бы и не дали, и я-де хочу и не то делать, идти в Преображенское царя обличать, что бороды бреет и с немцами водится и вера стала немецкая. Я ему сказал: проклятый сатана нагой бес! Что ты видел или от ума отошел? У нас св. патриарх глава и образ божий носит на себе, а никакого соблазну от него, государя, не слыхал. Нагой отвечал: „А какой де он патриарх? Живет из куска, спать бы ему да есть, да бережет де мантии, да клобука белова, за тем де он и не обличает, а вы де власти все накупные“». Нагой в Преображенском признался, что его зовут не Иваном, а Парамоном; на пытке объявил, что про царя слышал, как читали в прологе в церквах, о патриархе сказал с проста ума, дьявол научил. Сжен огнем и с огня говорил прежние речи; приговорен к кнуту и ссылке в Азов на каторги.
Мы видели, что при царе Михаиле табак был запрещен, а в начале царствования Алексея был в употреблении и продавался от казны; но табак, испытавший повсюду такое сильное сопротивление при своем введении, испытал его ив России: ревнители отеческих преданий опять вооружились против проклятой неизвестно кем травы и вынудили у правительства самые строгие против нее меры. Петр еще до поездки за границу позволил продажу табаку; сбор пошлин с этой продажи был отдан торговому человеку гостиной сотни Мартыну Орленку; а потом, будучи в Англии, царь предоставил право исключительной торговли табаком в России маркизу Кармартену за 20000 фунтов стерлингов (48000 рублей) с уплатою всей суммы вперед. Это позволение употреблять табак, разумеется, усилило негодование ревнителей отеческих преданий. «Какой то ныне государь, что пустил такую проклятую табаку в мир. – говорили они, – нынешние попы волки и церкви божией обругатели, а антидор против нынешней табаки, потому что попы и иных чинов люди табак пьют и принимают антидор».
Усиливалась борьба, раздражение с обеих сторон, усиливались выражения неудовольствия на царя и его дела, усиливались доносы и розыски в Преображенском. Но, кроме того. нашлись люди, которые хотели воспользоваться обстоятельствами, и начали являться ложные доносы. Монахи, напившись, поехали ночью по Москве, крича встречным: «Дай дорогу, убьем!» Навстречу попался царь, который не обратил на них никакого внимания, сказавши: «Это пьяные». Но через несколько времени явился донос, что монахи хотели убить государя: донос шел от монахов же. Нельзя стало строгому игумену смирить безнравственно живущего монаха: сейчас донос на игумена в непристойных словах или замыслах. Ложных доносчиков наказывали жестоко, но это мало помогало.
Дело Авдотьи Нелидовой служит лучшим доказательством, как изобретательны были люди, решавшиеся для собственного спасения тянуть других в Преображенское.
В мае 1698 года стольник Петр Волынский бил челом, чтоб взять к розыску и наказать дворовую жены его Авдотью Нелидову, обвиненную в порче. Авдотья в застенке сказала за собою великого государя слово: «До азовского похода, о святой неделе и после, к жене Волынского Авдотье Федоровне, когда она еще была вдовою после князя Ив. Никитича Засекина, приезжала в дом с Верху комнатная девка Жукова да с нею. приезжал певчий Василий Иванов; присылала Анну из Девичья монастыря царевна Софья Алексеевна говорить вдове Авдотье: „О чем тебе царевна прежде приказывала сходить в Преображенское – ходила ли ты или нет?“ – и Авдотья Анне сказала: „Была я в Преображенском и вынула землю из-под следа государева и эту землю отдала для составу крестьянской женке Федора Петровича Салтыкова Фионе Семеновой, чтоб сделала отраву у себя в доме, чем известь государя насмерть“. Спустя дня с три приехала опять Жукова и спрашивала Авдотью: куда ты дела отравное зелье. Та отвечала: „Ходила я в Марьину рощу с этим составом и не улучила времени, чтоб вылить его из кун шина в ступню государеву“. Состав этот Авдотья Нелидовой показывала: красен, точно кровь, причем говорила: если б мне удалось вылить его в ступню, то государь не жил бы и трех часов. Она же, вдова Авдотья, была в гостях у дьяка Лукина и, возвратясь, говорила Нелидовой: „Не знала я, что государь будет у дьяка, а если б знала, то взяла бы зелье с собою“. Нелидова стала ей говорить: „За что ты на великого государя такое злое дело помышляешь?“, и когда приехали ко вдове братья Воейковой, также родной брат ее Василий Головленков, то Нелидова всем им троим рассказала про замыслы боярыни, и Головленков после того не ездил недель с 30 к сестре. Боярыня рассердилась на Нелидову и сослала ее в Ряскую вотчину, приказав утопить в реке.