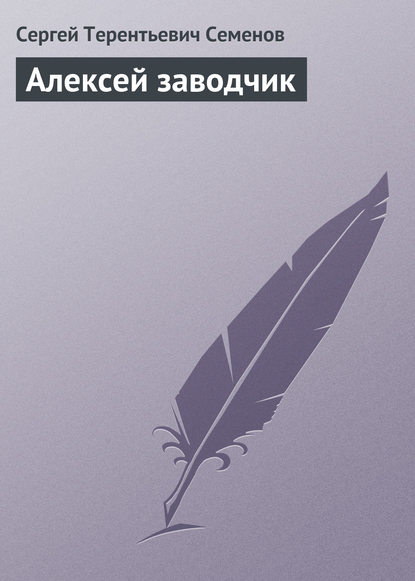По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Алексей заводчик
Год написания книги
1898
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Годов до 12-ти с ними; бегал, баловался, а когда и с ручкой пройдешь. Потом захотели они меня к делу пристроить, и отдали в трактир на том дворе, где наша фатера-то была. Приделили меня чашки перемывать. Пристроился я, было, – ничего, и к делу привык, да из-за ихнего пьянства не удержался. В вино-то они к этому времени втянулись, а взять-то уж негде стало, ну и давай из меня тянуть. Придут, это, чай пить – и сейчас к буфету, к хозяину или, там, к приказчику: «У вас наш сынок живет, давай нам полбутылки». Полбутылка за полбутылкой, – что мне за месяц приходится, они за неделю заберут. А там подошло время: нужно сапожишки справить, рубашонку, а им не на что. Ну, хозяин глядел-глядел да и говорит: «Уходи с Богом, ты для нашего места не подходишь».
– Ты и ушел?
– И ушел, – проговорил Алексей и остановился. Передохнув с минуту, он продолжал:
– Перешел я опять к ним; стали они думать да гадать, что со мной делать теперь, и порешили в сапожники отдать. Нашли такого хозяина, который на всем своем бы взял, и закабалили меня на семь годов. Сперва-то меня, вместо мастерской, приделили на кухню: то за водой на бассейну беги, то в лавочку ступай, то товар заказчикам неси; управишься, придешь в мастерскую, а там, глядишь, мастера посылают, кто за табаком, кто еще за чем.
– Это уж известное дело, – вмешался в разговор Вавила, – там всегда так делается: коль на долгий срок попал, – сколько годков на побегушках пробегаешь!
– Вот и мне пришлось так бегать; года четыре мне и шила в руки не давали, – опять продолжал рассказ Алексей. – Только на пятом году посадили меня к месту и дали дело в руки. Мастер, к которому я под начал попал, хороший такой был; другие, там, норовят с ученика-то сорвать что, а этот ничего не хотел, а показывал, что надо, как следует… Проработал я годик, другой, стало у меня выходить кое-что, начали, это, меня похваливать и мастера и хозяин. Пронюхали про это наши; сейчас приходит отец: «Будет, говорит, тебе здесь жить, пойдем на фатеру». – Зачем? спрашиваю. – «От себя, говорит, будешь работать. Я, – это отец-то говорит, – буду старую обувь покупать, а ты починишь ее, а я продам». Делать нечего было, пришлось мне покинуть хозяина.
– Ишь ведь какие облоеды? Не то что дать парню до дела дойти, а как бы только пососать его, – вмешалась в разговор жена Вавилы.
– Какого ж тут еще дела дожидаться; видишь – водкой пахнет – нечего тут ждать! – насмешливо отозвался и сам Вавила.
– Только того и нужно было, – заметил Алексей. – Если бы не глотка-то ихняя, и как бы дело пошло… Худую-то обувь дешево можно купить, особливо на Хитровом, а как починишь ее, цена-то ей другая. Чуть не втрое, бывало, выручал, да нам-то не показывал; что выручит, то и пропьет. Иной раз и так приходилось: еще, мол, купить не на что, а нам с матерью ждать нечего – просто хоть зубы на полку клади или воровать ступай.
– А что, теперь дело прошлое, – снова вмешалась баба Вавилы: – небось, при этакой жизни и воровать приходилось?
– Нет, Бог миловал, – сказал Алексей: – ни разу не доводилось.
– Ну, вот, – ни разу, это ты не сказываешь.
– Что ж мне скрывать-то? Боюсь я, что ль, тебя, вот чудная-то! – необыкновенно серьезно проговорил Алексей. – Приходилось, когда в мальчиках жил: когда кусок говядины на кухне упрешь, когда калач стянешь или пятачок от сдачи утаишь. А чтобы по-настоящему воровать – Бог миловал: должно, руки толсты. – И проговоривши последние слова, Алексей вдруг рассмеялся.
– Где ж там воровать-то: там, вишь, и народ-то жил яко наг, яко благ, яко нет ничего, – заметил Вавила.
– Ну, это ты не скажи! – воскликнул Алексей и, положив работу, вдруг поднялся с места, отошел к приступке, сел на нее и стал делать папироску. Сделавши папироску и закурив ее, он опять заговорил.
III
– Коли захочешь чего, и там можно сделать что угодно, – сделай милость! Сам не выдумаешь – другие научат, найдутся такие.
И он затянулся папироской, выпустил клубы дыма изо рта и из носа и проговорил:
– Мне раз подходило такое дело, насилу как удержался, – можно сказать, на волоске висел.
– Что ж это за дело? – с загоревшимися от любопытства глазами спросил Вавила и, бросив работу, повернулся всем корпусом в сторону Алексея.
– Было это как раз в ту пору, когда сапожничал я у своих. Чай-то пить в трактир ходил; ну, когда дело есть, скоро повернешься, а дела нет, сидишь, на народ глядишь; а народу всегда в этом месте волна – и всякого народу. Сижу я этак раз за столом и подмечаю – приглядывается ко мне один паренек, на вид шустрый такой, одет хорошо. Раз прихожу в трактир – он тут, другой – тут, и все на меня глаза пялит. А на третий раз сижу я это так, курю вот как сейчас, подкатывается он ко мне и говорит: «Дай-ка, брат, закурить». Я дал. Закурил он и к моему столу подсел и разговор, это, со мной затевает: «Где, говорит, живешь, что делаешь?» Я сказываю. «Плохо, должно быть, говорит, дела идут?» – Плохо. – «А не хошь, говорит, житья получше?» – Кто, говорю, себе враг и от хорошего откажется! – «Так можно, говорит, хорошее житье устроить». – Как же так? спрашиваю. – «А вот как… Пойдем-ка в уголок от людей подальше». Перешли мы за другой стол, он и шепчет мне: «Вот, говорит, какие дела: я поступаю в приказчики в магазин и буду там жить; и есть у меня еще приказчики, товарищи, тоже на местах живут: расскажем мы тебе все эти магазины, а ты ходи, говорит, по ним, покупай, что там тебе скажем. Справим, говорит, мы тебя, денег дадим, а ты только знай этот товар-то на фатеру относи, а мы у тебя будем его принимать да к месту приделять».
– Что ж это такое за штука?.. – спросил Вавила и недоумевающе уставился на Алексея.
– Штука очень простая, – объяснил Алексей: – вместе с этим товаром-то они положат кусочек еще какого, да побольше, да подороже, а деньги-то возьмут только за дешевый.
– Ишь ты ведь проклятые… одумают тоже! – воскликнул Вавила и даже покраснел весь. – Однако, ловкачи!
– Вон там какие огарки водятся!.. – поддакнула ему и жена его.
– «Тебе, говорит, очень хорошо будет, живи беззаботно», – опять продолжал Алексей. – Разъело у меня губу. Неужели, думаю, век на Хитровом болтаться, дай хоть маленько на свет погляжу. – Согласен, говорю. И только я это сказал, молодец-то этот сейчас мне и водки, и пива, колбасы жареной принес. Погуляли это мы, и повел он меня к себе на фатеру. Вот, говорит, где жить будешь». Гляжу я: фатера хорошая, большая, видно – несколько их таких молодцов-то живет. «А вот, говорит, тебе будет обувь, одежа», и показывает мне сапоги новые выростковые, дипломат, пиджак с брюками – всю тройку, как следует. «Вот, говорит, перебирайся завтра, обуешься, оденешься во все это». Побежал я от него домой и ног от радости под собой не слышу. Вот, думаю, поживу! Только пришел я это домой, лег спать, и взяло меня раздумье. На что, думаю, я пускаюсь! И теперь-то я не по-людски живу, а тогда-то какова моя жизнь будет? Всякий живет – свое дело делает, а я буду мошенством промышлять – значит, совсем от людей прочь, – и взяла меня тоска. Всю ночь я не спал. Поутру встал, приходит время на дело итти, а у меня духу не хватает. Мялся-мялся – плюнул да так и не пошел.
– Молодец! – воскликнул одобрительно Вавила. – Лучше по-миру ходить, чем таким делом заниматься.
– Знамо так, – опять поддержала мужа баба: – а то еще попадешься да улетишь, куда Макар телят не гонял.
– Об этом я не думал, – сказал Алексей и, вставши с приступка, бросил на пол и затоптал папироску, потом опять сел на прежнее место и взял в руки работу. – Небось, и там, куда Макар телят не гонял, – люди живут. А думалось мне одно, что не людская это жизнь. Когда ты работаешь по чести-совести, ты кусок хлеба спокойно ешь; знаешь, что он твой; сегодня съешь, – Бог здоровья даст – и завтра опять будет; а вот как если выпросишь или стянешь этот кусок, тогда другая статья. Тогда завсегда ты не спокоен: сегодня добыл, а завтра удастся ль? да где? да как? Нагляделся я на таких людей не мало, пока рос да жил-то на Хитровом.
– Это-то верно, про это что говорить! – согласился с Алексеем Вавила.
– А как же ты на этап попал? – спросил я Алексея.
– А так. Побился, побился у стариков-то своих, не вмочь стало, и порешил я уйтить от них. Подыскал себе место у одного хозяйчика и ушел. Ну, им это не понравилось. Пришли они к хозяину, стали было под жалованье мое подбиваться, а я отозвал хозяина-то в сторону и говорю: я у тебя живу, я и получать, что следует, буду, а им не давай. Ну, хозяин-то им от ворот поворот да на улицу. Их зло и взяло. Вышли наши паспорта, они и пишут в волость: нам, дескать, паспорт высылайте, а ему не надо, – ну, и остался я без паспорта, выправил отсрочку, пожил, пока она существовала, а потом меня и держать не стали. Получил расчет, загулял с горя. Так закрутил – отойди-пусти: пропился впух и впрах. Пошел я к старикам, стал с ними ругаться, они меня бить – в часть нас взяли; ну, а в части, знамо, без виду назад не выпустят, а сейчас доброго молодчика в кутузку да на Колымажный, да сюда: да и заставили вместо московского-то деревенский хлеб есть.