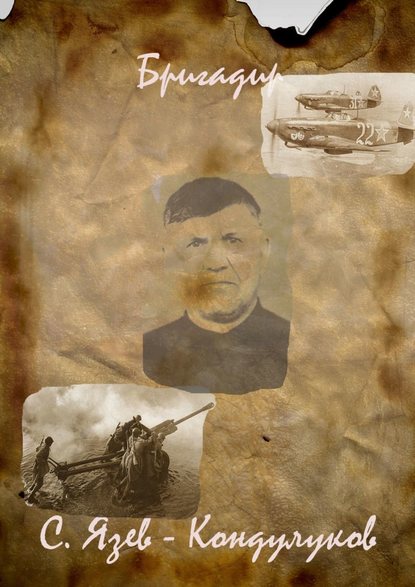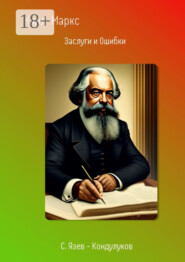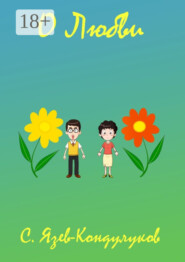По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Бригадир
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Никита любил детей. Любил прикосновение нежных детских ручонок, их неясный лепет.
– Фу, папка, как от тебя плохо пахнет! – И Галинка со смехом вскарабкалась на колени к отцу.
– Это не я, это завод так плохо пахнет, – улыбнулся Никита. Он тщательно мыл руки после работы, но проклятый запах креозота, на заводе, где работал Никита, делали снаряды, всё равно не оставлял, всё преследовал его.
– А большой завод, где ты работаешь папка? – теребила его Галинка.
– Большой, – улыбался Никита, бережно собирая со стола хлебные крошки.
– А какой большой, – не отставала Галинка.
– Ну, вот представь себе наш дом, – Никита ласково погладил её по белокурым волосам, – большой он?
– Большой, – серьёзно отвечала Галинка.
– А теперь представь себе сто таких домов, нет тысячу!
– Большой, – вздыхала Галинка и отходила от отца.
Но через минуту снова возвращалась.
– А как ты пошёл на завод папка?
– Как, как, – отшучивался Никита. – Нужно было, да и пошёл.
– А ты расскажи, расскажи, как ты пошёл, – и Галинка доверчиво взглянула на него.
– Как?
И деревянная ложка застыла в руках Никиты. Весь он как-то выпрямился, а глаза стали отрешёнными и далёкими.
Поздняя осень или ранняя зима, нечего нельзя было понять в том сумасшедшем году. Мягкий пушистый снег и раскисшая земля под ногами. Вечерело. Уже готовились спать. Мать, как обычно, помолившись перед сном под образами, уже задувала лампадку.
Вдруг постучали. Громко и нагло. Как к себе домой.
– Продразвёрстка, – и мать тяжело вздохнула.
– Открывай! – Грубый стук в дверь, от которого она едва не сломалась. – Открывай!
Колотили рукоятками трофейных маузеров, сапогами.
Только и успев накинуть, на ночную рубашку платок, мать выбежала во двор.
Их было трое. Двое в кожанках и пистолетами на боку. Третий здоровый коренастый детина в рваном зипуне, из которого клочьями вылезал мех.
– Где зерно, мать? – спросил высокий в кожанке, видимо, старший из них.
– Да нет зерна, соколики, – и мать Никиты, поёживаясь от студёного ветра, виновато развела руками.
– Нету, говоришь? – Криво улыбнулся второй в кожанке приземистый и широкоплечий. – Это мы сейчас проверим. – Давай Фёдор пощупаем кулачиху, – и он подмигнул высокому парню в рваном зипуне.
– Это мы завсегда можем, – и Фёдор шагнул вперёд.
– Не дам! – И мать Никиты рванулась к амбару, куда было ссыпано зерно, – не дам ироды. Креста на вас нет! Чем я детей кормить буду?
– Дашь! – Фёдор грубо и сильно отшвырнул её.
Падая, мать Никиты больно ударилась о край амбара, и тонкая полоска крови показалась на её щеке.
– А вот оно кулачихино добро! – Фёдор меленько засмеялся, обнажая в улыбке кривые, гнилые зубы. – Дашь! – И он шагнул к матери Никиты. – Дашь! – повторил он с ненавистью. – А не дашь. Так мы всех вас как контру, как классового врага к ногтю. Раздавим как вшей! – И он с наслаждением провёл большим пальцем по своему желтому ногтю, коричневому от махорки.
Видно, какая-то болезнь исподволь точила его сильный организм, так как, несмотря на свой высокий рост и широкие плечи, он долго, с покряхтыванием, устанавливал мешок на спине и шёл с ним к телеге осторожно, точно слепой.
– Давай, поторапливайся! – Крикнул высокий Фёдору, – нам ещё пять дворов обойти надо. Солнце вишь, к закату клонится.
Фёдор забегал быстрее. Но это давалось ему тяжело. На его крупном с оспинами лице выступили капельки пота.
– Всё что ли? – спросил высокий у Фёдора.
– Все товарищ Ананий! – подобострастно ответил Фёдор, – хотели схарчить целых четыре мешка, а это верных 10 пудов будет.
– Ну, трогай! – Высокий, в кожанке натянул вожжи, звонко чмокнул губами, и телега, увязая колесами в холодной прокисшей земле, тяжело заскрипела.
Без сил мать прислонилась к двери.
– Пойдём, мама! Поздно уже, – Никита мягко тронул её за плечо.
– Да-да сынок! – И мать взглянула на него невидящими глазами.
С той поры мать Никиты и занемогла. Мороз её прохватил, или за детей она переживала. Но у неё начала мелко трястись голова, а тело сотрясал глубокий нутряной кашель.
Никита, как мог, ухаживал за ней. Поил отваром из берёзовых почек, который посоветовала знакомая старуха.
Зарезал барана и по совету той же старухи вытопил из него жир и с ложечки поил им мать.
Ничего не помогало. Мать таяла на его глазах как свечка. Весной, когда из земли показались первые подснежники, она умерла.
И остался Никита один. Отец ещё раньше погиб в гражданской.
– Бедовый он у тебя был, – частенько говорила мать Никиты, когда он после тяжёлых трудовых буден зажигал керосинку и садился вместе с матерью смотреть фотографии.
Никита осторожно трогал своими чёрными от земли пальцами фотографии с затейливыми вензелями на обороте.
– Это мы в Самаре, – говорила мать Никиты, показывая на молодого вихрастого парня, который был чуть постарше Никиты.
Никита переворачивал фотографию и по складам читал:
– Частная фотография А. П. Никонова.