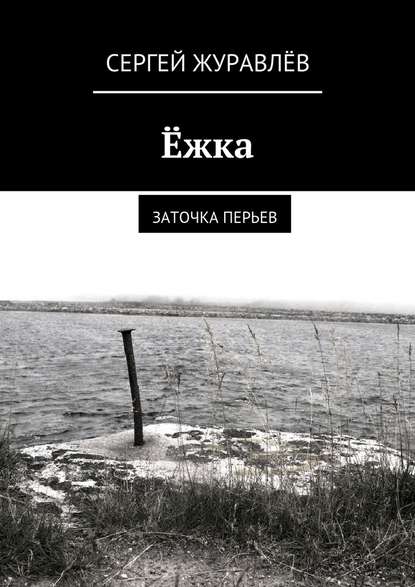По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ёжка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не удержался, спросил Деда:
– Почему у нас Воля такая сложная? И про упорство, и про свободу.
Дед, сельский интеллектуал, всегда подтянутый, признанно справедливый, рассуждающий соседей в спорах, озадачился.
– И правда, сложная. Не думал. Так. Пожди.
Ждал Ёжка ждал, и уехал ни с чем. И только перед смертью, лютой зимой, когда Ёжка приехал проездом погостить днями, Дед разоткровенничался про войну.
Много рассказал, долго рассказывал. Жилы вздувались на лице и шее, местами страшной памяти. Передыхал, умалчивал.
– Отступали бестолково, огрызались, бежали, закапывались, отстреливались. Кончались патроны, снова бежали на наших, затаривались арсеналом, атаковали. Оставшиеся откатывались. Самое страшное началось на Волоколамском шоссе. Москва рядом, вал техники к ней. Все орут. Истребители, все в размочаленную снеговодную грязь. Бомбардировщики – в россыпь. Сталкиваем разбитую технику и бредём. Казалось всё, кончилась война. И вдруг, свеженькие мужики в белых полушубках. Навстречу. Строем. И все перед ними расступаются. За ними сталпливаются. А через время новый строй. И мы уже, за ними, друг друга строим. Ищем, кто бы скомандовал. А в душе Песня! И плевать, что там обратно жуть. Смерть. И мы грязные, рваные, измёрзшие. Собрались под началом юнца-лейтенанта, и просим: «Командир, веди!». Из разных частей, кто в чём, собрались в роту и следом. Так оттопали, почти без оружия километров 20-ть. А нас новенькие танки обгоняют. И гром впереди. Мясорубка. Вдруг тормозит перед нашим «строем» «газон», а из него генерал в скрипящих ремнях. В новенькой, как твоя сейчас, форме. И говорит «До ближайшей деревни. Ждать обоз. На переформировку!» А мы против. Кричим «На передовую хотим, пустите!» И лейтенант геройствует «Товарищ генерал! Как же так. Мы на фронт, а вы нас!». А генералу не до нас «Нарушите приказ, под трибунал!». Поникли мы, бредём. А мимо свежие части, техника. Прут и прут. Лица суровые. И среди них видно сразу, кто впервые, а кто не впервой. Только через месяц нас выпустили на фронт. А ведь казалось же, что и сил нет, и немца не остановить. Откуда всё, и как?!
– Или вот. Идём в атаку, повезло, за танком прячемся. Экипаж знает, что мы за ним, и притормаживает. Пули шмякают в броню, свистят противно. А нам всё неймётся, рожи высовываем, посмотреть что да как. И ведь не нужно. Танк прёт, командир на броне за башней, смотрит. Так нет же, погреешься о выхлоп. Вонючий! Чихаешь, а лезешь, греться. Задохнёшься, отстанешь, догонишь и глядеть, что там впереди. Пока не шмякнет рядом, или не прожужжит. Откинешься «пронесло», пережидаешь. А сосед шею тянет. И всё так, в войну. Знаешь ведь, как риска лишний раз избежать, ан нет, нет нет да лезешь на рожон. Иначе скучно.
Ёжка слушает, представляет. Не получается.
А Дед уже весь в себе, и забыл, что с внучатым племянником делится.
– А как границу то перешли, вот распахнулись то. В Чехии это было. Зашли значит и не поняли. Вроде и отличий от бывшей Польши никаких. Всё ладно, вылизано. А успели привыкнуть к новой Белоруссии, и за своё считали. Да и не было у меня никакой зависти. Вот красиво всё, а не то. Мелко. Скаредно. Но на душе ликование. Словно уже победили. Словно всё позади. И уже не важно, живу быть или костьми лечь, как дед твой под Варшавой, а хорошо! И задор такой был, что городки их брали наотмашь. Пронеслись через Чехословакию штормом. И ухарством вроде бы плескало, а опыт уже не давал погибать. Экономили жизнь, инстинктивно уже, автоматически. И вдруг, граница с Германией. И надписи эти, ненавистные, на указателях. Заходим в городок. А он пустой. Обшарили и остановились на отдых. Командиры собрались в ратуше, а нам, свобода! Ну и пошли мы с товарищем смотреть. Куда не зайдём, везде порядок. Словно немцы, уходя, генеральную уборку перед приходом гостей навели. Если где и есть оторванные двери или штукатурка осыпавшаяся от пуль, так это наши наследили. Зайдёшь в квартиру, а там даже шкафы и шкафчики закрыты. Фотокарточки висят. И на них самодовольные, ухоженные до противного… враги. Злобишься, смотришь и не сдержаться, бьёшь прикладом, пинаешь что ни попадя сапогом. Так прошли пару кварталов, и много всякого, чего и не видали то, а брать противно. И ломать, мазать, рвать быстро надоело. Всё одинаково. Игрушечно. Не по настоящему. Вышли к какой-то фабрике. Красный кирпич, солидно, с узорами. И стена. Большая. Кое-как перемахнули. А фабрика то ткацкая. И опять, чисто всё, аккуратно. Приторно. Попали на склад. А там!!! Ткани, ткани, ткани. Красок, цветов, узоров не счесть. Тут уж не до брезгливости. Мы хватать, выбирать. И то нравится, и это. Час выбирали, вещмешки набивали, опрастывали. Бросались к другим рулонам, отматывали, отрезали. Шли, увлекались, и вновь. На жену всё примерял. И так-то хорошо, и этак. Устали, сели на сваленные рулоны, курили и молчали. Взял я, таки, Марье своей цветастый отрез, да Нюре, сестре в маленьких редких розочках синий, ну и себя не обидел, полосатый кусок на глаз, на костюм, отмахнул. А друг и того меньше, жене да дочке, что поярче, и всё. С полупустыми вещмешками ретировались. Потом неделю друг другу в глаза смотреть не могли. Нюрин отрез так и лежит в чулане. Не притронулась. Да, и вот ещё. Много игрушек было. Но взять не мог. Детей обидеть.
И под утро, между клочков пороховых воспоминаний:
– Вот ты меня про Волю спрашивал (словно вчера?!). Так её хоть думай, хоть передумай. Вот какая есть! Как Петровский медный пятак, о двух сторонах, о двух головах. Тяжёлая. Такая, что подняться и нести не всяк может. И не учит ей никто, да и научить нельзя. Вот есть она у нас, и есть. Выматывающая. Вдохновляющая. Сколько не думал, не объясню. Деда вот твоего всё вспоминаю. Справный был мужик. Вместе уходили, и вот. И кому из нас воля?
У Деда из одного глаза пролилась слеза. Снова вздулись жилы.
***
В 15-ть Ёжка решился пойти в офицеры. А в космонавты постеснялся.
Признание
Ёжка, лет с 14-ти, поделил свою предстоящую жизнь на три этапа. На до нового века и до и после смерти отца.
Во-первых, смена веков представилась ему серединой собственной жизни. Из 14-ти лет тот Ёж казался ему почти стариком.
Во-вторых, ему трафило стать не просто свидетелем перехода в новый век, а первооткрывателем нового тысячелетия, что довелось не так уж и большому числу людей из общей массы, несмотря даже на то, что придумывать начало новых эпох, т.е. отсчёта лет с самого начала, как оказалось, было немало охотников. И он был бы не против приложить руку к новому летоисчислению, совершить или стать участником свершения, достойного старта новой цивилизации. Более того, Ёжка был неколебимо убеждён, что начало 21-го века само по себе станет причиной эпохального сдвига, меняющего саму человеческую сущность. И мнились ему разные сценарии наступления новой эпохи.
Легче всего было с коммунизмом. Для этого требовалось совсем чуть. Убрать бы из привычной жизни деньги и влияние порочного Запада. Идеальным коммунизмом ему представлялись кинокартины 30-х – 50-х годов и рассказы родителей о том, как прошло их детство в чистоте помыслов и подавляющей честности окружавших. Почему-то к его коммунизму путь вёл скорее назад, чем вперёд. В прогрессе и эволюции ощущались угрозы. К тому же, коммунизм ассоциировался вовсе не с раем, а с бесконечной героической борьбой. Причём не за светлое будущее, а за Справедливость, сформулировать целостное определение которой ему никак не удавалось.
Для окончательного перехода к коммунизму требовался глобальный кризис Запада, в котором их деньги полностью обесценятся, а значит и в СССР от денег можно будет отказаться. А каковой станет жизнь после, ему не думалось. Случилось бы, а там Борьба за Справедливость всем воздаст по заслугам их.
Другие сценарии были сложнее и туманней.
Например, триумф Технического прогресса. Казалось, что должно произойти какое-то открытие, которое сделает человека другим. Причём либо путём собственно мутации, либо в результате подчинения Машине. Оба варианта его не прельщали, однако третьего не виделось. Куда мутировать? Отрастить крылья и летать? Заманчиво, но мало что меняет. Меняться внешне как нибудь ещё? Он даже рисовал «идеальных мутантов», меняя им форму, прибавляя членов, но никак не получался гибрид, чтобы был и «полноприводный» и гармоничный. Он придумывал им свойства. Телепортация, чтение мыслей… Всё не то. Фантасты этим уже пугали. Что же тогда должно изменить в человеке открытие, достойное начала новой эры? Доброта!!! Вот смысл и повод для глобальных перемен. Если бы люди перестали быть злыми…
Машина портила всё. И во всём могла помочь. Это противоречие проявляло тщедушного человечишку, оплывшего жиром и способного лишь на команды, и те без утруждений языка. Человек этот мнил себя богом, а на деле Машина притворялась, а может и нет, обожествляя этот водянистый мешок в угоду собственным прихотям. Бр-р-р… Однажды, словно в подтверждение, он прочитал фантастический рассказ о том, как гений изобрёл и совершенствовал механизм, преумножавший его силы и способности, обрастая искусственными мышцами, крыльями и чем-то там ещё, пока надетый на него «костюм» не выбросил хозяина… Человек – атавизм. Вот это повод для начала начал.
Большая война! Что-то будет, если все достижения цивилизации будут уничтожены ей самой? Каким тогда путём пойдут остатки человечества? Неужели снова за прогрессом ради повального уничтожения? Представлялось, как выжившим вновь придётся изобретать «колёса и велосипеды». Скучно повторять, а как и куда стремиться не вторя предкам? В природу! Вглубь себя! Так говорят, что Тибет только тем и занимается. А кому от того хорошо? В веру!? Так ВЕРА ХЛЕБА НЕ НЕСЁТ! Скорее требует постоянных жертв и самоистязаний. Вопрос остался без ответа… тогда.
Инопланетяне! Вот повод для переворота всех начал. Вот тогда то всё бы и узнали. Узнали что? Будущее собственного прогресса? Тайны, не раскрытые ещё наукой? Тайну БОГА!!! А вот на пользу ли? Эх… Как хочется всего и всякого. Как боязно от хотения. Как в этом знании не забыть себя и не разменять собственное будущее на чужую мякину?
Пугал и манил переход.
В-третьих. У него никогда не было сомнений, что отец доживёт до следующего тысячелетия. Но дальше… Если себя он видел стариком, то старость отца казалась невероятной. Отец большой и умный. Добрый молчун, крайне редко взрывавшийся эмоциями. Отец.
В 2000г. Че фатально заболел. Отсчёт начался. Ёжке удалось отодвинуть финал. Операция была успешной, но доктор предупредил – у отца есть ещё лет пять. Если будет беречься. Отец не берёг себя, но прожил дольше. Он старался жить как и раньше, хитрил, укрывая от Му, всё равно всё знавшей, курево и чекушки, а под конец, в открытую – искал допинга в крутом дешёвом кофе… И кто знает, что более коротило его дни. Привычка не отказывать себе, или внутренние борения, не видимые другим и так и не раскрытые родным.
Последние недели, когда отец мог только сидеть и управлять одной рукой, они чуть ли не каждый день пытались говорить по телефону. Ни о чём. Сын твердил «Держись. Впереди так много. Борись за себя прежде всего с собой.»
Отец словно из тумана, через долгие паузы отвечал «Понял. Когда приедешь? Жду.» Сын нажимал «Готовься. Я хочу увидеть тебя сильным. Читай, смотри телевизор. Делай через боль и слабость. Я скоро.» Отец бодрился и даже шутил «Хорошо. Буду песни петь. А приедешь, спляшем.». И ведь спел однажды «На безымянной высоте». Словно и правда, оттуда:
Дымилась роща под горою,
а вместе с ней горел закат.
Нас оставалось только двое…
Потом Ёжка, вспоминая эти дни отца, нещадно корил себя. Даже не столько за то, что не успел приехать. Хотя очень сильно об этом жалел. Его неизбывной болью осталось несказанное отцу «ПИШИ!!!». Он не сомневался, что успей он, они бы так и не поговорили о главном. О том, что отец копил в себе. О том, что думал. Сыну казалось, что если бы он попросил отца писать, то это могло стать толчком к выплеску сокровенного и соломиной, за которую отец мог вцепиться, чтобы жить. И даже если бы и это не спасло, отцом оставлено было бы СЛОВО, совсем не важно как высказанное в бумагу. Было бы ПИСЬМО из вечности. Которое можно было бы читать и читать. Так же точно, как они читали друг друга всегда, молча, часами рядом копошась незначимым или уставясь в книги, чувствовали высокую близость, не нуждавшуюся в словах. И даже когда были вдалеке, вспоминая друг друга, чувствовали теплоту, и как Ня рассказывала позже, отец иногда преображался, светлея вздымал глаза небу и улыбался. Тогда она звонила сыну и пыталась выяснить, думал ли он перед тем о них. Ёжка конечно утверждал, что да. Не придавая этому значения. Однако потом ему вспомнилось, что почти всегда перед такими звонками он сталкивался с проблемой, пытаясь решить которую, спрашивал себя «а что бы посоветовал Че?» И решение находилось. А иной раз на него находило. Он не понимал причину этих странных состояний, когда вдруг бросал всё и переставал, как казалось потом, о чём бы то ни было думать. Прострация была мягкой и комфортной. Краткой и яркой. После он поймал себя на мысли, что именно такая же прострация настигала его в детстве, когда он валялся то на отце, то прижавшись к нему. А отец в это время читал очередную книгу, забыв обо всём вокруг. Возможно, это совпадало с моментами ярчайших впечатлений отца от читаемого. После ухода отца приступы прекратились.
* * *
Ранний звонок матери он воспринял почти спокойно, только собираясь в дорогу всё забывал что-нибудь, чувствуя это, и по несколько минут силясь сосредоточиться.
Тысячекилометровый гон, разбавленный стычками с партизанящими ментами, не внимавшими причине сноровистости до тех пор, пока сторублевки не растапливали их сердца, завершился картиной просветлённого и мечтательного выражения лица отца в гробу. Первые сутки он сидел рядом и не мог поверить, что Че не спит. Только к концу второго дня отец осунулся и не оставил места сомнениям. На лбу проступил памятный шрам.
Ёжка был спокоен и дивился тому. Столь значимый факт его жизни свершился. Дальнейшее не имело значимых вех…
Его сорвало на поминках. Надо было сказать об отце. Но высказать не удалось. Закорёжило. Слёзы предательски пытались пробиться из глаз. Стон рвал дыхание. Сцепленные руки неудержимо тянуло употребить об стол со скудными яствами. Трясло. Зубы скрипели. Было стыдно. Зал столовой, арендованный под дань скорби, молчал и ждал. Эта пауза его и спасла. Если б кто-нибудь рискнул ему пособить в этой борьбе, удержаться бы не далось. А этого он себе позволить не мог, да и Че, казалось, не простил бы. Он после говорил. Речь была стройна и пространна. И не было в ней смысла, слов.
На 10-й день Ёжка уезжал. Мать обречённо суетилась, сознавая, что удержать сына не в силах. Он прозрел только в момент расставания. Мать стала вдруг в два раза меньше, и перестала быть и Му и Ня. Только сейчас превратилась в его глазах в сухую старушку. Его пробили тоска и первая, к той, Му, нежность. Ретировался как то рвано и быстро. Знобило.
По заведённой с похорон брата за три года до, традиции, делая крюк с пути, Ёжка заехал в Туровец.
* * *
Это место вызвало его восторг ещё в 9-м классе, когда позднемайским днём, умкнув отцовскую моторную лодку он в компании с Юкой, Окой и их подругами, впервые забрался в высоченную гору от реки, в плавках. Впрочем и подельники не догадались приодеться иначе.
Поляна о двух церквах в окружении поросших ёлками обрывов поразила его.
Деревянная и каменная церквушки столь органично заполняли пейзаж, что казалось добавить к ним нечего, а убавить нельзя. Пропадёт гармония.
Стоя на краю, они завертелись, оглядываясь. Девчонки завизжали то ли от восторга, то ли балуясь. Неоглядная тайга уходила за горизонт, отделённая от туровецкой горы широченной в разливе Северной Двиной.
Несмотря на отсутствие на главках церквей золочения, они сияли в лучах майского солнца. По северному маленькие оконца словно подмигивали зайчиками, отчего Ёка жмурил глаза. Парни молча двинулись в обход церковной оградки, не сговариваясь о цели. Девчонки припозднились, щебеча звонко о чем то, как вдруг грозный бас, сквозь лаячий рык, словно с неба прогромыхал: «Кыш безбожные!!! Ко храму во трусах! Окоянные грешники. Вон, а то собаку пушшу!!!» Лай не оставил сомнений в намерениях попа, который в закатанных портах и грязной майке стоял среди огорода примкнувшей к краю обрыва избушки. Сомнений, что это поп не могло быть. А кто ж ещё с бородой лопатой и эдаким голосищем?
Компанию сдуло с горы. Ёка всё оглядывался из удалявшейся лодки, пока макушка каменной церкви, которая чуть выше деревянной, не слилась с кромкой леса береговой черты. Компания подавленно молчала, пока не высадилась на бон лодочной станции. Потом они обсуждали, что бы было, если б они таки не сбежали. Ока твердил «Не мог поп собаку пустить. Грех по евонному». Юка не соглашался «А чё ему. Пустил бы. Тогда кому-то могло повезти и без трусов перед девками остаться!» Девчонки прыснули. Ёка представил себя бегущим от собаки без трусов на обомлевших девах и заалел. Юка громко, чтоб его дроля Нашка услышала, заорал «Конечно, Ёжку бы собака выбрала! Во бы он бесштанным то, да по крапиве?!» Действительно, весь склон горы был словно усеян молодой и потому особо злой крапивой, и поднимались они гуськом по узкой тропке. А вот как катились вниз, никто особо не разбирал, и обожжённые ноги нещадно зудели.
Слова Юки были обидны, но Ёжка признался себе, что вряд ли собака пропустила бы его, так как дружки были как всегда не в пример шустрее, и в лодке оказались быстрее девчонок, которые весь путь через Северную Двину, Вычегду и по затону до Лименды подхихикивали над их трусостью. Так, что Юка, дразня Ёку, пытался перевести стрелки на вечно неуклюжего и крайне застенчивого друга. Реакция Юкиной подруги была мгновенной.
– Почему у нас Воля такая сложная? И про упорство, и про свободу.
Дед, сельский интеллектуал, всегда подтянутый, признанно справедливый, рассуждающий соседей в спорах, озадачился.
– И правда, сложная. Не думал. Так. Пожди.
Ждал Ёжка ждал, и уехал ни с чем. И только перед смертью, лютой зимой, когда Ёжка приехал проездом погостить днями, Дед разоткровенничался про войну.
Много рассказал, долго рассказывал. Жилы вздувались на лице и шее, местами страшной памяти. Передыхал, умалчивал.
– Отступали бестолково, огрызались, бежали, закапывались, отстреливались. Кончались патроны, снова бежали на наших, затаривались арсеналом, атаковали. Оставшиеся откатывались. Самое страшное началось на Волоколамском шоссе. Москва рядом, вал техники к ней. Все орут. Истребители, все в размочаленную снеговодную грязь. Бомбардировщики – в россыпь. Сталкиваем разбитую технику и бредём. Казалось всё, кончилась война. И вдруг, свеженькие мужики в белых полушубках. Навстречу. Строем. И все перед ними расступаются. За ними сталпливаются. А через время новый строй. И мы уже, за ними, друг друга строим. Ищем, кто бы скомандовал. А в душе Песня! И плевать, что там обратно жуть. Смерть. И мы грязные, рваные, измёрзшие. Собрались под началом юнца-лейтенанта, и просим: «Командир, веди!». Из разных частей, кто в чём, собрались в роту и следом. Так оттопали, почти без оружия километров 20-ть. А нас новенькие танки обгоняют. И гром впереди. Мясорубка. Вдруг тормозит перед нашим «строем» «газон», а из него генерал в скрипящих ремнях. В новенькой, как твоя сейчас, форме. И говорит «До ближайшей деревни. Ждать обоз. На переформировку!» А мы против. Кричим «На передовую хотим, пустите!» И лейтенант геройствует «Товарищ генерал! Как же так. Мы на фронт, а вы нас!». А генералу не до нас «Нарушите приказ, под трибунал!». Поникли мы, бредём. А мимо свежие части, техника. Прут и прут. Лица суровые. И среди них видно сразу, кто впервые, а кто не впервой. Только через месяц нас выпустили на фронт. А ведь казалось же, что и сил нет, и немца не остановить. Откуда всё, и как?!
– Или вот. Идём в атаку, повезло, за танком прячемся. Экипаж знает, что мы за ним, и притормаживает. Пули шмякают в броню, свистят противно. А нам всё неймётся, рожи высовываем, посмотреть что да как. И ведь не нужно. Танк прёт, командир на броне за башней, смотрит. Так нет же, погреешься о выхлоп. Вонючий! Чихаешь, а лезешь, греться. Задохнёшься, отстанешь, догонишь и глядеть, что там впереди. Пока не шмякнет рядом, или не прожужжит. Откинешься «пронесло», пережидаешь. А сосед шею тянет. И всё так, в войну. Знаешь ведь, как риска лишний раз избежать, ан нет, нет нет да лезешь на рожон. Иначе скучно.
Ёжка слушает, представляет. Не получается.
А Дед уже весь в себе, и забыл, что с внучатым племянником делится.
– А как границу то перешли, вот распахнулись то. В Чехии это было. Зашли значит и не поняли. Вроде и отличий от бывшей Польши никаких. Всё ладно, вылизано. А успели привыкнуть к новой Белоруссии, и за своё считали. Да и не было у меня никакой зависти. Вот красиво всё, а не то. Мелко. Скаредно. Но на душе ликование. Словно уже победили. Словно всё позади. И уже не важно, живу быть или костьми лечь, как дед твой под Варшавой, а хорошо! И задор такой был, что городки их брали наотмашь. Пронеслись через Чехословакию штормом. И ухарством вроде бы плескало, а опыт уже не давал погибать. Экономили жизнь, инстинктивно уже, автоматически. И вдруг, граница с Германией. И надписи эти, ненавистные, на указателях. Заходим в городок. А он пустой. Обшарили и остановились на отдых. Командиры собрались в ратуше, а нам, свобода! Ну и пошли мы с товарищем смотреть. Куда не зайдём, везде порядок. Словно немцы, уходя, генеральную уборку перед приходом гостей навели. Если где и есть оторванные двери или штукатурка осыпавшаяся от пуль, так это наши наследили. Зайдёшь в квартиру, а там даже шкафы и шкафчики закрыты. Фотокарточки висят. И на них самодовольные, ухоженные до противного… враги. Злобишься, смотришь и не сдержаться, бьёшь прикладом, пинаешь что ни попадя сапогом. Так прошли пару кварталов, и много всякого, чего и не видали то, а брать противно. И ломать, мазать, рвать быстро надоело. Всё одинаково. Игрушечно. Не по настоящему. Вышли к какой-то фабрике. Красный кирпич, солидно, с узорами. И стена. Большая. Кое-как перемахнули. А фабрика то ткацкая. И опять, чисто всё, аккуратно. Приторно. Попали на склад. А там!!! Ткани, ткани, ткани. Красок, цветов, узоров не счесть. Тут уж не до брезгливости. Мы хватать, выбирать. И то нравится, и это. Час выбирали, вещмешки набивали, опрастывали. Бросались к другим рулонам, отматывали, отрезали. Шли, увлекались, и вновь. На жену всё примерял. И так-то хорошо, и этак. Устали, сели на сваленные рулоны, курили и молчали. Взял я, таки, Марье своей цветастый отрез, да Нюре, сестре в маленьких редких розочках синий, ну и себя не обидел, полосатый кусок на глаз, на костюм, отмахнул. А друг и того меньше, жене да дочке, что поярче, и всё. С полупустыми вещмешками ретировались. Потом неделю друг другу в глаза смотреть не могли. Нюрин отрез так и лежит в чулане. Не притронулась. Да, и вот ещё. Много игрушек было. Но взять не мог. Детей обидеть.
И под утро, между клочков пороховых воспоминаний:
– Вот ты меня про Волю спрашивал (словно вчера?!). Так её хоть думай, хоть передумай. Вот какая есть! Как Петровский медный пятак, о двух сторонах, о двух головах. Тяжёлая. Такая, что подняться и нести не всяк может. И не учит ей никто, да и научить нельзя. Вот есть она у нас, и есть. Выматывающая. Вдохновляющая. Сколько не думал, не объясню. Деда вот твоего всё вспоминаю. Справный был мужик. Вместе уходили, и вот. И кому из нас воля?
У Деда из одного глаза пролилась слеза. Снова вздулись жилы.
***
В 15-ть Ёжка решился пойти в офицеры. А в космонавты постеснялся.
Признание
Ёжка, лет с 14-ти, поделил свою предстоящую жизнь на три этапа. На до нового века и до и после смерти отца.
Во-первых, смена веков представилась ему серединой собственной жизни. Из 14-ти лет тот Ёж казался ему почти стариком.
Во-вторых, ему трафило стать не просто свидетелем перехода в новый век, а первооткрывателем нового тысячелетия, что довелось не так уж и большому числу людей из общей массы, несмотря даже на то, что придумывать начало новых эпох, т.е. отсчёта лет с самого начала, как оказалось, было немало охотников. И он был бы не против приложить руку к новому летоисчислению, совершить или стать участником свершения, достойного старта новой цивилизации. Более того, Ёжка был неколебимо убеждён, что начало 21-го века само по себе станет причиной эпохального сдвига, меняющего саму человеческую сущность. И мнились ему разные сценарии наступления новой эпохи.
Легче всего было с коммунизмом. Для этого требовалось совсем чуть. Убрать бы из привычной жизни деньги и влияние порочного Запада. Идеальным коммунизмом ему представлялись кинокартины 30-х – 50-х годов и рассказы родителей о том, как прошло их детство в чистоте помыслов и подавляющей честности окружавших. Почему-то к его коммунизму путь вёл скорее назад, чем вперёд. В прогрессе и эволюции ощущались угрозы. К тому же, коммунизм ассоциировался вовсе не с раем, а с бесконечной героической борьбой. Причём не за светлое будущее, а за Справедливость, сформулировать целостное определение которой ему никак не удавалось.
Для окончательного перехода к коммунизму требовался глобальный кризис Запада, в котором их деньги полностью обесценятся, а значит и в СССР от денег можно будет отказаться. А каковой станет жизнь после, ему не думалось. Случилось бы, а там Борьба за Справедливость всем воздаст по заслугам их.
Другие сценарии были сложнее и туманней.
Например, триумф Технического прогресса. Казалось, что должно произойти какое-то открытие, которое сделает человека другим. Причём либо путём собственно мутации, либо в результате подчинения Машине. Оба варианта его не прельщали, однако третьего не виделось. Куда мутировать? Отрастить крылья и летать? Заманчиво, но мало что меняет. Меняться внешне как нибудь ещё? Он даже рисовал «идеальных мутантов», меняя им форму, прибавляя членов, но никак не получался гибрид, чтобы был и «полноприводный» и гармоничный. Он придумывал им свойства. Телепортация, чтение мыслей… Всё не то. Фантасты этим уже пугали. Что же тогда должно изменить в человеке открытие, достойное начала новой эры? Доброта!!! Вот смысл и повод для глобальных перемен. Если бы люди перестали быть злыми…
Машина портила всё. И во всём могла помочь. Это противоречие проявляло тщедушного человечишку, оплывшего жиром и способного лишь на команды, и те без утруждений языка. Человек этот мнил себя богом, а на деле Машина притворялась, а может и нет, обожествляя этот водянистый мешок в угоду собственным прихотям. Бр-р-р… Однажды, словно в подтверждение, он прочитал фантастический рассказ о том, как гений изобрёл и совершенствовал механизм, преумножавший его силы и способности, обрастая искусственными мышцами, крыльями и чем-то там ещё, пока надетый на него «костюм» не выбросил хозяина… Человек – атавизм. Вот это повод для начала начал.
Большая война! Что-то будет, если все достижения цивилизации будут уничтожены ей самой? Каким тогда путём пойдут остатки человечества? Неужели снова за прогрессом ради повального уничтожения? Представлялось, как выжившим вновь придётся изобретать «колёса и велосипеды». Скучно повторять, а как и куда стремиться не вторя предкам? В природу! Вглубь себя! Так говорят, что Тибет только тем и занимается. А кому от того хорошо? В веру!? Так ВЕРА ХЛЕБА НЕ НЕСЁТ! Скорее требует постоянных жертв и самоистязаний. Вопрос остался без ответа… тогда.
Инопланетяне! Вот повод для переворота всех начал. Вот тогда то всё бы и узнали. Узнали что? Будущее собственного прогресса? Тайны, не раскрытые ещё наукой? Тайну БОГА!!! А вот на пользу ли? Эх… Как хочется всего и всякого. Как боязно от хотения. Как в этом знании не забыть себя и не разменять собственное будущее на чужую мякину?
Пугал и манил переход.
В-третьих. У него никогда не было сомнений, что отец доживёт до следующего тысячелетия. Но дальше… Если себя он видел стариком, то старость отца казалась невероятной. Отец большой и умный. Добрый молчун, крайне редко взрывавшийся эмоциями. Отец.
В 2000г. Че фатально заболел. Отсчёт начался. Ёжке удалось отодвинуть финал. Операция была успешной, но доктор предупредил – у отца есть ещё лет пять. Если будет беречься. Отец не берёг себя, но прожил дольше. Он старался жить как и раньше, хитрил, укрывая от Му, всё равно всё знавшей, курево и чекушки, а под конец, в открытую – искал допинга в крутом дешёвом кофе… И кто знает, что более коротило его дни. Привычка не отказывать себе, или внутренние борения, не видимые другим и так и не раскрытые родным.
Последние недели, когда отец мог только сидеть и управлять одной рукой, они чуть ли не каждый день пытались говорить по телефону. Ни о чём. Сын твердил «Держись. Впереди так много. Борись за себя прежде всего с собой.»
Отец словно из тумана, через долгие паузы отвечал «Понял. Когда приедешь? Жду.» Сын нажимал «Готовься. Я хочу увидеть тебя сильным. Читай, смотри телевизор. Делай через боль и слабость. Я скоро.» Отец бодрился и даже шутил «Хорошо. Буду песни петь. А приедешь, спляшем.». И ведь спел однажды «На безымянной высоте». Словно и правда, оттуда:
Дымилась роща под горою,
а вместе с ней горел закат.
Нас оставалось только двое…
Потом Ёжка, вспоминая эти дни отца, нещадно корил себя. Даже не столько за то, что не успел приехать. Хотя очень сильно об этом жалел. Его неизбывной болью осталось несказанное отцу «ПИШИ!!!». Он не сомневался, что успей он, они бы так и не поговорили о главном. О том, что отец копил в себе. О том, что думал. Сыну казалось, что если бы он попросил отца писать, то это могло стать толчком к выплеску сокровенного и соломиной, за которую отец мог вцепиться, чтобы жить. И даже если бы и это не спасло, отцом оставлено было бы СЛОВО, совсем не важно как высказанное в бумагу. Было бы ПИСЬМО из вечности. Которое можно было бы читать и читать. Так же точно, как они читали друг друга всегда, молча, часами рядом копошась незначимым или уставясь в книги, чувствовали высокую близость, не нуждавшуюся в словах. И даже когда были вдалеке, вспоминая друг друга, чувствовали теплоту, и как Ня рассказывала позже, отец иногда преображался, светлея вздымал глаза небу и улыбался. Тогда она звонила сыну и пыталась выяснить, думал ли он перед тем о них. Ёжка конечно утверждал, что да. Не придавая этому значения. Однако потом ему вспомнилось, что почти всегда перед такими звонками он сталкивался с проблемой, пытаясь решить которую, спрашивал себя «а что бы посоветовал Че?» И решение находилось. А иной раз на него находило. Он не понимал причину этих странных состояний, когда вдруг бросал всё и переставал, как казалось потом, о чём бы то ни было думать. Прострация была мягкой и комфортной. Краткой и яркой. После он поймал себя на мысли, что именно такая же прострация настигала его в детстве, когда он валялся то на отце, то прижавшись к нему. А отец в это время читал очередную книгу, забыв обо всём вокруг. Возможно, это совпадало с моментами ярчайших впечатлений отца от читаемого. После ухода отца приступы прекратились.
* * *
Ранний звонок матери он воспринял почти спокойно, только собираясь в дорогу всё забывал что-нибудь, чувствуя это, и по несколько минут силясь сосредоточиться.
Тысячекилометровый гон, разбавленный стычками с партизанящими ментами, не внимавшими причине сноровистости до тех пор, пока сторублевки не растапливали их сердца, завершился картиной просветлённого и мечтательного выражения лица отца в гробу. Первые сутки он сидел рядом и не мог поверить, что Че не спит. Только к концу второго дня отец осунулся и не оставил места сомнениям. На лбу проступил памятный шрам.
Ёжка был спокоен и дивился тому. Столь значимый факт его жизни свершился. Дальнейшее не имело значимых вех…
Его сорвало на поминках. Надо было сказать об отце. Но высказать не удалось. Закорёжило. Слёзы предательски пытались пробиться из глаз. Стон рвал дыхание. Сцепленные руки неудержимо тянуло употребить об стол со скудными яствами. Трясло. Зубы скрипели. Было стыдно. Зал столовой, арендованный под дань скорби, молчал и ждал. Эта пауза его и спасла. Если б кто-нибудь рискнул ему пособить в этой борьбе, удержаться бы не далось. А этого он себе позволить не мог, да и Че, казалось, не простил бы. Он после говорил. Речь была стройна и пространна. И не было в ней смысла, слов.
На 10-й день Ёжка уезжал. Мать обречённо суетилась, сознавая, что удержать сына не в силах. Он прозрел только в момент расставания. Мать стала вдруг в два раза меньше, и перестала быть и Му и Ня. Только сейчас превратилась в его глазах в сухую старушку. Его пробили тоска и первая, к той, Му, нежность. Ретировался как то рвано и быстро. Знобило.
По заведённой с похорон брата за три года до, традиции, делая крюк с пути, Ёжка заехал в Туровец.
* * *
Это место вызвало его восторг ещё в 9-м классе, когда позднемайским днём, умкнув отцовскую моторную лодку он в компании с Юкой, Окой и их подругами, впервые забрался в высоченную гору от реки, в плавках. Впрочем и подельники не догадались приодеться иначе.
Поляна о двух церквах в окружении поросших ёлками обрывов поразила его.
Деревянная и каменная церквушки столь органично заполняли пейзаж, что казалось добавить к ним нечего, а убавить нельзя. Пропадёт гармония.
Стоя на краю, они завертелись, оглядываясь. Девчонки завизжали то ли от восторга, то ли балуясь. Неоглядная тайга уходила за горизонт, отделённая от туровецкой горы широченной в разливе Северной Двиной.
Несмотря на отсутствие на главках церквей золочения, они сияли в лучах майского солнца. По северному маленькие оконца словно подмигивали зайчиками, отчего Ёка жмурил глаза. Парни молча двинулись в обход церковной оградки, не сговариваясь о цели. Девчонки припозднились, щебеча звонко о чем то, как вдруг грозный бас, сквозь лаячий рык, словно с неба прогромыхал: «Кыш безбожные!!! Ко храму во трусах! Окоянные грешники. Вон, а то собаку пушшу!!!» Лай не оставил сомнений в намерениях попа, который в закатанных портах и грязной майке стоял среди огорода примкнувшей к краю обрыва избушки. Сомнений, что это поп не могло быть. А кто ж ещё с бородой лопатой и эдаким голосищем?
Компанию сдуло с горы. Ёка всё оглядывался из удалявшейся лодки, пока макушка каменной церкви, которая чуть выше деревянной, не слилась с кромкой леса береговой черты. Компания подавленно молчала, пока не высадилась на бон лодочной станции. Потом они обсуждали, что бы было, если б они таки не сбежали. Ока твердил «Не мог поп собаку пустить. Грех по евонному». Юка не соглашался «А чё ему. Пустил бы. Тогда кому-то могло повезти и без трусов перед девками остаться!» Девчонки прыснули. Ёка представил себя бегущим от собаки без трусов на обомлевших девах и заалел. Юка громко, чтоб его дроля Нашка услышала, заорал «Конечно, Ёжку бы собака выбрала! Во бы он бесштанным то, да по крапиве?!» Действительно, весь склон горы был словно усеян молодой и потому особо злой крапивой, и поднимались они гуськом по узкой тропке. А вот как катились вниз, никто особо не разбирал, и обожжённые ноги нещадно зудели.
Слова Юки были обидны, но Ёжка признался себе, что вряд ли собака пропустила бы его, так как дружки были как всегда не в пример шустрее, и в лодке оказались быстрее девчонок, которые весь путь через Северную Двину, Вычегду и по затону до Лименды подхихикивали над их трусостью. Так, что Юка, дразня Ёку, пытался перевести стрелки на вечно неуклюжего и крайне застенчивого друга. Реакция Юкиной подруги была мгновенной.