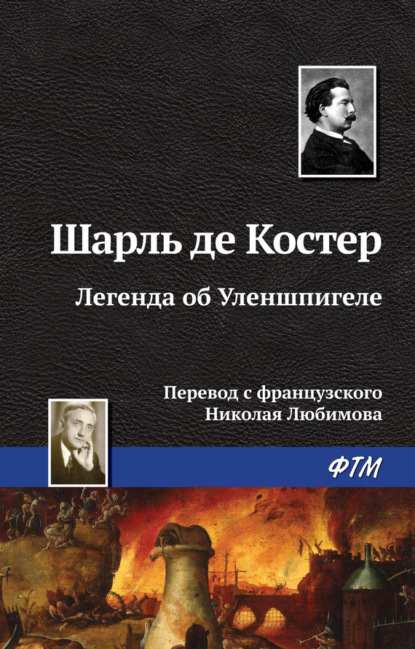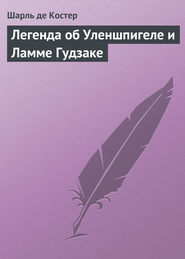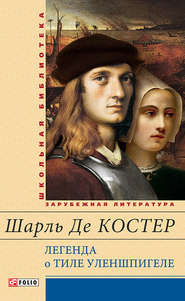По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Легенда об Уленшпигеле
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я – Уленшпигель, сын Клааса и Сооткин, – отвечал тот.
Катлина подняла голову и, узнав Уленшпигеля, поманила его.
– Когда ты увидишь того, чьи поцелуи холодны как лед, скажи ему, Уленшпигель, что я его жду, – прошептала она ему на ухо и, показав свою обожженную голову, продолжала: – Мне больно. Они отняли у меня разум, но когда Ганс придет, он вложит мне его в голову, а то она сейчас совсем пустая. Слышишь? Звенит, как колокол, – это моя душа стучится, просится наружу, а то ведь там, внутри, все в огне. Если Ганс придет и не захочет вложить мне в голову разум, я попрошу его проделать в ней ножом дыру, а то душа моя все стучится, все рвется на волю и причиняет мне дикую боль – я не вынесу, я умру от этой боли. Я уже не сплю, все жду его – пусть он вложит мне в голову разум, пусть вложит!
И тут она прислонилась к стене дома и застонала.
Крестьяне, заслышав колокольный звон, шли с поля домой обедать и, проходя мимо Катлины, говорили:
– Вон дурочка.
И крестились.
А Неле и Уленшпигель плакали. А Уленшпигелю надо было продолжать страннический свой путь.
41
Некоторое время спустя странник наш поступил на службу к некоему Иосту по прозвищу Kwaebakker, то есть «сердитый булочник» – такая у него была злющая рожа. Kwaebakker выдал ему на неделю три черствых хлебца, а для спанья отвел место на чердаке, где и лило и дуло на совесть.
В отместку за дурное обхождение Уленшпигель шутил с ним всевозможные шутки и, между прочим, сыграл такую… Кто задумал печь хлеб спозаранку, тот просеивает муку ночью. И вот однажды, лунной ночью, Уленшпигель попросил свечу, чтобы было виднее, но хозяин ему на это сказал:
– Просеивай там, где луна светит.
Уленшпигель стал послушно сыпать муку на землю – там, куда падал лунный свет.
Утром Kwaebakker пришел посмотреть работу Уленшпигеля и, увидев, что тот все еще просеивает, спросил:
– Ты зачем муку наземь сыплешь? Или она теперь нипочем?
– Я исполнил ваше приказание – просеивал муку там, где луна светит, – отвечал Уленшпигель.
– Осел ты этакий! – вскричал булочник. – Через сито надо было просеивать!
– Я думал, что луна – это новоизобретенное сито, – сказал Уленшпигель. – Впрочем, беда невелика, я сейчас соберу муку.
– Да ведь уж поздно месить тесто и печь хлеб, – возразил Kwaebakker.
– Baes[68 - Хозяин (флам.).], у твоего соседа, у мельника, есть готовое тесто. Давай я сбегаю? – предложил Уленшпигель.
– Иди на виселицу, – огрызнулся Kwaebakker, – может, там что-нибудь найдешь.
– Сейчас, baes, – молвил Уленшпигель.
С этими словами он побежал на Поле виселиц, нашел там высохшую руку преступника и принес ее Kwaebakker’у.
– Эта рука заколдованная, – объявил он, – кто ее с собой носит, тот для всех становится невидимкой. Хочешь спрятать свой дурной нрав?
– Я пожалуюсь на тебя в общину, – сказал Kwaebakker, – там ты увидишь, что значит не слушаться хозяина.
Стоя вместе с Уленшпигелем перед бургомистром и собираясь развернуть бесконечный свиток злодеяний своего работника, Kwaebakker вдруг заметил, что тот изо всех сил пялит на него глаза. Это его так взбесило, что он прервал свою жалобу и крикнул:
– Что еще?
– Ты же сам сказал, что докажешь мою вину и я ее увижу, – отвечал Уленшпигель. – Вот я и хочу ее увидеть, потому и смотрю.
– Прочь с глаз моих! – взревел булочник.
– Будь я на твоих глазах, то, когда бы ты их зажмурил, я мог бы вылезти только через твои ноздри, – возразил Уленшпигель.
Бургомистр, видя, что оба порют чушь несусветную, не стал их слушать.
Уленшпигель и Kwaebakker вышли вместе. Kwaebakker замахнулся на него палкой, но Уленшпигель увернулся.
– Baes, – сказал он, – коль скоро ты замыслил побоями высеять из меня муку, то возьми себе отруби – свою злость, а мне отдай муку – мою веселость. – И, показав ему задний свой лик, прибавил: – А вот это устье печки – пеки на здоровье.
42
Уленшпигелю так надоело странствовать, что он с удовольствием заделался бы не вором с большой дороги, а вором большой дороги, да уж больно тяжелым была она вымощена булыжником.
Он пошел на авось в Ауденаарде, где стоял тогда гарнизон фламандских рейтаров, охранявший город от французских отрядов, которые, как саранча, опустошали край.
Фламандскими рейтарами командовал фрисландец Корнюин. Рейтары тоже рыскали по всей округе и грабили народ, а народ, как всегда, был между двух огней.
Рейтарам все шло на потребу: куры, цыплята, утки, голуби, телята, свиньи. Однажды, когда они возвращались с добычей, Корнюин и его лейтенанты обнаружили под деревом Уленшпигеля, спавшего и видевшего жаркое.
– Чем ты промышляешь? – осведомился Корнюин.
– Умираю с голоду, – отвечал Уленшпигель.
– Что ты умеешь делать?
– Паломничать за свои прегрешения, смотреть, как трудятся другие, плясать на канате, рисовать хорошенькие личики, вырезывать черенки для ножей, тренькать на rommelpot’е и играть на трубе.
О трубе Уленшпигель так смело заговорил потому, что после смерти престарелого сторожа Ауденаардского замка должность эта все еще оставалась свободной.
– Быть тебе городским трубачом, – порешил Корнюин.
Уленшпигель пошел за ним и был помещен в самой высокой из городских башен, в клетушке, доступной всем ветрам, кроме полдника, который задевал ее одним крылом.
Уленшпигелю было велено трубить в трубу, чуть только он завидит неприятеля, но так как для этого голова должна быть ясная, а глаза постоянно открыты, Уленшпигеля держали впроголодь.
Военачальник и его рубаки жили в башне, и там у них шел непрерывный пир за счет окрестных деревень. Одних каплунов рейтары зарезали и сожрали невесть сколько, не найдя на них никакой другой вины, кроме той, что они были жирные. Об Уленшпигеле всегда забывали, и он, с тоской принюхиваясь к запаху кушаний, пробавлялся пустой похлебкой. Как-то раз налетели французы и увели много скота. Уленшпигель не трубил.
Корнюин поднялся к нему в каморку.
– Ты что же не трубил? – спросил он.
– У меня не хватило духу отблагодарить вас за харчи, – отвечал он.
Катлина подняла голову и, узнав Уленшпигеля, поманила его.
– Когда ты увидишь того, чьи поцелуи холодны как лед, скажи ему, Уленшпигель, что я его жду, – прошептала она ему на ухо и, показав свою обожженную голову, продолжала: – Мне больно. Они отняли у меня разум, но когда Ганс придет, он вложит мне его в голову, а то она сейчас совсем пустая. Слышишь? Звенит, как колокол, – это моя душа стучится, просится наружу, а то ведь там, внутри, все в огне. Если Ганс придет и не захочет вложить мне в голову разум, я попрошу его проделать в ней ножом дыру, а то душа моя все стучится, все рвется на волю и причиняет мне дикую боль – я не вынесу, я умру от этой боли. Я уже не сплю, все жду его – пусть он вложит мне в голову разум, пусть вложит!
И тут она прислонилась к стене дома и застонала.
Крестьяне, заслышав колокольный звон, шли с поля домой обедать и, проходя мимо Катлины, говорили:
– Вон дурочка.
И крестились.
А Неле и Уленшпигель плакали. А Уленшпигелю надо было продолжать страннический свой путь.
41
Некоторое время спустя странник наш поступил на службу к некоему Иосту по прозвищу Kwaebakker, то есть «сердитый булочник» – такая у него была злющая рожа. Kwaebakker выдал ему на неделю три черствых хлебца, а для спанья отвел место на чердаке, где и лило и дуло на совесть.
В отместку за дурное обхождение Уленшпигель шутил с ним всевозможные шутки и, между прочим, сыграл такую… Кто задумал печь хлеб спозаранку, тот просеивает муку ночью. И вот однажды, лунной ночью, Уленшпигель попросил свечу, чтобы было виднее, но хозяин ему на это сказал:
– Просеивай там, где луна светит.
Уленшпигель стал послушно сыпать муку на землю – там, куда падал лунный свет.
Утром Kwaebakker пришел посмотреть работу Уленшпигеля и, увидев, что тот все еще просеивает, спросил:
– Ты зачем муку наземь сыплешь? Или она теперь нипочем?
– Я исполнил ваше приказание – просеивал муку там, где луна светит, – отвечал Уленшпигель.
– Осел ты этакий! – вскричал булочник. – Через сито надо было просеивать!
– Я думал, что луна – это новоизобретенное сито, – сказал Уленшпигель. – Впрочем, беда невелика, я сейчас соберу муку.
– Да ведь уж поздно месить тесто и печь хлеб, – возразил Kwaebakker.
– Baes[68 - Хозяин (флам.).], у твоего соседа, у мельника, есть готовое тесто. Давай я сбегаю? – предложил Уленшпигель.
– Иди на виселицу, – огрызнулся Kwaebakker, – может, там что-нибудь найдешь.
– Сейчас, baes, – молвил Уленшпигель.
С этими словами он побежал на Поле виселиц, нашел там высохшую руку преступника и принес ее Kwaebakker’у.
– Эта рука заколдованная, – объявил он, – кто ее с собой носит, тот для всех становится невидимкой. Хочешь спрятать свой дурной нрав?
– Я пожалуюсь на тебя в общину, – сказал Kwaebakker, – там ты увидишь, что значит не слушаться хозяина.
Стоя вместе с Уленшпигелем перед бургомистром и собираясь развернуть бесконечный свиток злодеяний своего работника, Kwaebakker вдруг заметил, что тот изо всех сил пялит на него глаза. Это его так взбесило, что он прервал свою жалобу и крикнул:
– Что еще?
– Ты же сам сказал, что докажешь мою вину и я ее увижу, – отвечал Уленшпигель. – Вот я и хочу ее увидеть, потому и смотрю.
– Прочь с глаз моих! – взревел булочник.
– Будь я на твоих глазах, то, когда бы ты их зажмурил, я мог бы вылезти только через твои ноздри, – возразил Уленшпигель.
Бургомистр, видя, что оба порют чушь несусветную, не стал их слушать.
Уленшпигель и Kwaebakker вышли вместе. Kwaebakker замахнулся на него палкой, но Уленшпигель увернулся.
– Baes, – сказал он, – коль скоро ты замыслил побоями высеять из меня муку, то возьми себе отруби – свою злость, а мне отдай муку – мою веселость. – И, показав ему задний свой лик, прибавил: – А вот это устье печки – пеки на здоровье.
42
Уленшпигелю так надоело странствовать, что он с удовольствием заделался бы не вором с большой дороги, а вором большой дороги, да уж больно тяжелым была она вымощена булыжником.
Он пошел на авось в Ауденаарде, где стоял тогда гарнизон фламандских рейтаров, охранявший город от французских отрядов, которые, как саранча, опустошали край.
Фламандскими рейтарами командовал фрисландец Корнюин. Рейтары тоже рыскали по всей округе и грабили народ, а народ, как всегда, был между двух огней.
Рейтарам все шло на потребу: куры, цыплята, утки, голуби, телята, свиньи. Однажды, когда они возвращались с добычей, Корнюин и его лейтенанты обнаружили под деревом Уленшпигеля, спавшего и видевшего жаркое.
– Чем ты промышляешь? – осведомился Корнюин.
– Умираю с голоду, – отвечал Уленшпигель.
– Что ты умеешь делать?
– Паломничать за свои прегрешения, смотреть, как трудятся другие, плясать на канате, рисовать хорошенькие личики, вырезывать черенки для ножей, тренькать на rommelpot’е и играть на трубе.
О трубе Уленшпигель так смело заговорил потому, что после смерти престарелого сторожа Ауденаардского замка должность эта все еще оставалась свободной.
– Быть тебе городским трубачом, – порешил Корнюин.
Уленшпигель пошел за ним и был помещен в самой высокой из городских башен, в клетушке, доступной всем ветрам, кроме полдника, который задевал ее одним крылом.
Уленшпигелю было велено трубить в трубу, чуть только он завидит неприятеля, но так как для этого голова должна быть ясная, а глаза постоянно открыты, Уленшпигеля держали впроголодь.
Военачальник и его рубаки жили в башне, и там у них шел непрерывный пир за счет окрестных деревень. Одних каплунов рейтары зарезали и сожрали невесть сколько, не найдя на них никакой другой вины, кроме той, что они были жирные. Об Уленшпигеле всегда забывали, и он, с тоской принюхиваясь к запаху кушаний, пробавлялся пустой похлебкой. Как-то раз налетели французы и увели много скота. Уленшпигель не трубил.
Корнюин поднялся к нему в каморку.
– Ты что же не трубил? – спросил он.
– У меня не хватило духу отблагодарить вас за харчи, – отвечал он.