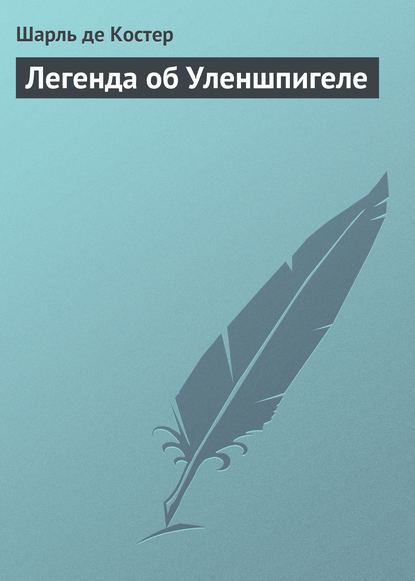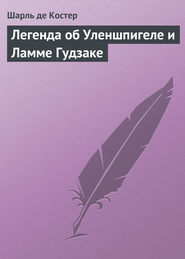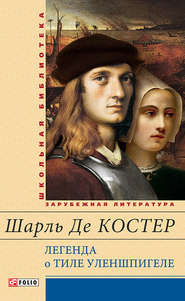По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Легенда об Уленшпигеле
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На палубе показался человек и крикнул петухом. Тогда Уленшпигель сделал ему какой-то знак и заревел по-ослиному, указывая при этом на толпу народа, кишевшую на берегу. Тот ответил тоже могучим ослиным рёвом: и-а! И ослы Уленшпигеля и Ламме, насторожив уши, присоединились изо всех сил к этому родному звуку.
Проходили женщины, проезжали мужчины верхом на лошадях, тащивших суда, и Уленшпигель обратился к Ламме:
– Этот судовщик насмехается над нами и нашими ослами. Не отлупить ли нам его на его барке?
– Пусть лучше он сюда придёт, – ответил Ламме.
– Если вы, – посоветовала им проходящая женщина, – не хотите вернуться с переломанными ногами и руками и изувеченным лицом, то оставьте этого Стерке Пира реветь столько, сколько его душе угодно.
– И-а, и-а, и-а! – ревел судовщик.
– Пусть ревёт, – говорила женщина, – на-днях он на наших глазах приподнял повозку, нагруженную тяжёлыми пивными бочками, и остановил на ходу другую, запряжённую здоровенной лошадью. Вон там, – она указала на корчму «Синяя башня», – он, бросив свой нож на расстоянии двадцати шагов, пробил им дубовую доску в двенадцать дюймов толщиной.
– И-а, и-а, и-а! – орал судовщик, и ему вторил мальчишка лет двенадцати, тоже вылезший на палубу.
– Не боимся мы твоего Петра Сильного. Пусть он так зовётся, этот Стерке Пир. Мы посильнее его – и вот перед тобой мой друг Ламме, который может пару таких слопать без отрыжки.
– Что ты несёшь, сын мой, – спросил Ламме.
– То, что есть, – ответил Уленшпигель. – Не противоречь мне из скромности. Да, добрые люди, скоро вы увидите, как разойдётся его рука и как он обработает вашего знаменитого Стерке Пира.
– Да помолчи, – сказал Ламме.
– Твоя сила известна, не к чему её скрывать, – говорил Уленшпигель.
– И-а, – завывал судовщик.
– И-а, – вторил мальчик.
Вдруг Уленшпигель снова засвистал жаворонком. И мужчины и женщины, и работники спрашивали в восхищении, где он научился этому небесному пению.
– В раю, – ответил он, – я ведь прямо оттуда.
И, обратившись к судовщику, который не переставая ревел и насмешливо указывал на него пальцем, он закричал:
– Что же ты сидишь там на своей барке, бездельник? Видно, на земле не смеешь насмехаться над нами и нашими ослами!
– Ага, не смеешь, – повторил Ламме.
– И-а, и-а, – ревел тот. – Пожалуйте-ка сюда, на барку, господа ослы с ослами.
– Делай, как я, – шепнул Уленшпигель Ламме. И он закричал судовщику: – Если ты Стерке Пир, то я Тиль Уленшпигель. А это вот наши ослы Иеф и Ян, которые ревут по-ослиному лучше тебя, ибо это их природный язык. А на твою расхлябанную посудину мы не пойдём. Это старое корыто переворачивается от первой волны и плавает-то бочком, по-крабьи.
– Ну да, по-крабьи, ну да, – кричал Ламме.
– Ты что там ворчишь сквозь зубы, кусок сала! – крикнул судовщик Ламме.
Тут Ламме пришёл в ярость.
– Ты плохой христианин, коришь меня моей немощью, – кричал он, – но знай, что это сало – моё сало, от моего доброго питания. А ты, старый ржавый гвоздь, жил всю жизнь прокисшими селёдками, свечными фитилями и тресковой кожей, сколько можно судить по твоей худобе, которая видна сквозь дырки в твоих штанах.
– Ну и потасовка будет, – говорили прохожие, полные радостного любопытства.
– И-а, и-а, – кричали с барки.
Ламме хотел сойти с осла, набрать камней и швырять в судовщика.
– Камнями не бросай, – сказал Уленшпигель.
Судовщик что-то пошептал на ухо мальчику, который вместе с ним ревел по-ослиному. Тот отвязал от барки шлюпку и, умело орудуя багром, направился к берегу. Подъехав совсем близко, он гордо выпрямился и сказал:
– Мой хозяин спрашивает вас, решаетесь ли вы переехать на его судно и там померяться с ним силою в бою кулаками и ногами. А эти мужчины и женщины будут свидетелями.
– Мы готовы, – ответил Уленшпигель с достоинством.
– Мы принимаем бой, – гордо повторил Ламме.
Было время обеда. Рабочие с плотин и с верфей, мостовщики, женщины, принесшие горшки с едой для мужей, дети, пришедшие смотреть, как их отцы будут обедать бобами и варёным мясом, все смеялись и били в ладоши при мысли о предстоящем состязании, в приятной надежде, что тот или другой из борцов окажется с разбитой головой или, к общему удовольствию, свалится в реку.
– Сын мой, – сказал Ламме потихоньку, – бросит он нас в воду.
– А ты не давайся, – ответил Уленшпигель.
– Толстяк струсил, – говорили в толпе рабочих.
Ламме, всё ещё сидевший на своём осле, обернулся и бросил на них сердитый взгляд, но они смеялись над ним.
– Едем на барку, – сказал Ламме, – там видно будет, струсил ли я.
Ответом на эти слова был новый взрыв насмешек, и Уленшпигель сказал:
– Едем.
Они сошли со своих ослов и бросили поводья мальчику, который ласково потрепал серяков и повёл их туда, где виднелись колючки.
Уленшпигель взял багор, подождал, когда Ламме войдёт в шлюпку, направил её к барке и, вслед за пыхтящим, потным Ламме, влез по верёвке на палубу.
Ступив на палубу, Уленшпигель наклонился, как бы для того, чтобы завязать башмак, и прошептал при этом несколько слов судовщику, который весело посмотрел на Ламме. Но затем он осыпал его тысячами оскорблений, называя его бездельником, распухшим от позорного ожирения, тюремным завсегдатаем, pap-eter – объедала и так далее.
– Сколько бочек ворвани выйдет из тебя, рыба-кит, если тебе открыть жилу?
Вдруг Ламме, не говоря в ответ ни слова, бросился на него, как бешеный бык, и стал неистово колотить его, нанося удары со всех сторон и изо всех сил; очень больно он не мог сделать ему, так как из-за полноты был довольно слаб. Судовщик, делая вид, что сопротивляется, спокойно давал ему колотить, сколько угодно.
Уленшпигель же приговаривал при этом:
– Этот бродяга поставит нам выпивку.
И женщины, дети и рабочие, смотревшие с берега, говорили: