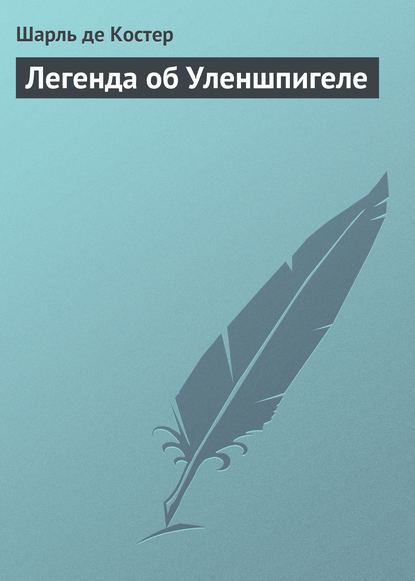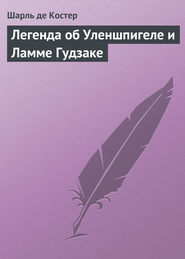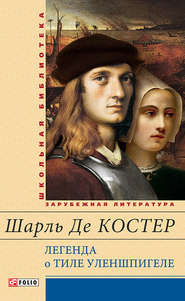По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Легенда об Уленшпигеле
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я не употребляю, – ответил он, – но я пойду в трактир «Пеликан» и принесу вам, если хотите.
– Да, и ветчины тоже, – сказал Ламме.
– Как вам будет угодно, – сказал Вастеле и взглянул на Ламме с великим презрением.
Однако он принёс пива и ветчины. И Ламме радостно ел за пятерых.
– Когда же приступим к работе? – спросил он.
– Этой ночью, – сказал Вастеле, – но ты оставайся в кузнице и не бойся моих работников. Они так же реформаты, как и ты.
– Это хорошо, – ответил Ламме.
Ночью, когда прозвонил вечерний колокол и двери были заперты, Вастеле, при помощи Уленшпигеля и Ламме, перетащил из погреба в кузницу большие связки оружия и сказал:
– Надо починить двадцать аркебузов, перековать тридцать наконечников для копий, отлить полторы тысячи пуль. Вот и помогайте.
– Обеими руками, – ответил Уленшпигель, – и зачем их не четыре у меня?
– А Ламме на что? – сказал Вастеле.
– Разумеется, – ответил жалобно Ламме, осовевший от чрезмерной еды и питья.
– Ты будешь лить пули, – сказал Уленшпигель.
– Буду лить пули, – повторил Ламме.
И Ламме плавил свинец и лил пули и злыми глазами смотрел на кузнеца Вастеле, который заставил его бодрствовать, когда он чуть не падал от усталости. И он лил пули с безмолвным бешенством, хотя ему очень хотелось вылить жидкий свинец на голову Вастеле. Но он сдержался. К полуночи, однако, пока Вастеле и Уленшпигель терпеливо чистили стволы и наконечники, ярость Ламме вместе с невыносимой усталостью возросла до последней степени, и он шипящим голосом стал держать такую речь:
– Вот ты теперь и хил, и худ, и бледен, потому что веришь в благие намерения князей и великих мира сего и, в чрезмерной ревности пренебрегая своим телом, даёшь этому благородному телу чахнуть в нищете и презрении. А ведь не для этого создал его господь бог с госпожой Природой. Знаешь ли ты, что душе нашей, – она же есть дух нашей жизни, – нужны для дыхания и мясо, и пиво, и бобы, и ветчина, и вино, и колбасы, и сосиски, и покой, – а ты, ты живёшь хлебом, водой и бессонницей.
– Откуда в тебе это пышное красноречие? – спросил Уленшпигель.
– Сам не знает, что говорит, – грустно ответил Вастеле.
Но Ламме вскипел:
– Знаю лучше твоего. Я говорю, что мы дураки, и я, и ты, и Уленшпигель тоже, дураки, что мы слепим себе глаза ради всех этих знатных господ и князей мира сего, для тех, кто смеётся, когда мы на их глазах дохнем и чахнем от усталости, потому что ковали для них ружья и лили пули. Они в это время попивают из золотых бокалов французское вино и едят на английских оловянных тарелках немецких каплунов и знать не знают и знать не хотят о том, что их враги рубят нам ноги своими косами и бросают нас в могилы, пока мы ищем в воздухе бога, милостью которого они сильны. И в это время сами они не реформаты и не кальвинисты, не лютеране и не католики, им всё это безразлично или внушает только сомнения, – они покупают за хорошие деньги или отвоёвывают себе государства, съедают владения монахов, аббатов и монастырей и забирают себе всё – и женщин, и девушек, и девок. И из своих золотых кубков пьют они за своё неисчерпаемое веселье, за нашу непроходимую глупость, тупость и нелепость и за все семь смертных грехов, которые они, о кузнец Вастеле, совершают перед длинным носом твоего возвышенного настроения. Смотри, вот на лугах и полях жатва хлебная, фруктовые сады, скот, золото, растущее из земли; в лесу – дикие звери, птицы в поднебесьи, жирные жаворонки, нежные дрозды, кабаньи головы, оленьи окорока – всё им; охота, рыбная ловля, земля и море – всё им. А ты сидишь на хлебе и воде, и мы здесь надрываемся на работе без сна, без еды, без питья. И когда мы умрём, они дадут пинка нашему праху, словно падали, и скажут нашим матерям: «Наделайте новых, эти уже не годятся».
Уленшпигель смеялся, не говоря ни слова; Ламме пыхтел от негодования. Но Вастеле сказал кротко:
– Легкомысленны твои слова. Я живу не ради ветчины, пива и дроздов, но ради торжества свободы совести. Принц живёт ради того же. Он жертвует своим достоинством, своим покоем, своим счастьем, чтобы изгнать из Нидерландов палачей и тиранов. Делай, как он, и старайся спустить с себя жир. Не толстым брюхом спасают родину, а гордым мужеством и тем, что без ропота несут тяготы вплоть до самой смерти. А теперь, если ты устал, иди спать.
Но Ламме не хотел уходить, так как ему было стыдно.
И они ковали оружие и лили пули до рассвета. И так три дня подряд.
Затем они ночью проехали в Гент, продавая по пути клетки, мышеловки и olie koekjes.
Они поселились в Мэлестее[158 - Мелестее – предместье Гента.], «городке мельниц», красные крыши которого видны отовсюду, и сговорились весь день отдельно торговать своим товаром, а вечером, перед вечерним колоколом, сходиться «in de Zwaen» – в трактире «Лебедь».
Ламме, увлечённый своим промыслом, ходил по гентским улицам, продавал оладьи, разыскивая свою жену, осушая множество кружек, и ел не переставая. Уленшпигель доставил письма принца лиценциату медицины Якову Сколапу, портному Ливену Смету, затем Яну Вульфсхагеру, мастеру красильных дел Жилю Коорну, черепичнику Яну де Роозе, и все они передавали ему деньги, собранные для принца, и просили побыть ещё несколько дней в Генте и окрестностях – тогда они дадут ему ещё денег.
Впоследствии все эти люди были повешены за ересь, и тела их были погребены за городом у Брюггских ворот на поле висельников.
XXX
Между тем рыжий профос Спелле[159 - Спелле – брабантский профос, прозванный «Красная дубина» за свой красный жезл, который в глазах народа был знаком самоуправства и насилия.] с красным судейским жезлом разъезжал на своём тощем коне из города в город, повсюду воздвигая эшафоты, зажигая костры, роя ямы, в которых живыми закапывали несчастных женщин и девушек. И наследство получал король.
Сидя как-то с Ламме в Мэлестее под деревом, Уленшпигель вдруг почувствовал глубокую тоску. Хотя на дворе стоял июнь, было холодно. Со свинцового неба падал мелкий град.
– Сын мой, – начал Ламме, – вот уж четыре ночи ты бесстыдно мотаешься повсюду, сидишь у весёлых девиц, ночуешь «in de Zoeten Inval» – в доме «Сладкого грехопадения» – и вообще поступаешь, как тот человек на вывеске, который падает вперёд головой прямо в пчелиный рой. Напрасно ожидаю я тебя в «Лебеде». Друг мой, я предвещаю тебе, что такой распутный образ жизни к добру не приведёт. Почему ты не возьмёшь себе жену?
– Ламме, – сказал Уленшпигель, – тот для кого в этой приятной схватке, которую зовут любовью, одна – это все, и все – это одна, не должен легкомысленно торопиться при выборе.
– А о Неле ты и не думаешь?
– Неле далеко, в Дамме.
Так они сидели, а град становился всё сильнее. В это время поспешно пробежала мимо них молодая смазливая бабёнка, прикрывая голову юбкой.
– Эй, мечтатель, – крикнула она, – что ты там делаешь под деревом?
– Мечтаю о женщине, которая укрыла бы меня под своей юбкой от града.
– Нашлась, – сказала женщина, – вставай!
Уленшпигель встал и подошёл к ней, но Ламме закричал:
– Что же ты, опять меня одного оставишь?
– Ну да, – ответил Уленшпигель, – отправляйся в трактир, съешь одну или две бараньих лопатки, выпей двенадцать кружек пива, завались спать – скука пройдёт.
– Так и сделаю, – сказал Ламме.
Уленшпигель приблизился к женщине.
– Ты возьми мою юбку с одной стороны, а я возьму с другой, так рядом и побежим.
– Зачем же бежать? – спросил Уленшпигель.
– Потому что я убегаю из города: явился профос Спелле с двумя сыщиками и поклялся высечь всех гулящих девушек, которые не уплатят ему по пяти флоринов. Вот я и бегу; беги и ты со мной и оставайся подле меня, чтобы за меня заступиться.
– Ламме, – крикнул Уленшпигель, – Спелле в Мэлестее! Беги в Дестельберг, в «Звезду волхвов».
И Ламме вскочил в ужасе, обхватил свой живот обеими руками и бросился бежать.
– Куда бежит этот толстый заяц? – спросила девушка.
– Да, и ветчины тоже, – сказал Ламме.
– Как вам будет угодно, – сказал Вастеле и взглянул на Ламме с великим презрением.
Однако он принёс пива и ветчины. И Ламме радостно ел за пятерых.
– Когда же приступим к работе? – спросил он.
– Этой ночью, – сказал Вастеле, – но ты оставайся в кузнице и не бойся моих работников. Они так же реформаты, как и ты.
– Это хорошо, – ответил Ламме.
Ночью, когда прозвонил вечерний колокол и двери были заперты, Вастеле, при помощи Уленшпигеля и Ламме, перетащил из погреба в кузницу большие связки оружия и сказал:
– Надо починить двадцать аркебузов, перековать тридцать наконечников для копий, отлить полторы тысячи пуль. Вот и помогайте.
– Обеими руками, – ответил Уленшпигель, – и зачем их не четыре у меня?
– А Ламме на что? – сказал Вастеле.
– Разумеется, – ответил жалобно Ламме, осовевший от чрезмерной еды и питья.
– Ты будешь лить пули, – сказал Уленшпигель.
– Буду лить пули, – повторил Ламме.
И Ламме плавил свинец и лил пули и злыми глазами смотрел на кузнеца Вастеле, который заставил его бодрствовать, когда он чуть не падал от усталости. И он лил пули с безмолвным бешенством, хотя ему очень хотелось вылить жидкий свинец на голову Вастеле. Но он сдержался. К полуночи, однако, пока Вастеле и Уленшпигель терпеливо чистили стволы и наконечники, ярость Ламме вместе с невыносимой усталостью возросла до последней степени, и он шипящим голосом стал держать такую речь:
– Вот ты теперь и хил, и худ, и бледен, потому что веришь в благие намерения князей и великих мира сего и, в чрезмерной ревности пренебрегая своим телом, даёшь этому благородному телу чахнуть в нищете и презрении. А ведь не для этого создал его господь бог с госпожой Природой. Знаешь ли ты, что душе нашей, – она же есть дух нашей жизни, – нужны для дыхания и мясо, и пиво, и бобы, и ветчина, и вино, и колбасы, и сосиски, и покой, – а ты, ты живёшь хлебом, водой и бессонницей.
– Откуда в тебе это пышное красноречие? – спросил Уленшпигель.
– Сам не знает, что говорит, – грустно ответил Вастеле.
Но Ламме вскипел:
– Знаю лучше твоего. Я говорю, что мы дураки, и я, и ты, и Уленшпигель тоже, дураки, что мы слепим себе глаза ради всех этих знатных господ и князей мира сего, для тех, кто смеётся, когда мы на их глазах дохнем и чахнем от усталости, потому что ковали для них ружья и лили пули. Они в это время попивают из золотых бокалов французское вино и едят на английских оловянных тарелках немецких каплунов и знать не знают и знать не хотят о том, что их враги рубят нам ноги своими косами и бросают нас в могилы, пока мы ищем в воздухе бога, милостью которого они сильны. И в это время сами они не реформаты и не кальвинисты, не лютеране и не католики, им всё это безразлично или внушает только сомнения, – они покупают за хорошие деньги или отвоёвывают себе государства, съедают владения монахов, аббатов и монастырей и забирают себе всё – и женщин, и девушек, и девок. И из своих золотых кубков пьют они за своё неисчерпаемое веселье, за нашу непроходимую глупость, тупость и нелепость и за все семь смертных грехов, которые они, о кузнец Вастеле, совершают перед длинным носом твоего возвышенного настроения. Смотри, вот на лугах и полях жатва хлебная, фруктовые сады, скот, золото, растущее из земли; в лесу – дикие звери, птицы в поднебесьи, жирные жаворонки, нежные дрозды, кабаньи головы, оленьи окорока – всё им; охота, рыбная ловля, земля и море – всё им. А ты сидишь на хлебе и воде, и мы здесь надрываемся на работе без сна, без еды, без питья. И когда мы умрём, они дадут пинка нашему праху, словно падали, и скажут нашим матерям: «Наделайте новых, эти уже не годятся».
Уленшпигель смеялся, не говоря ни слова; Ламме пыхтел от негодования. Но Вастеле сказал кротко:
– Легкомысленны твои слова. Я живу не ради ветчины, пива и дроздов, но ради торжества свободы совести. Принц живёт ради того же. Он жертвует своим достоинством, своим покоем, своим счастьем, чтобы изгнать из Нидерландов палачей и тиранов. Делай, как он, и старайся спустить с себя жир. Не толстым брюхом спасают родину, а гордым мужеством и тем, что без ропота несут тяготы вплоть до самой смерти. А теперь, если ты устал, иди спать.
Но Ламме не хотел уходить, так как ему было стыдно.
И они ковали оружие и лили пули до рассвета. И так три дня подряд.
Затем они ночью проехали в Гент, продавая по пути клетки, мышеловки и olie koekjes.
Они поселились в Мэлестее[158 - Мелестее – предместье Гента.], «городке мельниц», красные крыши которого видны отовсюду, и сговорились весь день отдельно торговать своим товаром, а вечером, перед вечерним колоколом, сходиться «in de Zwaen» – в трактире «Лебедь».
Ламме, увлечённый своим промыслом, ходил по гентским улицам, продавал оладьи, разыскивая свою жену, осушая множество кружек, и ел не переставая. Уленшпигель доставил письма принца лиценциату медицины Якову Сколапу, портному Ливену Смету, затем Яну Вульфсхагеру, мастеру красильных дел Жилю Коорну, черепичнику Яну де Роозе, и все они передавали ему деньги, собранные для принца, и просили побыть ещё несколько дней в Генте и окрестностях – тогда они дадут ему ещё денег.
Впоследствии все эти люди были повешены за ересь, и тела их были погребены за городом у Брюггских ворот на поле висельников.
XXX
Между тем рыжий профос Спелле[159 - Спелле – брабантский профос, прозванный «Красная дубина» за свой красный жезл, который в глазах народа был знаком самоуправства и насилия.] с красным судейским жезлом разъезжал на своём тощем коне из города в город, повсюду воздвигая эшафоты, зажигая костры, роя ямы, в которых живыми закапывали несчастных женщин и девушек. И наследство получал король.
Сидя как-то с Ламме в Мэлестее под деревом, Уленшпигель вдруг почувствовал глубокую тоску. Хотя на дворе стоял июнь, было холодно. Со свинцового неба падал мелкий град.
– Сын мой, – начал Ламме, – вот уж четыре ночи ты бесстыдно мотаешься повсюду, сидишь у весёлых девиц, ночуешь «in de Zoeten Inval» – в доме «Сладкого грехопадения» – и вообще поступаешь, как тот человек на вывеске, который падает вперёд головой прямо в пчелиный рой. Напрасно ожидаю я тебя в «Лебеде». Друг мой, я предвещаю тебе, что такой распутный образ жизни к добру не приведёт. Почему ты не возьмёшь себе жену?
– Ламме, – сказал Уленшпигель, – тот для кого в этой приятной схватке, которую зовут любовью, одна – это все, и все – это одна, не должен легкомысленно торопиться при выборе.
– А о Неле ты и не думаешь?
– Неле далеко, в Дамме.
Так они сидели, а град становился всё сильнее. В это время поспешно пробежала мимо них молодая смазливая бабёнка, прикрывая голову юбкой.
– Эй, мечтатель, – крикнула она, – что ты там делаешь под деревом?
– Мечтаю о женщине, которая укрыла бы меня под своей юбкой от града.
– Нашлась, – сказала женщина, – вставай!
Уленшпигель встал и подошёл к ней, но Ламме закричал:
– Что же ты, опять меня одного оставишь?
– Ну да, – ответил Уленшпигель, – отправляйся в трактир, съешь одну или две бараньих лопатки, выпей двенадцать кружек пива, завались спать – скука пройдёт.
– Так и сделаю, – сказал Ламме.
Уленшпигель приблизился к женщине.
– Ты возьми мою юбку с одной стороны, а я возьму с другой, так рядом и побежим.
– Зачем же бежать? – спросил Уленшпигель.
– Потому что я убегаю из города: явился профос Спелле с двумя сыщиками и поклялся высечь всех гулящих девушек, которые не уплатят ему по пяти флоринов. Вот я и бегу; беги и ты со мной и оставайся подле меня, чтобы за меня заступиться.
– Ламме, – крикнул Уленшпигель, – Спелле в Мэлестее! Беги в Дестельберг, в «Звезду волхвов».
И Ламме вскочил в ужасе, обхватил свой живот обеими руками и бросился бежать.
– Куда бежит этот толстый заяц? – спросила девушка.