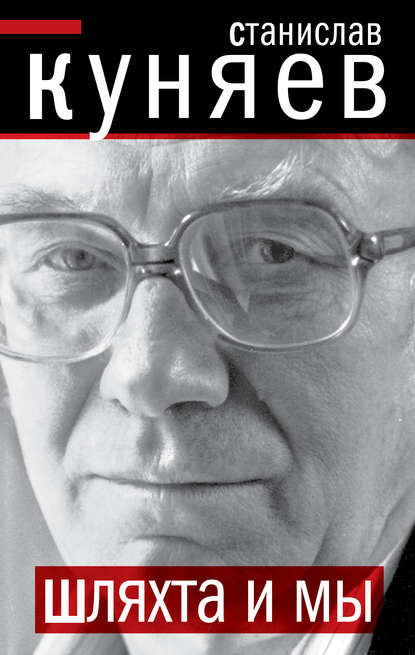По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шляхта и мы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не осуждайте меня, но войдите, вдумайтесь, вчувствуйтесь в мое положение!»
«Таков был дух нашего времени или по крайней мере нашего кружка; совершенное презрение ко всему русскому и рабское поклонение всему французскому, начиная с палаты депутатов и кончая Jar din Mabile-м!» [2 - Увеселительный сад в Париже.]
Национальная шизофрения «первого русского политэмигранта XIX века» принимала поистине комические формы. Скитаясь в нищете по Франции, живя жизнью, если говорить современным языком, бомжа, он обменял свои хорошие штаны у хозяйки дома, где остановился на ночлег, на старые заплатанные штаны ее супруга, чтобы получить в добавку скромный ужин: «Чтобы возбудить ее сожаление, я сказал: – Я бедный польский эмигрант». А тогда ими была наводнена вся Европа. С одним из таких настоящих «бедных польских эмигрантов» Печерин вскоре встретился и вот какое впечатление вынес от этой встречи: «Потоцкий был самый идеал польского шляхтича: долговязый, худощавый, бледный, белобрысый, с длинными повисшими усами, с физиономией Костюшки. Он, как и все поляки, получал от бельгийского правительства один франк в день и этим довольствовался и решительно ничего не делал: или лежал, развалившись на постели, или бродил по городу… У Потоцкого была еще другая черта славянской или, может быть, преимущественно польской натуры: непомерное хвастовство».
Не напоминает ли эта жизнь в чужой стране на «вэлфере» страницы из мемуаров Немоевского о быте польской колонии на берегах Белого озера в XVII веке? Действительно, национальный тип «идеального шляхтича» не то что с годами, а с веками не меняется в польской истории. А вот наш родной русоненавистник Печерин все-таки за несколько десятилетий скитальческой жизни по Европе кое-что понял. Особенно после перехода в католичество.
«Из шпионствующей России попасть в римский монастырь – это просто из огня в полымя. Последние слова генерала (епископа-иезуита. – Ст. К) ко мне были: «Вы откровенный человек». В устах генерала это было самое жестокое порицание: «Вы человек ни к чему не пригодный».
Как в этой сцене кратко и выпукло определена пропасть между западноевропейским типом человека-прагматика, человека-лицемера, иезуита, живущего по правилу «цель оправдывает средства», и русского простодушного диссидента, русофоба по глупости, горестно прозревающего от уроков жизни, которые преподает ему высокомерная и лицемерная Европа!
«Католическая церковь есть отличная школа ненависти!» – восклицает в отчаянье Печерин, бежавший из России от родного, «нецивилизованного», простонародного православия.
А заключительный приговор Европе и католичеству, вырвавшийся из уст несчастного западника и полонофила, поистине трагичен. Сколько он ни боролся в себе с русской сутью – ничего у него не получилось:
«Самый подлейший (обратите внимание на «гоголевский» эпитет! – Cm. К) русский чиновник, сам Чичиков никогда так не льстил, не подличая, как эти монахи перед кардиналами. А в Риме и подавно мне дышать было невозможно: там самое сосредоточие пошлейшего честолюбия. Вместо святой церкви я нашел там придворную жизнь в ее гнуснейшем виде».
И не случайно, что в этом отчаянном покаянии Печерина возникает Гоголь с чиновниками из «Мертвых душ», с Чичиковым, которые после жизни в Европе уже не кажутся ему, как в молодости, рабами и подлецами. Он уже почти любит их, потому что с ним произошло то, что происходит с русскими людьми на закате жизни. И слова Печерина «самый подлейший русский чиновник» – вольно или невольно залетели в его покаянную исповедь тоже из Гоголя, из «Тараса Бульбы»:
«Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело».
Где похоронен наш незадачливый католик, не знает никто, и как тут еще раз не вспомнить рядом с Печериным Андрия Бульбу и вещие слова старого Тараса: «Так продать веру? Продать своих?»
Кстати, в конце жизни Печерин, вынужденный в Ирландском католическом монастыре бороться с протестантизмом, поступил по-русски: публично сжег на городской площади протестантскую библию. Его судили, но, махнув рукой, судьи простили его, как русского человека, не отвечающего за свои поступки.
Интересно то, что полонофильские «Замогильные записки» Печерина вышли с предисловием «пламенного революционера» Л. Б. Каменева (Розенфельда) в 1932 году, когда польская пропаганда эпохи Пилсудского уже вовсю осваивала антирусскую и антисоветскую риторику, а в СССР идея патриотизма (русского и советского) еще не сформировалась.
Любопытные свидетельства о шляхетском национальном характере оставил Фаддей Булгарин. С легкой руки Пушкина, заклеймившего Фаддея беспощадными эпиграммами, исследователи пушкинской эпохи относились к нему несерьезно. А зря. Человек он был незаурядный. Его предки по материнской линии – бояре из Великого княжества Литовского, мать из знатного рода Бучинских. Родился он в Минском воеводстве, его отец, приехавший в Россию с Балкан, был тоже из знати – то ли албанской, то ли болгарской. Отсюда и фамилия Фаддея, которого на самом деле звали Тадеуш. Он был своеобразным кондотьером, наемником, солдатом удачи той эпохи. Вместе с Наполеоном и отрядами польской шляхты ходил на Пиренеи усмирять восставших против Бонапарта испанцев, потом с конницей Понятовского шел в составе наполеоновских войск на Москву, потом продал свою шпагу русскому правительству и занялся литературой и журналистикой. Понятно, почему его не терпел Пушкин. Но ясно и другое: поляков, будучи сам полуполяком и выросшим среди них – был вхож в дома Радзивиллов, Чарторыйских, Потоцких, – Булгарин знал, как никто другой. И вот что он писал о польской жизни:
«В Польше искони веков толковали о вольности и равенстве, которыми на деле не пользовался никто, только богатые паны были совершенно независимы от всех властей, но это была не вольность, а своеволие»… «Мелкая шляхта, буйная и непросвещенная, находилась всегда в полной зависимости у каждого, кто кормил и поил ее, и даже поступала в самые низкие должности у панов и богатой шляхты, и терпеливо переносила побои, – с тем условием, чтобы быть битыми не на голой земле, а на ковре, презирая, однако же, из глупой гордости занятие торговлей и ремеслами, как неприличное шляхетскому званию. Поселяне были вообще угнетены, а в Литве и Белоруссии положение их было гораздо хуже негров…»
«Крестьяне в Литве, в Волынии, в Подолии, если не были принуждены силой к вооружению, оставались равнодушными зрителями происшествий и большей частью даже желали успеха русским, из ненависти к своим панам, чуждым им по языку и по вере».
«Поляки народ пылкий и вообще легковерный, с пламенным воображением. Патриотические мечтания составляли его поэзию – и Франция была в то время Олимпом, а Наполеон божеством этой поэзии. Наполеон хорошо понял свое положение и весьма искусно им воспользовался. Он дал полякам блистательные игрушки: славу и надежду – и они заплатили ему за это своею кровью и имуществом».
Вот такими были наши «разочарованные полонофилы»… Трудно было шляхте найти в них настоящих союзников.
А что касается «мистической экзальтации», «католического мессианизма», «театрального либерализма», о котором вспоминали даже наши полонофилы, то я впервые задумался об этой черте польского характера, когда в 1964 году в одном из краковских костелов увидел молящуюся женщину. Она буквально растворилась в экзальтированной молитве, словно бы желая в непроизвольных движениях слиться с каменными плитами костела, глаза ее были подернуты белесой пленкой, бледные пересохшие уста ее лихорадочно то и дело вдыхали и выдыхали воздух костела, насыщенный сухими запахами известняка и лака, которым были покрыты тускло поблескивавшие ряды деревянных кресел и статуй католических святых.
Может быть, время, а может, война
женщину в темном платке истрепала,
не потому ли так сладко она
к каменным плитам костела припала?
. . . . . . . . . .
Что ж, органист, забывайся, играй,
вечность клубится под сводами храма,
пусть расплеснется она через край
из сладострастной утробы органа.
Это стихи написаны во время моей первой поездки в Польшу. Сейчас я понимаю, что, повторив два раза одно и то же слово «сладко», «сладострастная утроба» – я, глядя на истово молящуюся женщину, может быть, случайно прикоснулся к одной из болезненных тайн католицизма, о которых с поразительной проницательностью писал в «Очерках античного символизма и мифологии» русский философ А. Ф. Лосев. Простите меня за длинную цитату из Лосева, но лучше него об этой тайне не скажешь.
«Но ярче всего и соблазнительнее всего – это молитвенная практика католицизма. Мистик-платоник, как и византийский монах (ведь оба они, по преимуществу, греки) на высоте умной молитвы сидят спокойно, погрузившись в себя, причем плоть как бы перестает действовать в них., и ничто не шелохнется ни в них, ни вокруг них (для их сознания). Подвижник отсутствует сам для себя; он существует только для славы Божией. Но посмотрите., что делается в католичестве. Соблазненность и прельщенность плотью приводит к тому, что Дух Святой является блаженной Анджеле и нашептывает ей такие влюбленные речи: «Дочь Моя сладостная Мне., дочь Моя храм Мой, дочь Моя услаждение Мое, люби Меня, ибо очень люблю Я тебя, много больше, чем ты любишь Меня»[3 - Откровения бл. Анджелы. Пер. Л. П. Карсавина. М., 1918, с. 95, 100 и мн. др.]. Святая находится в сладкой истоме, не может найти себе места от любовных томлений. А Возлюбленный все является и является и все больше и больше разжигает ее тело, ее сердце, ее кровь. Крест Христов представляется ей брачным ложем. Она сама через это входит в Бога: «И виделось мне, что нахожусь я в середине Троицы…» Она просит Христа показать ей хоть одну часть тела, распятого на кресте; и вот Он показывает ей… шею. «И тогда явил Он мне Свою шею и руки. Тотчас же прежняя печаль моя превратилась в такую радость и столь отличную от других радостей, что ничего и не видела и не чувствовала, кроме этого. Красота же шеи Его была такова, что невыразимо это. И тогда разумела я, что красота эта исходит от Божественности Его. Он же не являл мне ничего, кроме шеи этой, прекраснейшей и сладчайшей. И не умею сравнить этой красоты с чем-нибудь, ни с каким-нибудь существующим в мире цветом, а только со светом тела Христова, которое вижу я иногда, когда возносят его»… Что может быть более противоположно византийско-московскому суровому и целомудренному подвижничеству, как не эти постоянные кощунственные заявления: «Душа моя была прията в несотворенный свет и вознесена»… эти страстные взирания на крест Христов, на раны Христа и на отдельные члены Его тела, это насильственное вызывание кровавых пятен на собственном теле и т. д. и т. д.? В довершение всего Христос обнимает Анджелу рукою, которая пригвождена была ко кресту… а она, вся исходя от томления, муки и счастья, говорит: «Иногда от теснейшего этого объятия кажется душе, что входит она в бок Христов. И ту радость, которую приемлет она там, и озарение рассказать невозможно. Ведь так они велики, что иногда не могла я стоять на ногах, но лежала, и отымался у меня язык… И лежала я, и отнялись у меня язык и члены тела»[4 - Там же, с. 137, 140, 151, 152. Я не привожу (да было бы и странно подробно заниматься этим здесь) массы других фактов, типичных для католической мистики. Материалы, относящиеся к Терезе, Мехтильде, Гертруде и пр., очень выразительны в этом отношении. Замечу, кроме того, что я привел несколько цитат не только не из самого яркого, что можно было бы привести, но даже и не из среднего. Приводить самое яркое и кощунственно, и противно. (Примечание А. Ф. Лосева.)].
Это, конечно, не молитва и не общение с Богом. Это – очень сильные галлюцинации на почве истерии, т. е. прелесть. И всех этих истериков, которым является Богородица и кормит их своими сосцами; всех этих истеричек, у которых при явлении Христа сладостный огонь проходит по всему телу и, между прочим, сокращается маточная мускулатура; весь этот бедлам эротомании, бесовской гордости и сатанизма – можно, конечно, только анафематствовать, вместе с Filioque, лежащим у католиков в основе каждого догмата и в основе их внутреннего устроения и молитвенной практики. В молитве опытно ощущается вся неправда католицизма. По учению православных подвижников, молитва, идущая с языка в сердце, никак не должна спускаться ниже сердца.
Православная молитва пребывает в верхней части сердца, не ниже. Молитвенным и аскетическим опытом дознано на Востоке, что привитие молитвы в каком-нибудь другом месте организма всегда есть результат прелестного состояния. Католическая эротомания связана, по-видимому, с насильственным возбуждением и разгорячением нижней части сердца. «Старающийся привести в движение и разгорячить нижнюю часть сердца приводит в движение силу вожделения, которая, по близости к ней половых органов и по свойству своему, приводит в движение эти части. Невежественному употреблению вещественного пособия последует сильнейшее разжжение плотского вожделения. /<^-кое странное явление! По-видимому, подвижник занимается молитвою, а занятие порождает похотение, которое должно бы умерщвляться занятием» [5 - Сочинения еп. Игнатия Брянчанинова. СПб., 1905.] Это кровяное разжжение вообще характерно для всякого мистического сектантства. Бушующая кровь приводит к самым невероятным телодвижениям, которые в католичестве еще кое-как сдерживаются общецерковной дисциплиной, но которые в сектантстве достигают невероятных форм».
И дальше Лосев пишет о прельщении католицизмом наших полонофилов и соблазнах, которые «всегда бывали завлекательной приманкой для бестолковой, убогой по уму и по сердцу, воистину «беспризорной» русской интеллигенции. В те немногие минуты своего существования, когда она выдавливала из себя «религиозные чувства», она большею частью относилась к религии и христианству как к более интересной сенсации; и красивый, тонкий, «психологический», извилистый и увертливый, кровяно-воспаленный и в то же время юридически точный и дисциплинарно-требовательный католицизм, прекрасный, как сам сатана, – всегда был к услугам этих несчастных растленных душ. Довольно одного того, что у католиков – бритый патриарх, который в алтаре садится на престол (к которому на Востоке еле прикасаются), что у них в соборах играют симфонические оркестры (напр., при канонизации святых), что на благословение папы и проповедь патеров молящиеся отвечают в храме аплодисментами, что там – статуи, орган, десятиминутная обедня и т. д. и т. д., чтобы усвоить всю духовно-стилевую несовместимость католичества и православия. Православие для католичества анархично (ибо чувство объективной, самой по себе данной истины, действительно, в католичестве утрачено, а меональное бытие всегда анархично). Католичество же для православия развратно и прелестно (ибо меон, в котором барахтается, с этой точки зрения, верующий, всегда есть разврат). Католицизм извращается в истерию, казуистику, формализм и инквизицию. Православие, развращаясь, дает хулиганство, разбойничество, анархизм и бандитизм. Только в своем извращении и развращении они могут сойтись, в особенности, если ил: синтезировать при помощи протестантско-возрожденского иудаизма, который умеет истерию и формализм, неврастению и римское право объединять с разбойничеством, кровавым сладострастием и сатанизмом при помощи холодного и сухого блуда политико-экономических теорий».
Вполне возможно, что нынешние мерзкие скандалы, потрясающие католический мир, – растление пастырями несовершеннолетних, оправдание мужеложства, благословение однополых браков и прочих чувственных, антихристианских извращений, – что все эти пороки западной церковной жизни в своей изначальной сути взращены мутными соками католической молитвы, о которой столь точно и беспощадно написал русский православный философ.
Адам Мицкевич и Константин Леонтьев
Масла в разогревающийся костерок моего искреннего полонофильства добавило пребывание осенью 1963 года на двухмесячных военных сборах во Львове-Лемберге.
Я с наслаждением бродил по его блестящим базальтовым мостовым, по тенистому, уставленному католическими надгробьями Лычаковскому кладбищу, заглядывался на прихотливую барочную вязь львовских костелов, поднимался к Высокому замку, откуда предо мной простирались каменнопарковые пространства первого европейского города, увиденного мной. А особняки с овальными окнами, резными дубовыми дверями, кованными из черного железа кружевами вокруг парадных подъездов и балконов говорили о какой-то особой, изысканной внутренней жизни, неизвестной ни моей Калуге, ни тем более далекой Сибири, откуда я недавно возвратился в Россию, и потому особенно загадочной и соблазнительной.
А тут еще вышел на львовские экраны «Пепел и алмаз» Анджея Вайды! Строчки из Циприана Норвида! Я уже знал и любил его стихи, как и стихи Болеслава Лешмяна или Константы Ильдефонса Галчинского. Дружба со Слуцким и Самойловым, переводившими польских поэтов, не прошла даром… Ах, какой это был фильм «Пепел и алмаз»! От одной сцены, когда обреченный Мацек влюбляется перед смертью в Зоею, когда они в разрушенном костеле читают стихи о превращении угля в алмаз, мое сердце начинало сладко щемить.
А какую высоко театральную польскую боль источала сцена, где обносившаяся, потускневшая за годы оккупации шляхта в ночь освобождения сомнамбулически танцует полонез Огиньского, столь волнительный и для русского славянского сердца, полонез, заглушаемый могучей песней и грохотом шагов советских солдат, вступающих в город.
Но увидев эту сцену, я сразу же вспомнил размышления Константина Леонтьева из «Варшавского дневника», которые он печатал в катковской газете, будучи корреспондентом в Польше зимой 1880 года. Дело в том, что восьмой том из собрания сочинений Константина Леонтьева, изданного в 1909 году, в ту осень лежал у меня под подушкой в казарме Военно-политического училища, расположенного в центре Стрыйского парка. Никто из моих московских друзей Леонтьева еще не читал, а мне эту книгу взять с собой на военные сборы настоятельно посоветовал Александр Петрович Межиров, за что я ему до сих пор благодарен. Приходя в казарму после работы в редакции окружной газеты «Ленинское знамя», я уединялся в красном уголке, садился под портретом Ленина и погружался в пиршество мыслей, в красоту стиля, в бездну мужественных и страшных пророчеств этого великого и непонятого Россией человека.
«Как бы долго русский человек ни жил в Варшаве, он вполне дома себя чувствовать здесь не может. Чудный вид города, не имеющий ни того всемирного значения и тех вещественных удобств, которыми так богаты европейские столицы, ни дорогих сердцу нашему национальных особенностей, привлекающих нас к московскому Кремлю… общество в сношениях с нами сдержанное и недоверчивое.
Однако и в Польше есть одна сторона жизни, которая, именно при всех этих невыгодных условиях, особенно бросается в глаза и вознаграждает русское сердце за все его здесь тяжелые и унылые чувства – одним только, но зато чрезвычайно приятным впечатлением.,
Впечатление это производят стоящие в Варшаве русские войска.
На улице, в соборе, у обедни в праздник, в маленькой церкви на Медовой улице, в театре, в русском клубе – везде видишь военных… Целые толпы свежих, молодых и бесстрашных солдат, эти бравые энергичные лица офицеров, эти командиры, «испытанные великими трудами битвы боевой», эти седины старых генералов… Эти казаки, гусары и уланы «с пестрыми значками»; эта пехота («эта неутомимая пехота»), идущая куда-то своим ровным твердым могучим шагом…» (как в фильме Вайды. – Ст. К.).
«Наконец поднялась буря в Польше; полагая, что Россия потрясена крымским поражением и крестьянским переворотом, надеясь на нигилистов и раскольников, поляки хотят посягнуть на целость нашего государства.
Не довольствуясь мечтой о свободе собственно польской земли, они надеялись вырвать у нас Белоруссию и Украину.
Вы знаете, что было! Вы знаете, какой гнев, какой крик негодования пронесся по России при чтении нот наших непрошеных наставников… С тех пор все стали несколько более славянофилы»[6 - Русский историк из первой эмиграции Б. Пушкарев в своем учебнике, изданном в США в пятидесятые годы, писал: «В 1863 году в Польше и в Литве вспыхнуло открытое восстание (причем в Варшаве, при ночном нападении на казармы, было перебито много спящих русских солдат)».]
Но буду честен: эти горькие страницы тогда лишь несколько смущали меня, но отнюдь не влияли коренным образом на мои убеждения. Время Константина Леонтьева придет для меня позже. А в ту львовскую осень 1963 года я вышел из кинотеатра, где только что посмотрел «Пепел и алмаз», сел на лавочку возле памятника Мицкевичу и на одном дыхании, что со мной было очень редко, написал восторженное стихотворенье:
Умирает на белом экране
для чего-то рожденный на свет
террорист с револьвером в кармане,
милый мальчик, волчонок, поэт.
О, как жаль, что она остается,
две слезинки бегут по щекам…
Вот и кончено. Что остается?..
Остается платить по счетам.