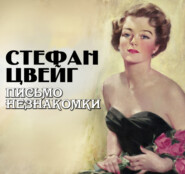По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Три мастера. Бальзак. Диккенс. Достоевский
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда Париж, этот шумный окружавший его мир, смыкал воспаленные очи, когда мрак ниспадал на немолчный рокот улиц и мир куда-то исчезал, – тогда начинал жить его мир, и он строил его рядом с другим, из разрозненных элементов этого другого и часами пребывал в каком-то лихорадочном экстазе, беспрерывно подстегивая усталые нервы черным кофе.
Так работал он десять, двенадцать, а то и восемнадцать часов, пока что-нибудь не возвращало его из этого мира обратно к действительности. В такие-то минуты пробуждения и бывало у него, вероятно, то выражение, которое придал ему в своей статуе Роден, – этот испуг внезапного падения из заоблачных сфер в забытую действительность, этот потрясающе грандиозный, почти кричащий взор, эта рука, натягивающая одежду на зябкие плечи, это движение человека, только что оторванного от сна, или лунатика, громко окликнутого по имени. Никто из писателей не углублялся в свое творчество с таким самозабвением и напряженностью, ни у кого не было такой крепкой веры в свои грезы, ни у кого галлюцинации не были так близки к самообману.
Не всегда умел он останавливать свое возбуждение, как машину, задерживая чудовищное вращение махового колеса, отличать отражение в зеркале от действительности и проводить резкую черту между тем и другим миром. На целую книгу хватило анекдотов о том, как он в пылу работы проникался верой в существование своих героев, – анекдотов, зачастую смешных и по большей части немного жутких. Вот входит приятель. Бальзак, полный отчаяния, бросается ему навстречу с возгласом: «Представь себе, несчастная покончила с собой!» – и лишь по испугу и недоумению приятеля замечает, что образ, о котором он говорит – Евгении Гранде, – жил только в надзвездных его краях.
Эта столь длительная, столь интенсивная, столь полная галлюцинация отличается от патологического бреда умалишенного, пожалуй, единственно лишь тождеством законов, наблюдаемых во внешней жизни и в этой новой действительности, одинаковой причинностью бытия, не столько формой жизни его типов, сколько тем, что они в самом деле способны жить, что они будто только что переступили порог его кабинета, войдя в его произведения откуда-то извне. Но по своей прочности, по упорству и законченности бредовой идеи эта самоуглубленность была достойна истого мономана, и его творчество было уже не прилежным трудом, а лихорадкой, опьянением, мечтой и экстазом. Оно было чудесным паллиативом, сонным зельем, помогавшим забывать о томившей его жажде жизни.
Приспособленный, как никто, к жизни для наслаждений, к расточительности, он по собственному признанию видел в этой лихорадочной работе не что иное, как способ наслаждаться. Ибо такой необузданно требовательный человек мог, подобно мономанам в его книгах, отказаться от всякой иной страсти лишь благодаря тому, что он чем-то ее заменял. Он мог легко обойтись без всего того, что подстегивает наше чувство жизни, – без любви, без честолюбия, игры, богатства, путешествий, славы и побед, потому что в своем творчестве он находил суррогаты, во много раз их превосходившие.
Чувства безрассудны, как дети. Они не умеют отличать подлинное от поддельного, обман от действительности. Только бы их питали, все равно чем – переживаниями или мечтой. И Бальзак всю жизнь обманывал свои чувства: вместо того чтобы дарить им наслаждения, он этими наслаждениями только морочил их; он утолял их голод запахом лакомств, в которых им отказывал. Все его переживания сводились к страстному участию его в наслаждениях своих созданий. Ведь это же он бросил десять луидоров на игорный стол, это он трепетал всем телом, пока вертелась рулетка, это он горячими пальцами загребал звонкий поток выигранных денег; это он одержал только что блестящую победу на подмостках театра; это он штурмовал со своими бригадами высоты или подкапывался под твердыни фондовой биржи.
Все радости его созданий принадлежали ему; тут-то и крылись те восторги, которые снедали его столь убогую по внешности жизнь. Он играл своими людьми, как ростовщик Гобсек теми несчастными, что без всякой надежды на успех приходили просить у него взаймы, а он заставлял их дергаться, словно рыб на крючке, испытующе взирая на их горе, веселье и страдания, как на более или менее талантливую игру актеров. И сердце его под грязной курткой Гобсека говорит так: «Неужели вы думаете, что это ничего не значит, когда проникаешь таким образом в сокровеннейшие уголки человеческого сердца, когда проникаешь в него так глубоко и видишь его перед собой во всей его наготе?» Ибо он, этот волшебник воли, претворял чужое в свое и мечты в жизнь. Рассказывают, будто в дни молодости, питаясь у себя в мансарде одними сухарями, он рисовал мелом на столе контуры тарелок и вписывал туда названия самых лакомых и любимых кушаний, чтобы силой внушения ощутить в черством хлебе вкус изысканнейших блюд.
И если здесь он рассчитывал на известные вкусовые ощущения и в самом деле их обретал, то, вероятно, совершенно так же в эликсирах своих книг вкушал он неистовыми глотками все прочие прелести жизни и совершенно так же обманывал собственную бедность богатством и роскошью своих слуг. Вечно терзаемый долгами и преследуемый кредиторами, он испытывал, несомненно, чувственное возбуждение, когда писал: сто тысяч франков годового дохода. Ведь это он сам рылся в картинах Эли Магюса; это он в роли старика Горио любил двух своих дочерей-графинь, это он подымался с Серафитом на горные вершины над никогда не виданными им норвежскими фиордами или приковывал к себе вместе с Рюбампре восхищенные взгляды красавиц. Он, он сам был тот, ради кого, словно потоки раскаленной лавы, извергались страстные желания из всех этих людей, из людей, для которых он варил из светлых и темных трав напиток счастья и горя.
Никогда ни один писатель не приобщался так полно, как он, к наслаждениям своих героев. Именно там, где он дает картины вожделенного богатства, именно там сильнее, нежели в эротических приключениях, чувствуется опьянение самообольстителя, гашишные грезы одинокого. Это и есть его сокровеннейшая страсть – этот прилив и отлив цифр, это жадное выигрывание и проигрывание крупных сумм, эта переброска капиталов из рук в руки, разбухание балансов, бурное падение ценных бумаг, провалы и подъемы в беспредельность.
По его велениям миллионы, словно гром, обрушиваются на головы нищих и, как ртуть, растекаются капиталы в слабых руках. Со сладострастием живописует он роскошные особняки богатых кварталов и всю магию денег. Слова «миллионы» и «миллиарды» произносятся у него всегда с затаенным дыханием, в каком-то косноязычном изнеможении, с хрипом исступленной похоти. Полные неги, словно одалиски в гареме, стоят рядами предметы убранства пышных чертогов, и, как драгоценные регалии, разложены атрибуты человеческого могущества. Даже рукописи его прожжены этой лихорадкой. Можно проследить, как спокойные, нарядные вначале строки вздуваются, подобно жилам на лбу разгневанного человека, как они расшатываются, становятся торопливее, рвутся опередить одна другую, испещренные пятнами кофе, которым он взбадривал утомленные нервы; кажется, будто слышишь прерывистое, шумное пыхтение перегретой машины, фанатические, маниакальные судороги творца этих строк, алчность «донжуана речи», человека, стремящегося все получить и всем обладать.
И новое бурное проявление ненасытности видишь на корректурных листах, застывшую верстку которых он то и дело ломал и взрывал, подобно тому как больной в жару бередит свою рану, чтобы прогнать лишний раз алую пульсирующую кровь строк по неподвижному, уже охладевшему телу.
Столь титанический труд был бы непонятен, если бы он не был вожделением, больше того – единственным, чего хотел от жизни человек, аскетически отказавшийся от всех других видов власти, человек страстный, для которого единственной возможностью обуздывать себя было искусство. Раз или два довелось ему, правда, грезить и над другим материалом. Он пытался приспособиться к практической жизни. Первая такая попытка относится к тому времени, когда он, отчаявшись в своем творчестве, захотел достичь действительного финансового могущества, сделался спекулянтом и основал типографию и газету. Но по той иронии, которую судьба всегда держит наготове для отступников, он, в книгах своих ведавший все, все проделки биржевиков, все ухищрения мелких и крупных фирм, все приемы ростовщиков, он, знавший цену всякой вещи, создавший положение сотням людей в своих произведениях, путем правильных логических построений добывший им состояние, наделивший богатством Гранде, Попино, Кревеля, Горио, Бридо, Нюсенжена, Вербруста и Гобсека, – сам он потерял весь свой капитал, постыдно разорился и ничего себе не оставил. Ничего, кроме страшной свинцовой тяжести долгов, которую затем, став илотом неслыханного каторжного труда, полвека со стонами таскал на своих широких, как у грузчика, плечах, пока, надорвавшись, не свалился наконец безмолвно под бременем работы.
Ревность покинутой страсти, единственной, которой он отдавался, – страсти к искусству – жестоко отомстила ему. Даже любовь, для других – чудесный сон о пережитом, о действительно бывшем, оказалась для него лишь переживанием, родившимся из сна. Госпожа Ганская, впоследствии его супруга, та самая еtrang?re[8 - Чужестранка (фр.).], к которой были обращены знаменитые его письма, была страстно любима им раньше, чем он успел заглянуть ей в глаза, была любима им еще тогда, когда она была чем-то столь же нереальным, как la fille aux yeux d’or[9 - Девушка с золотистыми глазами (фр.).], как Дельфина и Евгения Гранде. Для истинного писателя всякая иная страсть, кроме страсти к творчеству, к вымыслу, является уклонением от прямого пути. «L’homme des lettres doit s’abstenir des femmes, elles font perdre son temps, on doit se borner ? leur еcrire, cela forme le style»[10 - Писатель должен сторониться женщин: они вынуждают его терять время. Следует ограничиваться писанием им писем, это вырабатывает стиль (фр.).], – сказал он как-то Теофилю Готье. В глубине души он любил вовсе не госпожу Ганскую, а свою любовь к ней, любил не те положения, с какими сталкивался, а те, которые сам измышлял. Жажду действительности он так долго утолял иллюзиями, так долго играл образами и костюмами, что под конец, как актер в момент высшего подъема, сам уверовал в свою страсть.
Без устали предаваясь этой страсти к творчеству, он все подгонял процесс внутреннего сгорания, пока пламя не выбилось наружу и он не погиб. С каждой новой книгой, с каждым осуществленным таким образом желанием его жизнь съеживалась, подобно волшебной лосиной коже в его мистической новелле, и он покорялся своей мономании, как игрок – картам, пьяница – вину, курильщик гашиша – роковой трубке, сластолюбец – женщинам. Он погиб от чрезмерно полного исполнения своих желаний.
Само собой разумеется, что столь исполинская воля, так щедро наделявшая мечты кровью и жизнью, напрягавшая их так, что возбуждение их не уступало в силе явлениям действительности, – само собой разумеется, что столь огромная, столь чудодейственно могучая воля видела тайну жизни в своей собственной магии и возводила себя в мировой закон. Своей подлинной философии не могло быть у того, кто никогда себя не выдавал, кто был, пожалуй, лишь некой изменчивостью, у кого, подобно Протею, не было своего облика, потому что он мог принять любой из многих; кто, словно дервиш или странствующий дух, перевоплощался в образы тысяч людей и терялся в дебрях их жизни, являясь то оптимистом, то альтруистом, то пессимистом или релятивистом, кто мог принять или отвергнуть любое мнение, любую ценность, как включают и выключают электрический ток. Бальзак никого не оправдывает и никого не осуждает. Он всегда только еpouse les opinions des autres[11 - Принимает чужие мнения (фр.).], – на других языках нет соответствующего слова, обозначающего добровольное восприятие чужого мнения без длительного отождествления себя с ним; его захватывал момент, замыкал его в грудную клетку его героев, вовлекал в поток их страстей и пороков. Истинной и неизменной была в нем лишь чудовищная воля, которая, подобно заклинанию «сезам», распыляла скалы, заграждавшие вход в незнакомую душу, ввергала его в мрачные глубины чужого чувства и выводила оттуда нагруженным алмазами людских переживаний.
Более всякого другого был он, вероятно, склонен приписывать человеческой воле могущество не только духовного, но и материального порядка и ощущать ее как жизненный принцип и мировой закон. Ему известно было, что воля, этот флюид, который, исходя от Наполеона, потрясал мир, сокрушал государства, возводил на троны королей и запутывал в клубок миллионы судеб, – что это нематериальное колебание, это чисто атмосферное давление духа на окружающую его среду должно проявляться также и в области материальной, налагать свой отпечаток на физиономию, внедряться в тело, во все его части. Ибо если мимолетное волнение меняет выражение всякого лица, скрашивая грубые и даже совсем тупые черты, придавая им известное своеобразие, то насколько же более выпуклой скульптурой должна выступить на ткани лица постоянно напряженная воля и непреходящая страсть!
Человеческое лицо представлялось Бальзаку окаменевшей волей к жизни, отлитой из бронзы характеристикой, и как археолог восстанавливает по окаменелостям целую культуру, так и Бальзак полагал делом писателя определять по лицу человека и по окружающей его атмосфере внутреннюю его культуру. Эта физиогномика заставила его полюбить учение Галля и его топографию заложенных в мозгу способностей и изучать Лафатера, который тоже видел в лице не что иное, как ставшую плотью и кровью жизненную волю или вывернутый наизнанку характер. Все, что подчеркивало эту магию, это таинственное взаимодействие внутреннего и внешнего, было ему по душе. Он верил в Месмерово учение о магнетической передаче воли от одного медиума к другому, верил, что пальцы – это огненные сети, излучающие волю, связывал это воззрение с мистическим одухотворением Сведенборга, и все эти не совсем сгустившиеся в теорию любительские домыслы свел воедино в учении своего любимца Луи Ламбера, chimiste de la volontе[12 - Химик воли (фр.).], этой необычайной фигуры рано умершего человека, странно сочетающей в себе автопортрет со стремлением к внутреннему совершенствованию и чаще, чем какой-либо другой персонаж Бальзака, соприкасающейся с его собственной жизнью.
Бальзаку всякое лицо представлялось шарадой, которую необходимо разгадать. Он утверждал, что в каждом облике он узнает физиономию какого-нибудь животного, верил, что по особым тайным признакам можно определить обреченного на смерть, и хвастал, что способен по лицу, движениям и платью угадать профессию любого прохожего на улице.
Однако такое интуитивное познавание не представлялось ему еще высшей магией человеческого взора. Ибо все это охватывало только сущее, настоящее. А его глубочайшим желанием было уподобиться тем, кто, сосредоточив силы, может определить не только настоящее, но – по оставленным следам – и прошлое, а по развитию корней – также и будущее, породниться с хиромантами, гадалками, звездочетами, ясновидящими, словом со всеми, кто одарен более глубоким взором – seconde vue[13 - Второе зрение (фр.).], кто берется узнать сокровеннейшее по внешнему признаку, бесконечное – по определенным линиям и может по тонким бороздам на ладони проследить краткий путь прожитой жизни и осветить темную тропу, ведущую в будущее. Таким магическим взором наделен, по мнению Бальзака, лишь тот, кто не разбросал своего ума по тысяче направлений, а – идея концентрации постоянно повторяется у Бальзака! – сберег его в себе и устремил к одной-единственной цели. Дар seconde vue свойственен не одним волшебникам и ясновидящим: этим seconde vue, этой самопроизвольной прозорливостью, этим несомненным признаком гениальности обладают и матери по отношению к своим детям, и врач Деплен, мгновенно определяющий по смутным страданиям больного причину его болезни и вероятную продолжительность его жизни, и гениальный полководец Наполеон, немедленно решающий, куда перебросить бригады, чтобы решить участь боя. Им обладает и соблазнитель Марсэ, улавливающий мимолетные минуты, когда может добиться падения женщины, и биржевик Нюсенжен, всегда успевающий вовремя со своими биржевыми операциями.
Все эти астрологи души приобретают свои познания благодаря устремленному внутрь себя взгляду, который словно в подзорную трубу различает горизонты там, где невооруженному глазу мерещится лишь какой-то серый хаос. Здесь таится известное родство между прозрением писателя и дедукцией ученого, между быстрым, самопроизвольным постижением и медленным, логическим познаванием. Бальзак, которому его собственная интуитивная проницательность была, должно быть, непонятна и которому не раз, вероятно, доводилось в страхе, полубезумным взглядом взирать на свои произведения как на нечто непонятное, – Бальзак поневоле прилепился к философии несоизмеримого, к мистике, которая не довольствовалась уже больше ходячим католицизмом какого-нибудь де Местра. И вот эта крупица магии, примешанная к его сокровеннейшей сущности, эта непостижимость, обращающая его искусство не только в химию, но и в алхимию жизни, – именно она-то и служит тем межевым знаком, который отделяет его от других, от позднейших, от подражателей, в особенности от Золя, подбиравшего камушек к камушку там, где Бальзаку достаточно было одного оборота волшебного его перстня, чтобы воздвигнуть тысячеоконный дворец. Как ни огромна заложенная в его труд энергия, все же с первого взгляда прежде всего бросается в глаза колдовство, а не работа, не заимствование у жизни, а одаривание и обогащение ее.
Ибо Бальзак – и это витает облаком непроницаемой тайны вокруг его образа – в годы своего творчества уже больше не учился, не производил опытов и не вел житейских наблюдений, как, например, Золя, который, прежде чем написать роман, заводил на каждое действующее лицо особое дело, или как Флобер, перерывавший целые библиотеки, чтобы написать книжку в палец толщиной.
Бальзак редко возвращался в тот мир, что простирался за пределами его мира; он был заключен в тюрьме своих галлюцинаций, пригвожден к труду, как к стулу пыток, и то, что он приносил с собой, когда предпринимал короткую вылазку в действительность – когда ходил воевать с издателем или сдавать корректуру в типографию, когда обедал с приятелем или рылся в лавках парижских старьевщиков, – все это оказывалось всегда скорее подтверждением, чем сбором новых данных. Ибо еще в ту пору, когда он только начинал писать, знание всей жизни успело уже проникнуть в него каким-то таинственным путем и покоилось в нем, собранное, уложенное в одно место. Наряду с почти мифическим явлением Шекспира, величайшей, пожалуй, загадкой мировой литературы является вопрос, каким образом, когда и откуда внедрились в Бальзака эти чудовищно огромные, почерпнутые из всех профессий, материй, темпераментов и феноменов запасы знаний.
В течение трех или четырех лет – юношеских лет – работал он на разных поприщах: писцом у адвоката, потом издателем и студентом, и в эти-то немногие годы он и впитал в себя, по-видимому, это совершенно необъяснимое, необозримое множество фактов, это знание всех характеров и явлений. Он, должно быть, в те годы чрезвычайно много наблюдал. Взор у него был, вероятно, жадный, словно вампир вбиравший все, что попало, в свои тайники, в хранилище памяти, где ничто не увядало, ничто не проливалось, ничто не мешалось и не портилось, а все лежало в порядке, в сохранности, на своем месте, всегда под рукой, всегда обращенное самой существенной своей частью наружу; и все это раскрывалось и выскакивало, словно на шарнирах, от одного легкого прикосновения его воли, его желания.
Бальзаку ведомо было все: судебные процессы, сражения, биржевая тактика, спекуляция земельными участками, тайны химии, секреты парфюмеров, техника живописи, споры богословов, газетное дело, обманы театральных подмостков и других – подмостков политики. Он знал провинцию, Париж и весь свет; он, этот connaisseur en fl?nerie[14 - Знаток и ценитель праздношатания (фр.).], читал, как книгу, замысловатые узоры улиц, знал о каждом доме, когда, как и для кого он построен, разрешал геральдические загадки герба над его входом, по стилю постройки восстанавливал целую эпоху и знал в то же время размеры квартирной платы, населял каждый этаж людьми, обставлял комнаты мебелью, наполнял их атмосферой счастья и несчастья и от первого этажа ко второму, от второго к третьему плел незримую сеть судьбы. У него были всеобъемлющие познания: он знал, во что ценится картина Пальмы Веккио, и знал, сколько стоит гектар пастбищной земли и во что обходится завиток кружева, кабриолет или содержание лакея. Он знал жизнь щеголей, которые, погрязая в долгах, ухитрялись спускать по двадцати тысяч франков в год, а двумя страницами дальше описывает существование горемычного рантье, в чьей мелочно расчетливой жизни прорвавшийся зонтик или разбитое оконное стекло означают катастрофу.
Перевернем еще две-три страницы, и вот уже он в кругу последних бедняков. Он исследует, как зарабатывает свои несколько су несчастный водонос, уроженец Оверни, мечтающий обзавестись маленькой-маленькой лошадкой, чтобы не возить бочку с водой на себе, или студент, или швея, что влачат в большом городе полурастительное существование. Возникают тысячи пейзажей, каждый из них готов обратиться в задний план для судеб его героев, помочь их формированию, и достаточно ему одного беглого взгляда на окрестность, чтобы рассмотреть ее с большей отчетливостью, чем видят ее местные старожилы.
Ему ведомо было все, чего хоть однажды коснулся он мимолетным взором, и – замечательный парадокс художника! – ему ведомо было даже то, чего он и вовсе не знал. Он из мечтаний своих воздвиг фиорды Норвегии и стены Сарагосы, и получились они точно такие, как в действительности. Чудовищна эта быстрота прозрения! Он мог, казалось, распознать во всей ясности и обнаженности то, что для других было скрыто тысячью покровов. У него все было размечено, ко всему подобраны ключи, со всякого предмета мог он снять наружную оболочку, и все они являли ему внутреннюю свою суть. Перед ним раскрывались человеческие лица, и зернами спелого плода западало все в чувственное его сознание. Одним взмахом выхватывает он существенное из мелких складок несущественного; и не то чтобы он выгребал его, мало-помалу откапывая слой за слоем, – нет, словно динамитом взрывает он золотоносные жилы жизни.
И одновременно с этими подлинными формами улавливает он и нечто неуловимое – окружающую их, словно облако газа, атмосферу счастья и несчастья, проносящиеся между небом и землей сотрясения, близкие взрывы, грозовые обвалы воздуха. То, что для других существует лишь в виде каких-то очертаний, что представляется им холодным и спокойным, будто заключенным под стеклянным колпаком, – то его волшебной чувствительностью воспринимается как состояние атмосферы в трубке термометра.
В этом необычайном, несравненном интуитивном знании и заключается гениальность Бальзака. А так называемый «художник» – распределитель сил, организатор и творец, связующий и разрешающий, – чувствуется в Бальзаке не столь отчетливо. Так и хочется сказать, что он вовсе не был тем, что называется «художником», – настолько был он гениален. «Une telle force n’a pas besoin d’art»[15 - Такая сила не нуждается в искусстве (фр.).]. Это изречение применимо и к нему. В самом деле, здесь перед нами сила, столь величавая и огромная, что она, подобно вольному зверю девственных лесов, не поддается укрощению; она прекрасна, как тернистые заросли, как горный поток, как гроза, как все те вещи, эстетическая ценность которых заключается единственно лишь в напряженной их выразительности. Ее красота не нуждается в симметрии, в декорациях, в тщательном распределении, ибо она воздействует необузданным многообразием своих сил.
Бальзак никогда не составлял точного плана своих романов; он погрязал в них, как в страсти, зарывался в описания и слова, как в мягкие ткани или в обнаженное цветущее тело. Он вычерчивает образы, набирая их отовсюду, из всех сословий и семейств, из всех провинций Франции, как Наполеон своих солдат, формирует из них бригады, назначает одного в конницу, другого приставляет к орудию, а третьего определяет в обоз, насыпает пороху на полки их ружей и предоставляет их затем собственным их неукротимым силам.
Несмотря на прекрасное – написанное, однако, задним числом! – предисловие, в «Comеdie humaine» тоже нет внутреннего плана. Она лишена плана, подобно тому как и сама жизнь казалась ему лишенной плана; в ней нет никакой моральной, никакой обобщающей установки, она в изменчивости своей стремится показать вечно изменчивое. Во всех этих приливах и отливах нет непрерывно действующей силы, а есть лишь некая скоропреходящая тяга, вроде таинственного притяжения луны, – та бестелесная, словно из облаков и света сотканная атмосфера, которую называют эпохой. Единственный закон этого нового космоса сводится к тому, что все участвующее в процессе взаимодействия само видоизменяется; что свободы действий, свойственной божеству, дающему лишь внешние толчки, не существует; что все люди, непостоянное сообщество которых и образует эпоху, сами творятся эпохой; что их мораль, их чувства так же производны, как и они сами; что все – относительно; что именуемое в Париже добродетелью за Азорскими островами оказывается пороком; что ни для чего не существует твердого мерила и что страстные люди должны расценивать мир так, как расценивают они в романах у Бальзака женщину: сто?ит она, по их мнению, всегда столько, во что она им обходится.
Писателю, который и сам является только продуктом, созданием своего времени, не дано извлечь непреходящее из превратного, а потому задача его может заключаться лишь в изображении атмосферного давления, духовного состояния его эпохи, изменчивой игры сил, одухотворявших, сцеплявших и снова разъединявших миллионы молекул. Быть метеорологом социальных течений, математиком воли, химиком страстей, геологом первобытных национальных формаций, словом – быть многосторонним ученым, который, пользуясь всевозможными инструментами, исследует и выслушивает тело своей эпохи, и в то же время быть собирателем всех ее событий, живописцем ее пейзажей, солдатом ее идей, – вот куда влекло Бальзака честолюбие, и вот почему так неутомимо зарисовывал он как грандиознейшие, так и бесконечно малые предметы. И благодаря этому его произведения являются – по меткому выражению Тэна – величайшим со времен Шекспира хранилищем человеческих документов. Правда, в глазах своих, да и многих наших современников, Бальзак – лишь сочинитель романов. Если взглянуть на него с этой точки зрения, сквозь призму эстетики, то он не покажется таким гигантом. Ибо у него, собственно говоря, мало образцовых, классических вещей.
Но Бальзака надо судить не по отдельным произведениям, а в целом; его надо созерцать, как ландшафт с горами и долинами, с беспредельными далями, с предательскими ущельями и быстрыми потоками. В нем берет начало, на нем, можно бы сказать, – если бы не явился Достоевский, – на нем и кончается идея романа как энциклопедии внутреннего мира. До него писатели знали только два способа двигать вперед сонную колымагу литературной интриги: они либо придумывали какой-нибудь действующий извне случай, который, словно свежий ветер, наполнял паруса и гнал ладью, либо избирали движущей силой, действующей изнутри, одни только эротические побуждения, перипетии любви. Бальзак решил транспонировать эротический элемент. Для него существовало два вида ненасытно-требовательных людей (а, как сказано, только требовательные, только честолюбцы его и занимали): эротики в собственном смысле слова, т. е. немногие, единичные мужчины и почти все женщины, те, для кого, кроме любви, нет иного созвездия, которые под ним и рождаются, и гибнут. Однако все эти растворенные в эротике силы являются не единственными, и перипетии страсти, ни на йоту не умаляясь, сохраняют и у других людей ту же первобытную движущую силу, не распыленную и не расщепленную, только выраженную в иных формах, в иных символах. Это плодотворное открытие сообщило романам Бальзака необычайную многогранность и полноту.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: