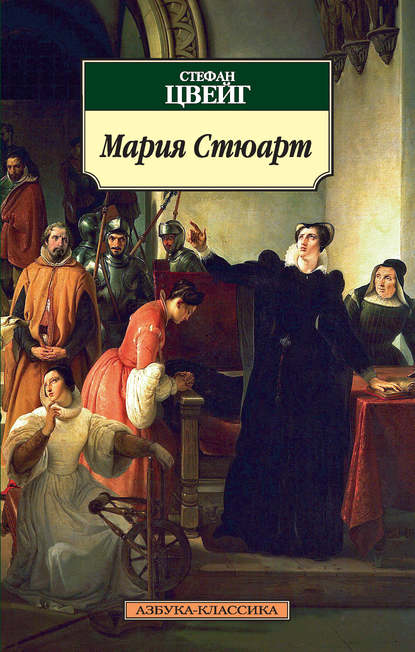По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мария Стюарт
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но пуритане, фарисеи и им подобные ворчуны на выстрел не подпускаются к этим увеселениям, и тщетно кипятится Джон Нокс, изобличая премерзостные «souparis» и «dansaris», и мечет громы с высоты амвона в Сент-Джайлсе, так что борода его мотается, что твой маятник. «Князьям сподручнее слушать музыку и ублажать мамону, чем внимать священному Слову Божию или читать его. Музыканты и льстецы, погубители младости, угодней им, чем зрелые, умудренные мужи, – кого же имеет в виду сей самонадеянный муж? – те, что целительными увещаниями тщатся хоть отчасти истребить в них первозданный грех гордыни». Но юный, веселый кружок не ищет «целительных увещаний» этого «kill-joy», убийцы радости; четыре Марии и два-три кавалера, преданных всему французскому, счастливы забыть здесь, в ярко освещенном уютном зале – приюте дружбы, о сумраке неприветной, трагической страны, а Мария Стюарт прежде всего счастлива сбросить холодную личину величия и быть просто веселой молодой женщиной в кругу сверстников и единомышленников.
Такое желание естественно. Но поддаваться беспечности всегда опасно для Марии Стюарт. Притворство душит ее, осторожность скоро утомляет, однако похвальное, в сущности, качество – неумение скрывать свои чувства – «Je ne sais point dеguiser mes sentiments», как она кому-то пишет, – приносит ей политически больше неприятностей, нежели другим самая бесчеловечная жестокость, самый злонамеренный обман. Известная непринужденность, которую королева разрешает себе в обществе молодых людей, с улыбкою принимая их поклонение и даже порой бессознательно поощряя его, располагает сумасбродных юнцов к неподобающей фамильярности, а более пылким и вовсе кружит голову. Было, очевидно, в этой женщине, чье очарование так и не сумели передать писанные с нее портреты, нечто воспламенявшее чувства; быть может, по каким-то незаметным признакам иные мужчины уже тогда улавливали за мягкими, благосклонными и, казалось бы, вполне уверенными манерами женщины-девушки неудержимую страстность, – так иной раз за улыбчивым ландшафтом скрывается вулкан; быть может, задолго до того, как Марии Стюарт самой открылась ее тайна, угадывали они мужским чутьем ее неукротимый темперамент, ибо от нее исходили чары, склонявшие мужчин скорее к чувственному влечению, нежели к романтической любви. Вполне вероятно, что в слепоте еще не пробудившихся инстинктов она легче допускала чувственные вольности – ласковое прикосновение, поцелуи, манящий взгляд, – нежели это сделала бы умудренная опытом женщина, понимающая, сколько опасного соблазна в таких невинных шалостях; иной раз она позволяет окружающим молодым людям забывать, что женщина в ней, как королеве, должна оставаться недоступной для чересчур смелых мыслей. Был такой случай: молодой шотландец, капитан Хепберн, позволил себе по отношению к ней какую-то дурацки-неуклюжую выходку, и только бегство спасло его от грозной кары. Но как-то слишком небрежно проходит Мария Стюарт мимо этого досадного инцидента, легкомысленно расценивая дерзкую фривольность как простительную шалость, и тем придает храбрости другому дворянину из тесного кружка своих друзей.
Это приключение носит уже и вовсе романтический характер; как почти все, что случается на шотландской земле, становится оно сумрачной балладой. Первый почитатель Марии Стюарт при французском дворе, господин Данвилль, сделал своего юного спутника и друга, поэта Шателяра, наперсником своих восторженных чувств. Но вот господину Данвиллю, вместе с другими французскими дворянами сопровождавшему Марию Стюарт в ее путешествии, пора вернуться домой, к жене, к своим обязанностям; и трубадур Шателяр остается в Шотландии своего рода наместником чужого поклонения. Однако не столь уж безопасно сочинять все новые и новые нежные стихи – игра легко превращается в действительность. Мария Стюарт бездумно принимает поэтические излияния юного гугенота, в совершенстве владеющего всеми рыцарскими искусствами, и даже отвечает на его мадригалы стихами своего сочинения; да и какой молодой, знающейся с музами женщине, заброшенной в грубую, отсталую страну, не было бы лестно слышать такие прославляющие ее строфы:
Oh Dеesse immortelle
Ecoute donc ma voix
Toy qui tiens en tutelle
Mon pouvoir sous tes loix
Afin que si ma vie
Se voie en bref ravie,
Та cruautе
La confesse pеrie
ar ta seule beautе.
К тебе, моей богине,
К тебе моя мольба.
К тебе, чья воля ныне —
Закон мой и судьба.
Верь, если б в дни расцвета
Пресекла путь мой Лета,
Виновна только ты,
Сразившая поэта
Оружьем красоты! —
тем более, что она не знает за собой никакой вины? Ибо разделенным чувством Шателяр похвалиться не может – его страсть остается безответной. Уныло вынужден он признать:
Et nеansmoins la fl?me
Que me br?le et enfl?me
De passion
N’еmeut jamais ton ?me
D’aucune affection.
Ничто не уничтожит
Огня, который гложет
Мне грудь,
Но он любовь не может
В тебя вдохнуть.
Вероятно, лишь как поэтическую хвалу на фоне других придворных и подобострастных ласкательств с улыбкой приемлет Мария Стюарт – она и сама поэтесса и знает, сколь условны эти лирические воспарения, – прочувственные строфы своего пригожего Селадона, и, конечно же, только терпит она галантные любезности, не представляющие собой ничего неуместного при романтическом дворе женщины. С обычной непосредственностью шутит и забавляется она с Шателяром, как и с четырьмя Мариями. Она отличает его невинными знаками внимания, избирает того, кто по правилам этикета должен созерцать ее из почтительного отдаления, своим партнером в танцах и как-то в фигуре фокингданса слишком близко склоняется к его плечу; она дозволяет ему более вольные речи, чем допустимо в Шотландии в трех кварталах от амвона Джона Нокса, неустанно обличающего «such fashions more lyke to the bordell than to the comeliness of honest women»[25 - «подобные нравы, более приличные блудницам, чем пригожим честным женщинам» (англ.).], она, быть может, даже дарит Шателяру мимолетный поцелуй, танцуя с ним в «маске» или играя в фанты. Но, пусть и безобидное, кокетство приводит к фатальной развязке: подобно Торквато Тассо, юный поэт склонен преступить границы, отделяющие королеву от слуги, почтение от фамильярности, галантность от учтивости, шутку от чего-то серьезного, и безрассудно отдаться своему чувству. Неожиданно происходит следующий досадный эпизод: как-то вечером молодые девушки, прислуживающие Марии Стюарт, находят в ее опочивальне поэта, спрятавшегося за складками занавеси. Сперва они судят его не слишком строго, усмотрев в непристойности скорее мальчишескую проделку. Браня озорника больше для виду, они выпроваживают его из спальни. Да и сама Мария Стюарт принимает эту выходку скорее с благодушной снисходительностью, чем с непритворным возмущением. Случай этот тщательно скрывают от брата королевы, и о какой-либо серьезной каре за столь чудовищное нарушение всякого благоприличия вскоре никто уже и не помышляет. Однако потворство не пошло безумцу на пользу. То ли он усмотрел поощрение в снисходительности молодых женщин, то ли страсть превозмогла доводы рассудка, но вскоре он отваживается на новую дерзость. Во время поездки Марии Стюарт в Файф он следует за ней тайно от придворных, и снова его обнаруживают в спальне королевы, раздевающейся перед отходом ко сну. В испуге оскорбленная женщина поднимает крик, переполошив весь дом; из смежного покоя выскакивает ее сводный брат Меррей, и теперь уже ни о прощении, ни об умолчании не может быть и речи. По официальной версии, Мария Стюарт даже потребовала (хоть это и маловероятно), чтобы Меррей заколол дерзкого кинжалом. Однако Меррею, который в противоположность сестре умеет рассчитывать каждый свой шаг, взвешивая его последствия, слишком хорошо известно, что, убив молодого человека в спальне государыни, он рискует запятнать кровью не только ковер, но и ее честь. Нет, такое преступление должно быть оглашено всенародно, и воздастся за него тоже всенародно – на городской площади; только этим и можно доказать невиновность властительницы – как ее подданным, так и всему миру.
Несколько дней спустя Шателяра ведут на плаху. В его дерзновенной отваге судьи усмотрели преступление, в его легкомыслии – черную злонамеренность. Единогласно присуждают они его к самой лютой каре – к смерти под топором палача. Мария Стюарт, пожелай она даже, не могла бы помиловать безумца: послы донесли об этом случае своим дворам, в Лондоне и Париже, затаив дыхание, следят за поведением шотландской королевы. Малейшее слово в защиту виновного было бы равносильно признанию в соучастии. И наперсника, делившего с ней немало приятных, радостных часов, оставляет она в самый тяжкий его час без малейшей надежды и утешения.
Шателяр умирает безупречной смертью, как и подобает рыцарю романтической королевы. Он отказывается от духовного напутствия, единственно в поэзии ищет он утешения, а также в сознании, что:
Mon malheur dеplorable
Soit sur moy immortel.
Я жалок, но мое
Страдание бессмертно.
С высоко поднятой головой восходит мужественный трубадур на эшафот, вместо псалмов и молитв громко декламируя знаменитое «Послание к смерти» своего друга Ронсара:
Je te salue, heureuse et profitable Mort
Des extr?mes douleurs mеdecin et confort.
О смерть, я жду тебя, прекрасный, добрый друг,
Освобождающий от непосильных мук.
Перед плахой он снова поднимает голову, чтобы воскликнуть – и это скорее вздох, чем жалоба: «О cruelle dame!»[26 - О жестокая дама! (фр.).], а затем с полным самообладанием склоняется под смертоносное лезвие. Романтик, он и умирает в духе баллады, в духе романтической поэмы.
Но злополучный Шателяр – лишь случайно выхваченный образ в смутной веренице теней, он лишь первым умирает за Марию Стюарт, лишь предшествует другим. С него начинается призрачная пляска смерти, хоровод всех тех, кто за эту женщину взошел на эшафот, вовлеченный в темную пучину ее судьбы, увлекая ее за собой. Из всех стран стекаются они, безвольно влачась, словно на гравюре Гольбейна, за черным костяным барабаном – шаг за шагом, год за годом, князья и правители, графы и бароны, священники и солдаты, юноши и старцы, жертвуя собой во имя ее, принесенные в жертву во имя ее – той, что безвинно виновата в их мрачном шествии и во искупление своей вины сама его завершает. Не часто бывает, чтобы судьба воплотила в женщине столько смертной магии: словно таинственный магнит, вовлекает она окружающих ее мужчин в орбиту своей пагубной судьбы. Кто бы ни оказался на ее пути, все равно в милости или немилости, обречен несчастью и насильственной смерти. Никому не принесла счастья ненависть к Марии Стюарт. Но еще горше платились за свою смелость дерзавшие ее любить.
А потому гибель Шателяра лишь на поверхностный взгляд кажется нам случайностью, ничего не говорящим эпизодом: впервые раскрывается здесь еще неясный закон ее судьбы, гласящий, что никогда не будет ей дано безнаказанно предаваться беспечности, жить легко и безмятежно. Так сложилась ее жизнь, что с первого же часа должна изображать она величие, быть королевой, всегда и только королевой, репрезентативной фигурой, игрушкою в мировой игре, и то, что на первых порах казалось благословением Неба – раннее коронование, высокое рождение, – обернулось на деле проклятием. Всякий раз как она пытается быть верной себе, отдаться своему чувству, своим настроениям, своим истинным склонностям, судьба жестоко наказывает ее за нерадивость. Шателяр лишь первое предостережение. После детства, лишенного всего детского, она, пользуясь короткой передышкой до того, как во второй, как в третий раз ее тело, ее жизнь отдадут чужому мужчине, выменяют на какую-нибудь корону, – пытается хотя бы несколько месяцев быть только молодой и беспечной, только дышать, только жить и бездумно радоваться жизни; и тотчас жестокие руки отрывают ее от беспечных игр. Встревоженные этим происшествием, торопят регент, парламент и лорды с заключением нового брака. Пусть Мария Стюарт изберет себе супруга; разумеется, не того, кто придется ей по вкусу, но такого, кто укрепит могущество и безопасность страны. Давно уже ведутся переговоры, но теперь их возобновляют с новой энергией; дядьки и опекуны трепещут, как бы эта ветреница какой-нибудь новой глупостью не загубила свою честь и свой престиж. Снова закипел торг на брачном аукционе: опять Мария Стюарт оттесняется в заклятый круг политики, которая с первого до последнего часа держит ее в своей власти. И каждый раз, как она стремится теплым живым телом прорвать ледяное кольцо ради глотка воздуха, неизменно губит она чужую и свою собственную участь.
Глава VI
Оживление на политическом аукционе невест
1563–1565
Две молодые женщины в ту пору – самые желанные невесты в мире: Елизавета Английская и Мария Шотландская. Во всей Европе едва ли сыщется носитель королевских прав, еще не обладающий супругою, который не засылал бы к ним сватов, – будь то Габсбург или Бурбон, Филипп II Испанский или сын его дон Карлос, эрцгерцог Австрийский, короли Шведский и Датский, почтенные старцы и совсем еще мальчики, юноши и зрелые мужи; давно уже на политическом аукционе невест не было такого оживления. Ведь женитьба на государыне – по-прежнему незаменимое средство для расширения монаршей власти. Не войнами, а матримониальными союзами создавались во времена абсолютизма обширные наследственные права; так возникла объединенная Франция, Испанская мировая держава и могущество дома Габсбургов. А тут неожиданно засверкали и последние драгоценности европейской короны. Елизавета или Мария Стюарт, Англия или Шотландия – тот, кто женитьбой приберет к рукам ту или другую страну, выиграет мировое первенство; но здесь идет не только состязание наций, но и война духовная, война за человеческие души. Ибо, случись, что Британские острова вместе с одной из владычиц достались бы соправителю-католику, это означало бы, что стрелка весов в борьбе католицизма и протестантизма окончательно склонилась в сторону Рима и ecclesia universalis[27 - Вселенская церковь (лат.).] вновь восторжествовала в мире. А потому азартная погоня за невестами означает здесь нечто большее, нежели простое семейное событие: в ней заключено решение мировой важности.
Решение мировой важности… Но для обеих женщин, для обеих королев здесь решается также и спор всей их жизни. Нерасторжимо переплелись их судьбы. Если одна из соперниц возвысится благодаря браку, то неудержимо зашатается престол другой; если одна чаша весов поднимется, неминуемо упадет другая. Равновесие лжедружбы между Елизаветой и Марией Стюарт может сохраняться, пока обе не замужем и одна – лишь королева Английская, а другая – лишь королева Шотландская. Стоит одной чаше перевесить, и кто-то из них станет сильнее – победит. Но неустрашимо противостоит гордость гордости, ни одна не хочет уступить и не уступит. Только борьба не на жизнь, а на смерть может разрешить этот безысходный спор.
Для блистательно развивающегося зрелища этого поединка сестер история избрала двух артисток величайшего масштаба. Обе, и Мария Стюарт и Елизавета, – редкостные, несравненные дарования. Рядом с их колоритными фигурами остальные монархи того времени – аскетически закостенелый Филипп II Испанский, по-мальчишески вздорный Карл IX Французский, незначительный Фердинанд Австрийский – кажутся актерами на вторые роли; ни один из них и отдаленно не достигает того духовного уровня, на котором противостоят друг другу обе женщины. Обе они умны, но при всем своем уме подвержены чисто женским страстям и капризам, обе бешено честолюбивы, обе с юного возраста тщательно готовились к своей высокой роли. Обе держатся с подобающим их сану величием, обе блистают утонченной культурой, делающей честь гуманистическому веку. Каждая наряду с родным языком свободно изъясняется по-латыни, по-французски и итальянски – Елизавета знает и по-гречески, а письма обеих образным и метким слогом выгодно отличаются от бесцветных писаний их первых министров – письма Елизаветы несравненно красочнее и живее докладных записок ее умного статс-секретаря Сесила, а слог Марии Стюарт, отточенный и своеобразный, нисколько не похож на бесцветные дипломатические послания Мэйтленда и Меррея. Незаурядный ум обеих женщин, их понимание искусства вся их царственная повадка способны удовлетворить самых придирчивых судей, и если Елизавета внушает уважение Шекспиру и Бену Джонсону, то Марией Стюарт восхищаются Ронсар и Дю Белле. Но на утонченной личной культуре сходство между обеими женщинами и кончается – тем ярче выступает их внутренняя противоположность, которую писатели с давних времен воспринимали и изображали как типично драматическую.
Противоположность эта такая полная, что даже линии их жизни выражают ее с графической наглядностью. Основное различие: Елизавета терпит трудности в начале пути, Мария Стюарт – в конце. Счастье и могущество Марии Стюарт возносятся легко, светло и мгновенно, как встает в небе утренняя звезда; рожденная королевой, она еще ребенком принимает второе помазание. Но так же круто и внезапно свершается ее падение. Ее судьба как бы сгустилась в три-четыре катастрофы и, следовательно, сложилась как драма – недаром Марию Стюарт столь охотно избирали героинею трагедии, – в то время как восхождение Елизаветы свершается медленно, но верно (почему здесь уместно только плавное повествование). Ей ничто не давалось даром и не падало в руки с неба. Объявленная в детстве бастардом и заточенная родной сестрой в Тауэр в ожидании смертного приговора, эта скороспелая дипломатка вынуждена поначалу хитростью отстаивать свое право на самое существование, на жизнь из милости. У Марии Стюарт, прямой наследницы королей, на роду написано величие; Елизавета добилась его своими силами, своим горбом.
Две столь различные линии жизни, естественно, стремятся разойтись в разные стороны. Если порой они скрещиваются и пересекаются, то переплестись не могут. Глубоко, в каждой извилине, в каждом оттенке характера неминуемо сказывается изначальное различие, заключающееся в том, что одна родилась в короне, как иные дети рождаются с густыми волосами, тогда как другая с трудом добилась, хитростью достигла своего положения; одна с первой же минуты – законная королева, вторая – королева под вопросом. У каждой из этих женщин в силу особенностей ее судьбы развились свои, только ей присущие качества. У Марии Стюарт незаслуженная легкость, с какою – увы, слишком рано! – ей все доставалось, порождает необычайную беспечность, самоуверенность и, как высший дар, ту дерзновенную отвагу, которая и возвеличила ее и погубила. Всякая власть от Бога и лишь Богу ответ дает. Ее дело – повелевать, а других – повиноваться, и если бы даже весь мир усомнился в ее царственном призвании, она чувствует его в себе, в жарком кипении своей крови. Легко и не рассуждая одушевляется она; бездумно, сгоряча, словно хватаясь за рукоять шпаги, принимает решения; отчаянная наездница, одним рывком повода, с маху берущая любой барьер, любую изгородь, она и в политике надеется единственно на крыльях мужества перемахнуть через любое препятствие, любую преграду. Если для Елизаветы искусство правления – это партия в шахматы, головоломная задача, то для Марии Стюарт это одна из самых острых услад, повышенная радость бытия, рыцарское ристание. У нее, как однажды сказал папа, «сердце мужа в теле женщины», и именно эта бездумная смелость, этот державный эгоизм, которые так привлекают к ней стихотворцев, балладников и трагиков, послужили причиной ее безвременной гибели.
Ибо Елизавета, натура насквозь реалистическая с близким к гениальности чувством действительности, добивается победы исключительно тем, что использует промахи и безумства своей по-рыцарски отважной противницы. Зоркими, проницательными, птичьими глазами она – взгляните на ее портрет – недоверчиво взирает на мир, опасности которого так рано узнала. Уже ребенком постигла она, как произвольно, то взад, то вперед, катится шар Фортуны: всего лишь шаг отделяет престол от эшафота, и опять-таки только шаг отделяет Тауэр, это преддверие смерти, от Вестминстера. Всегда поэтому будет она воспринимать власть как нечто текучее, повсюду будет ей чудиться угроза; осторожно и боязливо, словно они из стекла и ежеминутно могут выскользнуть из рук, держит Елизавета корону и скипетр; вся ее жизнь, в сущности, сплошные тревоги и колебания. Портреты убедительно дополняют известные нам описания ее характера: ни на одном не глядит она ясно, независимо и гордо, истинной повелительницей: на каждом в ее нервных чертах сквозят настороженность и робость, словно она к чему-то прислушивается, словно ждет чего-то, и никогда улыбка уверенности не оживляет ее губ. Бледная, она держится очень прямо, неуверенно и вместе с тем тщеславно вознося голову над помпезной роскошью осыпанной каменьями робы и словно коченея под ее грузным великолепием. Чувствуется: стоит ей остаться одной, сбросить парадную одежду с костлявых плеч, стереть румяна с узких щек – и все ее величие спадет, останется бедная, растерянная, рано постаревшая женщина, одинокая душа, не способная справиться с собственными трудностями – где уж ей править миром! Такая робость в королеве, конечно, далека от героики, а ее вечная медлительность, неуверенность и нерешительность не способствуют впечатлению королевского могущества; но величие Елизаветы как правительницы лежит в иной, неромантической области. Не в смелых планах и решениях проявлялась ее сила, а в упорной, неустанной заботе об умножении и сохранении, о сбережении и стяжании, иначе говоря, в чисто бюргерских, чисто хозяйственных добродетелях: как раз ее недостатки – боязливость, осторожность – оказались особенно плодотворны на ниве государственной деятельности. Если Мария Стюарт живет для себя, то Елизавета живет для своей страны; реалистка с сильно развитым чувством ответственности, она видит во власти призвание, тогда как Мария Стюарт воспринимает свой сан как ни к чему не обязывающее звание. У каждой свои отличительные достоинства и свои недостатки. И если безрассудно-геройская отвага Марии Стюарт становится ее роком, то медлительность и неуверенность Елизаветы в конечном счете идут ей на пользу. В политике неторопливое упорство всегда берет верх над неукротимой силой, тщательно разработанный план торжествует над импульсивным порывом, реализм – над романтикой.
Но в этом споре различие сестер идет гораздо глубже. Не только как королевы, но и как женщины Елизавета и Мария Стюарт – полярные противоположности, как будто природе заблагорассудилось воплотить в двух великих образах всемирно-историческую антитезу, проведя ее во всем с контрапунктической последовательностью.
Как женщина Мария Стюарт – женщина до конца, женщина в полном смысле слова; наиболее ответственные ее решения всегда диктовались импульсами, исходившими из глубочайших родников ее женского естества. И не то чтобы она была ненасытно страстной натурой, послушной велениям инстинкта, напротив, что? особенно ее характеризует – это чрезвычайно затянувшаяся женская сдержанность. Проходят годы, прежде чем ее чувства дают о себе знать. Долго видим мы в ней (и такова она на портретах) милую, приветливую, кроткую, ко всему безучастную женщину с чуть томным взглядом, с почти детской улыбкой на устах, нерешительное, пассивное создание, женщину-ребенка. Как и всякая истинно женственная натура, она легко возбудима и подвержена вспышкам волнения, краснеет и бледнеет по любому поводу, глаза ее то и дело увлажняются. Но это мгновенное, поверхностное волнение крови долгие годы не тревожит глубин ее существа; и как раз потому, что она нормальная, настоящая, подлинная женщина, Мария Стюарт находит себя как сильный характер именно в страстной любви – единственной на всю жизнь. Только тогда чувствуется, как сильна в ней женщина, как она подвластна инстинктам и страстям, как скована цепями пола. Ибо в великий миг экстаза исчезает, словно сорванная налетевшей бурей, ее наружная культурная оснастка; в этой до сих пор спокойной и сдержанной натуре рушатся плотины воспитания, морали, достоинства, и, поставленная перед выбором между честью и страстью, Мария Стюарт, как истинная женщина, избирает не королевское, а женское свое призвание. Царственная мантия ниспадает к ее ногам, и в своей наготе, пылая, она чувствует себя сестрой бесчисленных женщин, что томятся желанием давать и брать любовь; и больше всего возвышает ее в наших глазах то, что ради немногих сполна пережитых мгновений она с презрением отшвырнула от себя власть, достоинство и сан.
Елизавета, напротив, никогда не была способна так беззаветно отдаваться любви – и это по особой, интимной причине. Как выражается Мария Стюарт в своем знаменитом обличительном письме, она физически «не такая, как все женщины». Елизавете было отказано не только в материнстве; очевидно, и тот естественный акт любви, в котором женщина отдается на волю мужчины, был ей недоступен. Не так уж добровольно, как ей хочется представить, осталась она вековечной virgin Queen, королевой-девственницей, и хотя некоторые сообщения современников (вроде приписываемого Бену Джонсону) относительно физического уродства Елизаветы и вызывают сомнения, все же известно, что какое-то физиологическое или душевное торможение нарушало ее интимную женскую жизнь. Подобная ненормальность должна весьма серьезно сказаться на всем существе женщины; и в самом деле, в этой тайне заключены, как в зерне, и другие тайны ее души. Все нервически неустойчивое, переливчатое, изменчивое в ее натуре, эта мигающая истерическая светотень, какая-то неуравновешенность и безотчетность в поступках, внезапное переключение с холода на жар, с «да» на «нет», все комедиантское, утонченное, затаенно-хитрое, а также в немалой степени свойственное ей кокетство, не раз подводившее ее королевское достоинство, порождалось внутренней неуверенностью. Просто и естественно чувствовать, мыслить и действовать было недоступно этой женщине с глубокой трещиной в душе; никто не мог ни в чем на нее рассчитывать, и меньше всего она сама. Но, будучи даже калекой в самой интимной области, игрушкой собственных издерганных нервов, будучи опасной интриганкой, Елизавета все же никогда не была жестокой, бесчеловечной, холодной и черствой. Ничто не может быть лживее, поверхностнее и банальнее, чем получившее широкое хождение понятие о ней (воспринятое Шиллером в его трагедии), будто бы коварная кошка Елизавета играла кроткой, безоружной Марией Стюарт как беспомощной мышкой. Кто глядит глубже, тот в этой одинокой женщине, зябнущей под броней своего могущества и только изводящей себя своими псевдолюбовниками, ибо ни одному из них она не способна отдаться, видит скрытую лукавую теплоту, а за ее капризными и грубыми выходками – честное желание быть доброй и великодушной. Ее робкой натуре претило насилие, и она предпочитала ему пряную дипломатическую игру «по маленькой» и безответственность закулисных махинаций; каждое объявление войны повергало ее в дрожь и трепет, каждый смертный приговор камнем ложился на совесть, всеми силами старалась она сохранить в стране мир. Если она боролась с Марией Стюарт, то лишь потому, что чувствовала (и не без основания) с ее стороны угрозу, да и то она охотнее уклонилась бы от открытой борьбы, ибо была по натуре игроком, шулером, но только не борцом. Обе они – Мария Стюарт по своей беспечности и Елизавета по робости характера – предпочли бы жить в мире, пусть бы даже это был худой, ложный мир. Но конфигурация звезд на небе в тот исторический момент не допускала половинчатости, неопределенности. Равнодушная к заветным желаниям отдельной личности, сильнейшая воля истории часто втравливает людей и стоящие за ними силы в свою смертоносную игру.
Ибо за антагонистическими чертами исторических личностей повелительно, исполинскими тенями встают великие противоречия эпохи. И не случайность, что Мария Стюарт была поборницей старой, католической, а Елизавета – защитницей новой, реформатской церкви; в том, что каждая из них берет сторону одной из борющихся партий, как бы символически отражен тот факт, что обе королевы воплощают различные мировоззрения: Мария Стюарт – умирающий мир рыцарского Средневековья, Елизавета – мир новый, нарождающийся. В их борьбе как бы изживает себя эпоха перелома.
Мария Стюарт, как последний отважный паладин, борется и умирает за то, что кануло без возврата, – за обреченное, гиблое дело, и это придает ее фигуре такое романтическое очарование. Она лишь повинуется творящей воле истории, когда, обращенная в прошлое, политически связывает свою судьбу с силами, уже перешагнувшими через зенит, с Испанией и Ватиканом, – тогда как Елизавета прозорливо шлет посольства в самые отдаленные страны, Россию и Персию, и с безошибочным чутьем обращает энергию своего народа к океанам, как бы в предвидении того, что столбы, поддерживающие будущую мировую империю, должны быть воздвигнуты на новых континентах. Мария Стюарт косно привержена традиции, она не возвышается над чисто династическим пониманием королевской власти. По ее мнению, страна прилежит властителю, а не властитель стране; все эти годы Мария Стюарт была лишь королевой Шотландской, и никогда не была она королевой шотландского народа. Сотни написанных ею писем трактуют об утверждении, расширении ее личных прав, и нет ни одного, где шла бы речь о народном благе, о развитии торговли, мореплавании или военной мощи. Как языком ее в поэтических опытах и повседневном обиходе всегда оставался французский язык, так и в помыслах ее и чувствах нет ничего национального, шотландского; не ради Шотландии жила она и приняла смерть, а единственно, чтобы оставаться королевою Шотландской. В итоге Мария Стюарт не дала своей стране ничего творчески вдохновляющего, кроме легенды о своей жизни.
Но, поставив себя над всеми, Мария Стюарт обрекла себя на одиночество. Пусть мужеством и решимостью она неизмеримо превосходила Елизавету, зато Елизавета не в одиночестве боролась против нее. Чувство неуверенности рано заставило ее укрепить свои позиции, и она сумела окружить себя помощниками – надежными людьми с ясным, трезвым разумом; в этой войне она опиралась на целый генеральный штаб, обучавший ее тактике и практике и в решительные минуты защищавший ее от порывов и срывов ее нервического темперамента. Елизавета умудрилась создать вокруг себя такую превосходную организацию, что и поныне, спустя столетия, ее личные заслуги почти неотделимы от коллективных заслуг елизаветинской эпохи в целом, так что озаряющая ее имя бессмертная слава обнимает и достижения ее выдающихся советников. В то время как Мария Стюарт – это Мария Стюарт и только, Елизавета – это всегда Елизавета плюс Сесил, плюс Лестер, плюс Уолсингем, плюс энергия всего народа; не разберешь, кто же, собственно, был гением того, шекспировского, века – Англия или Елизавета, настолько они слились в некое замечательное единство. Своим выдающимся положением среди монархов своего времени Елизавета обязана как раз тому, что она не стремилась быть госпожой Англии, а лишь исполнительницей воли англичан, свершительницей национальной миссии. Она угадала веяние времени, от автократии устремленное к конституционному строю. Добровольно признает она новые силы, возникающие из преобразования сословий, из расширения мирового пространства благодаря выдающимся открытиям века; она поощряет все новое – сословные гильдии, купцов-толстосумов и даже пиратов, ибо Англии, ее Англии, они прокладывают путь к преобладанию на море. Тысячи раз жертвует она (чего Мария Стюарт никогда не делает) своими личными желаниями ради общенационального блага. Наилучший выход из душевных затруднений – выход в деятельную жизнь; потерпев крах как женщина, Елизавета ищет счастья в благоденствии своего народа. Весь свой эгоизм, всю жажду власти эта бездетная, безмужняя женщина переключила на общенациональные интересы: быть великой величием Англии в глазах потомства было самым благородным из ее тщеславных помыслов, и жила она лишь во имя будущего величия Англии. Никакая другая корона не могла бы ее прельстить (тогда как Мария Стюарт с восторгом сменяла бы свою на любую лучшую), и в то время как та сгорела в свой час, вспыхнув ослепительным метеором, скупая, дальновидная Елизавета отдала все силы будущему своей нации.
А потому не случайность, что борьба между Марией Стюарт и Елизаветой решилась в пользу той, что олицетворяла прогрессивное, жизнеспособное начало, а не той, что была обращена назад, в рыцарское прошлое; с Елизаветой победила воля истории, которая торопится вперед, отбрасывая отжившие формы, как пустую шелуху, творчески испытывая себя на новых путях. В ее жизни воплощена энергия нации, которая хочет завоевать свое место в мире, тогда как в смерти Марии Стюарт героически и эффектно отмирает рыцарское прошлое. И все же каждая из них выполняет в этой борьбе свое назначение: Елизавета, как трезвая реалистка, побеждает в истории, романтическая Мария Стюарт – в поэзии и предании.
Блистательна эта борьба, предстающая нам сквозь призму времени и пространства и в столь эффектном исполнении; жаль только, что презренны и мелки те средства, какими она ведется. Ибо хоть фигуры и незаурядные, обе женщины остаются женщинами, они бессильны превозмочь свойственную их полу слабость – враждовать не в открытую, а изводя противника лукавыми происками, булавочными уколами. Будь на месте Марии Стюарт и Елизаветы двое мужчин, двое королей, не миновать бы им кровавого столкновения, войны. Тут притязание непримиримо встало бы против притязания, мужество против мужества. Конфликт между Марией Стюарт и Елизаветой лишен честной мужской ясности; это драка двух кошек, которые, спрятав когти, бродят вокруг да около и сторожат друг друга, – коварная и во всех отношениях нечестная игра. В течение четверти века эти женщины только и делали, что лгали друг другу (причем ни одна ни на секунду не дала себя обмануть). Ни разу не поглядят они в глаза друг другу, ни разу их ненависть не выступит с поднятым забралом; льстиво и лицемерно улыбаясь, приветствуют они, и поздравляют, и улещают, и одаривают одна другую, и каждая держит за спиной отточенный кинжал. Нет, хроника войны между Елизаветой и Марией Стюарт не знает ни битв, ни прославленных эпизодов в духе Илиады, это не героическая эпопея, а скорее глава из Макиавелли, пусть и увлекательная для психолога, но отталкивающая для моралиста, ибо это всего лишь затянувшаяся на двадцатилетие интрига, но только не открытый, бряцающий бой.
Такое желание естественно. Но поддаваться беспечности всегда опасно для Марии Стюарт. Притворство душит ее, осторожность скоро утомляет, однако похвальное, в сущности, качество – неумение скрывать свои чувства – «Je ne sais point dеguiser mes sentiments», как она кому-то пишет, – приносит ей политически больше неприятностей, нежели другим самая бесчеловечная жестокость, самый злонамеренный обман. Известная непринужденность, которую королева разрешает себе в обществе молодых людей, с улыбкою принимая их поклонение и даже порой бессознательно поощряя его, располагает сумасбродных юнцов к неподобающей фамильярности, а более пылким и вовсе кружит голову. Было, очевидно, в этой женщине, чье очарование так и не сумели передать писанные с нее портреты, нечто воспламенявшее чувства; быть может, по каким-то незаметным признакам иные мужчины уже тогда улавливали за мягкими, благосклонными и, казалось бы, вполне уверенными манерами женщины-девушки неудержимую страстность, – так иной раз за улыбчивым ландшафтом скрывается вулкан; быть может, задолго до того, как Марии Стюарт самой открылась ее тайна, угадывали они мужским чутьем ее неукротимый темперамент, ибо от нее исходили чары, склонявшие мужчин скорее к чувственному влечению, нежели к романтической любви. Вполне вероятно, что в слепоте еще не пробудившихся инстинктов она легче допускала чувственные вольности – ласковое прикосновение, поцелуи, манящий взгляд, – нежели это сделала бы умудренная опытом женщина, понимающая, сколько опасного соблазна в таких невинных шалостях; иной раз она позволяет окружающим молодым людям забывать, что женщина в ней, как королеве, должна оставаться недоступной для чересчур смелых мыслей. Был такой случай: молодой шотландец, капитан Хепберн, позволил себе по отношению к ней какую-то дурацки-неуклюжую выходку, и только бегство спасло его от грозной кары. Но как-то слишком небрежно проходит Мария Стюарт мимо этого досадного инцидента, легкомысленно расценивая дерзкую фривольность как простительную шалость, и тем придает храбрости другому дворянину из тесного кружка своих друзей.
Это приключение носит уже и вовсе романтический характер; как почти все, что случается на шотландской земле, становится оно сумрачной балладой. Первый почитатель Марии Стюарт при французском дворе, господин Данвилль, сделал своего юного спутника и друга, поэта Шателяра, наперсником своих восторженных чувств. Но вот господину Данвиллю, вместе с другими французскими дворянами сопровождавшему Марию Стюарт в ее путешествии, пора вернуться домой, к жене, к своим обязанностям; и трубадур Шателяр остается в Шотландии своего рода наместником чужого поклонения. Однако не столь уж безопасно сочинять все новые и новые нежные стихи – игра легко превращается в действительность. Мария Стюарт бездумно принимает поэтические излияния юного гугенота, в совершенстве владеющего всеми рыцарскими искусствами, и даже отвечает на его мадригалы стихами своего сочинения; да и какой молодой, знающейся с музами женщине, заброшенной в грубую, отсталую страну, не было бы лестно слышать такие прославляющие ее строфы:
Oh Dеesse immortelle
Ecoute donc ma voix
Toy qui tiens en tutelle
Mon pouvoir sous tes loix
Afin que si ma vie
Se voie en bref ravie,
Та cruautе
La confesse pеrie
ar ta seule beautе.
К тебе, моей богине,
К тебе моя мольба.
К тебе, чья воля ныне —
Закон мой и судьба.
Верь, если б в дни расцвета
Пресекла путь мой Лета,
Виновна только ты,
Сразившая поэта
Оружьем красоты! —
тем более, что она не знает за собой никакой вины? Ибо разделенным чувством Шателяр похвалиться не может – его страсть остается безответной. Уныло вынужден он признать:
Et nеansmoins la fl?me
Que me br?le et enfl?me
De passion
N’еmeut jamais ton ?me
D’aucune affection.
Ничто не уничтожит
Огня, который гложет
Мне грудь,
Но он любовь не может
В тебя вдохнуть.
Вероятно, лишь как поэтическую хвалу на фоне других придворных и подобострастных ласкательств с улыбкой приемлет Мария Стюарт – она и сама поэтесса и знает, сколь условны эти лирические воспарения, – прочувственные строфы своего пригожего Селадона, и, конечно же, только терпит она галантные любезности, не представляющие собой ничего неуместного при романтическом дворе женщины. С обычной непосредственностью шутит и забавляется она с Шателяром, как и с четырьмя Мариями. Она отличает его невинными знаками внимания, избирает того, кто по правилам этикета должен созерцать ее из почтительного отдаления, своим партнером в танцах и как-то в фигуре фокингданса слишком близко склоняется к его плечу; она дозволяет ему более вольные речи, чем допустимо в Шотландии в трех кварталах от амвона Джона Нокса, неустанно обличающего «such fashions more lyke to the bordell than to the comeliness of honest women»[25 - «подобные нравы, более приличные блудницам, чем пригожим честным женщинам» (англ.).], она, быть может, даже дарит Шателяру мимолетный поцелуй, танцуя с ним в «маске» или играя в фанты. Но, пусть и безобидное, кокетство приводит к фатальной развязке: подобно Торквато Тассо, юный поэт склонен преступить границы, отделяющие королеву от слуги, почтение от фамильярности, галантность от учтивости, шутку от чего-то серьезного, и безрассудно отдаться своему чувству. Неожиданно происходит следующий досадный эпизод: как-то вечером молодые девушки, прислуживающие Марии Стюарт, находят в ее опочивальне поэта, спрятавшегося за складками занавеси. Сперва они судят его не слишком строго, усмотрев в непристойности скорее мальчишескую проделку. Браня озорника больше для виду, они выпроваживают его из спальни. Да и сама Мария Стюарт принимает эту выходку скорее с благодушной снисходительностью, чем с непритворным возмущением. Случай этот тщательно скрывают от брата королевы, и о какой-либо серьезной каре за столь чудовищное нарушение всякого благоприличия вскоре никто уже и не помышляет. Однако потворство не пошло безумцу на пользу. То ли он усмотрел поощрение в снисходительности молодых женщин, то ли страсть превозмогла доводы рассудка, но вскоре он отваживается на новую дерзость. Во время поездки Марии Стюарт в Файф он следует за ней тайно от придворных, и снова его обнаруживают в спальне королевы, раздевающейся перед отходом ко сну. В испуге оскорбленная женщина поднимает крик, переполошив весь дом; из смежного покоя выскакивает ее сводный брат Меррей, и теперь уже ни о прощении, ни об умолчании не может быть и речи. По официальной версии, Мария Стюарт даже потребовала (хоть это и маловероятно), чтобы Меррей заколол дерзкого кинжалом. Однако Меррею, который в противоположность сестре умеет рассчитывать каждый свой шаг, взвешивая его последствия, слишком хорошо известно, что, убив молодого человека в спальне государыни, он рискует запятнать кровью не только ковер, но и ее честь. Нет, такое преступление должно быть оглашено всенародно, и воздастся за него тоже всенародно – на городской площади; только этим и можно доказать невиновность властительницы – как ее подданным, так и всему миру.
Несколько дней спустя Шателяра ведут на плаху. В его дерзновенной отваге судьи усмотрели преступление, в его легкомыслии – черную злонамеренность. Единогласно присуждают они его к самой лютой каре – к смерти под топором палача. Мария Стюарт, пожелай она даже, не могла бы помиловать безумца: послы донесли об этом случае своим дворам, в Лондоне и Париже, затаив дыхание, следят за поведением шотландской королевы. Малейшее слово в защиту виновного было бы равносильно признанию в соучастии. И наперсника, делившего с ней немало приятных, радостных часов, оставляет она в самый тяжкий его час без малейшей надежды и утешения.
Шателяр умирает безупречной смертью, как и подобает рыцарю романтической королевы. Он отказывается от духовного напутствия, единственно в поэзии ищет он утешения, а также в сознании, что:
Mon malheur dеplorable
Soit sur moy immortel.
Я жалок, но мое
Страдание бессмертно.
С высоко поднятой головой восходит мужественный трубадур на эшафот, вместо псалмов и молитв громко декламируя знаменитое «Послание к смерти» своего друга Ронсара:
Je te salue, heureuse et profitable Mort
Des extr?mes douleurs mеdecin et confort.
О смерть, я жду тебя, прекрасный, добрый друг,
Освобождающий от непосильных мук.
Перед плахой он снова поднимает голову, чтобы воскликнуть – и это скорее вздох, чем жалоба: «О cruelle dame!»[26 - О жестокая дама! (фр.).], а затем с полным самообладанием склоняется под смертоносное лезвие. Романтик, он и умирает в духе баллады, в духе романтической поэмы.
Но злополучный Шателяр – лишь случайно выхваченный образ в смутной веренице теней, он лишь первым умирает за Марию Стюарт, лишь предшествует другим. С него начинается призрачная пляска смерти, хоровод всех тех, кто за эту женщину взошел на эшафот, вовлеченный в темную пучину ее судьбы, увлекая ее за собой. Из всех стран стекаются они, безвольно влачась, словно на гравюре Гольбейна, за черным костяным барабаном – шаг за шагом, год за годом, князья и правители, графы и бароны, священники и солдаты, юноши и старцы, жертвуя собой во имя ее, принесенные в жертву во имя ее – той, что безвинно виновата в их мрачном шествии и во искупление своей вины сама его завершает. Не часто бывает, чтобы судьба воплотила в женщине столько смертной магии: словно таинственный магнит, вовлекает она окружающих ее мужчин в орбиту своей пагубной судьбы. Кто бы ни оказался на ее пути, все равно в милости или немилости, обречен несчастью и насильственной смерти. Никому не принесла счастья ненависть к Марии Стюарт. Но еще горше платились за свою смелость дерзавшие ее любить.
А потому гибель Шателяра лишь на поверхностный взгляд кажется нам случайностью, ничего не говорящим эпизодом: впервые раскрывается здесь еще неясный закон ее судьбы, гласящий, что никогда не будет ей дано безнаказанно предаваться беспечности, жить легко и безмятежно. Так сложилась ее жизнь, что с первого же часа должна изображать она величие, быть королевой, всегда и только королевой, репрезентативной фигурой, игрушкою в мировой игре, и то, что на первых порах казалось благословением Неба – раннее коронование, высокое рождение, – обернулось на деле проклятием. Всякий раз как она пытается быть верной себе, отдаться своему чувству, своим настроениям, своим истинным склонностям, судьба жестоко наказывает ее за нерадивость. Шателяр лишь первое предостережение. После детства, лишенного всего детского, она, пользуясь короткой передышкой до того, как во второй, как в третий раз ее тело, ее жизнь отдадут чужому мужчине, выменяют на какую-нибудь корону, – пытается хотя бы несколько месяцев быть только молодой и беспечной, только дышать, только жить и бездумно радоваться жизни; и тотчас жестокие руки отрывают ее от беспечных игр. Встревоженные этим происшествием, торопят регент, парламент и лорды с заключением нового брака. Пусть Мария Стюарт изберет себе супруга; разумеется, не того, кто придется ей по вкусу, но такого, кто укрепит могущество и безопасность страны. Давно уже ведутся переговоры, но теперь их возобновляют с новой энергией; дядьки и опекуны трепещут, как бы эта ветреница какой-нибудь новой глупостью не загубила свою честь и свой престиж. Снова закипел торг на брачном аукционе: опять Мария Стюарт оттесняется в заклятый круг политики, которая с первого до последнего часа держит ее в своей власти. И каждый раз, как она стремится теплым живым телом прорвать ледяное кольцо ради глотка воздуха, неизменно губит она чужую и свою собственную участь.
Глава VI
Оживление на политическом аукционе невест
1563–1565
Две молодые женщины в ту пору – самые желанные невесты в мире: Елизавета Английская и Мария Шотландская. Во всей Европе едва ли сыщется носитель королевских прав, еще не обладающий супругою, который не засылал бы к ним сватов, – будь то Габсбург или Бурбон, Филипп II Испанский или сын его дон Карлос, эрцгерцог Австрийский, короли Шведский и Датский, почтенные старцы и совсем еще мальчики, юноши и зрелые мужи; давно уже на политическом аукционе невест не было такого оживления. Ведь женитьба на государыне – по-прежнему незаменимое средство для расширения монаршей власти. Не войнами, а матримониальными союзами создавались во времена абсолютизма обширные наследственные права; так возникла объединенная Франция, Испанская мировая держава и могущество дома Габсбургов. А тут неожиданно засверкали и последние драгоценности европейской короны. Елизавета или Мария Стюарт, Англия или Шотландия – тот, кто женитьбой приберет к рукам ту или другую страну, выиграет мировое первенство; но здесь идет не только состязание наций, но и война духовная, война за человеческие души. Ибо, случись, что Британские острова вместе с одной из владычиц достались бы соправителю-католику, это означало бы, что стрелка весов в борьбе католицизма и протестантизма окончательно склонилась в сторону Рима и ecclesia universalis[27 - Вселенская церковь (лат.).] вновь восторжествовала в мире. А потому азартная погоня за невестами означает здесь нечто большее, нежели простое семейное событие: в ней заключено решение мировой важности.
Решение мировой важности… Но для обеих женщин, для обеих королев здесь решается также и спор всей их жизни. Нерасторжимо переплелись их судьбы. Если одна из соперниц возвысится благодаря браку, то неудержимо зашатается престол другой; если одна чаша весов поднимется, неминуемо упадет другая. Равновесие лжедружбы между Елизаветой и Марией Стюарт может сохраняться, пока обе не замужем и одна – лишь королева Английская, а другая – лишь королева Шотландская. Стоит одной чаше перевесить, и кто-то из них станет сильнее – победит. Но неустрашимо противостоит гордость гордости, ни одна не хочет уступить и не уступит. Только борьба не на жизнь, а на смерть может разрешить этот безысходный спор.
Для блистательно развивающегося зрелища этого поединка сестер история избрала двух артисток величайшего масштаба. Обе, и Мария Стюарт и Елизавета, – редкостные, несравненные дарования. Рядом с их колоритными фигурами остальные монархи того времени – аскетически закостенелый Филипп II Испанский, по-мальчишески вздорный Карл IX Французский, незначительный Фердинанд Австрийский – кажутся актерами на вторые роли; ни один из них и отдаленно не достигает того духовного уровня, на котором противостоят друг другу обе женщины. Обе они умны, но при всем своем уме подвержены чисто женским страстям и капризам, обе бешено честолюбивы, обе с юного возраста тщательно готовились к своей высокой роли. Обе держатся с подобающим их сану величием, обе блистают утонченной культурой, делающей честь гуманистическому веку. Каждая наряду с родным языком свободно изъясняется по-латыни, по-французски и итальянски – Елизавета знает и по-гречески, а письма обеих образным и метким слогом выгодно отличаются от бесцветных писаний их первых министров – письма Елизаветы несравненно красочнее и живее докладных записок ее умного статс-секретаря Сесила, а слог Марии Стюарт, отточенный и своеобразный, нисколько не похож на бесцветные дипломатические послания Мэйтленда и Меррея. Незаурядный ум обеих женщин, их понимание искусства вся их царственная повадка способны удовлетворить самых придирчивых судей, и если Елизавета внушает уважение Шекспиру и Бену Джонсону, то Марией Стюарт восхищаются Ронсар и Дю Белле. Но на утонченной личной культуре сходство между обеими женщинами и кончается – тем ярче выступает их внутренняя противоположность, которую писатели с давних времен воспринимали и изображали как типично драматическую.
Противоположность эта такая полная, что даже линии их жизни выражают ее с графической наглядностью. Основное различие: Елизавета терпит трудности в начале пути, Мария Стюарт – в конце. Счастье и могущество Марии Стюарт возносятся легко, светло и мгновенно, как встает в небе утренняя звезда; рожденная королевой, она еще ребенком принимает второе помазание. Но так же круто и внезапно свершается ее падение. Ее судьба как бы сгустилась в три-четыре катастрофы и, следовательно, сложилась как драма – недаром Марию Стюарт столь охотно избирали героинею трагедии, – в то время как восхождение Елизаветы свершается медленно, но верно (почему здесь уместно только плавное повествование). Ей ничто не давалось даром и не падало в руки с неба. Объявленная в детстве бастардом и заточенная родной сестрой в Тауэр в ожидании смертного приговора, эта скороспелая дипломатка вынуждена поначалу хитростью отстаивать свое право на самое существование, на жизнь из милости. У Марии Стюарт, прямой наследницы королей, на роду написано величие; Елизавета добилась его своими силами, своим горбом.
Две столь различные линии жизни, естественно, стремятся разойтись в разные стороны. Если порой они скрещиваются и пересекаются, то переплестись не могут. Глубоко, в каждой извилине, в каждом оттенке характера неминуемо сказывается изначальное различие, заключающееся в том, что одна родилась в короне, как иные дети рождаются с густыми волосами, тогда как другая с трудом добилась, хитростью достигла своего положения; одна с первой же минуты – законная королева, вторая – королева под вопросом. У каждой из этих женщин в силу особенностей ее судьбы развились свои, только ей присущие качества. У Марии Стюарт незаслуженная легкость, с какою – увы, слишком рано! – ей все доставалось, порождает необычайную беспечность, самоуверенность и, как высший дар, ту дерзновенную отвагу, которая и возвеличила ее и погубила. Всякая власть от Бога и лишь Богу ответ дает. Ее дело – повелевать, а других – повиноваться, и если бы даже весь мир усомнился в ее царственном призвании, она чувствует его в себе, в жарком кипении своей крови. Легко и не рассуждая одушевляется она; бездумно, сгоряча, словно хватаясь за рукоять шпаги, принимает решения; отчаянная наездница, одним рывком повода, с маху берущая любой барьер, любую изгородь, она и в политике надеется единственно на крыльях мужества перемахнуть через любое препятствие, любую преграду. Если для Елизаветы искусство правления – это партия в шахматы, головоломная задача, то для Марии Стюарт это одна из самых острых услад, повышенная радость бытия, рыцарское ристание. У нее, как однажды сказал папа, «сердце мужа в теле женщины», и именно эта бездумная смелость, этот державный эгоизм, которые так привлекают к ней стихотворцев, балладников и трагиков, послужили причиной ее безвременной гибели.
Ибо Елизавета, натура насквозь реалистическая с близким к гениальности чувством действительности, добивается победы исключительно тем, что использует промахи и безумства своей по-рыцарски отважной противницы. Зоркими, проницательными, птичьими глазами она – взгляните на ее портрет – недоверчиво взирает на мир, опасности которого так рано узнала. Уже ребенком постигла она, как произвольно, то взад, то вперед, катится шар Фортуны: всего лишь шаг отделяет престол от эшафота, и опять-таки только шаг отделяет Тауэр, это преддверие смерти, от Вестминстера. Всегда поэтому будет она воспринимать власть как нечто текучее, повсюду будет ей чудиться угроза; осторожно и боязливо, словно они из стекла и ежеминутно могут выскользнуть из рук, держит Елизавета корону и скипетр; вся ее жизнь, в сущности, сплошные тревоги и колебания. Портреты убедительно дополняют известные нам описания ее характера: ни на одном не глядит она ясно, независимо и гордо, истинной повелительницей: на каждом в ее нервных чертах сквозят настороженность и робость, словно она к чему-то прислушивается, словно ждет чего-то, и никогда улыбка уверенности не оживляет ее губ. Бледная, она держится очень прямо, неуверенно и вместе с тем тщеславно вознося голову над помпезной роскошью осыпанной каменьями робы и словно коченея под ее грузным великолепием. Чувствуется: стоит ей остаться одной, сбросить парадную одежду с костлявых плеч, стереть румяна с узких щек – и все ее величие спадет, останется бедная, растерянная, рано постаревшая женщина, одинокая душа, не способная справиться с собственными трудностями – где уж ей править миром! Такая робость в королеве, конечно, далека от героики, а ее вечная медлительность, неуверенность и нерешительность не способствуют впечатлению королевского могущества; но величие Елизаветы как правительницы лежит в иной, неромантической области. Не в смелых планах и решениях проявлялась ее сила, а в упорной, неустанной заботе об умножении и сохранении, о сбережении и стяжании, иначе говоря, в чисто бюргерских, чисто хозяйственных добродетелях: как раз ее недостатки – боязливость, осторожность – оказались особенно плодотворны на ниве государственной деятельности. Если Мария Стюарт живет для себя, то Елизавета живет для своей страны; реалистка с сильно развитым чувством ответственности, она видит во власти призвание, тогда как Мария Стюарт воспринимает свой сан как ни к чему не обязывающее звание. У каждой свои отличительные достоинства и свои недостатки. И если безрассудно-геройская отвага Марии Стюарт становится ее роком, то медлительность и неуверенность Елизаветы в конечном счете идут ей на пользу. В политике неторопливое упорство всегда берет верх над неукротимой силой, тщательно разработанный план торжествует над импульсивным порывом, реализм – над романтикой.
Но в этом споре различие сестер идет гораздо глубже. Не только как королевы, но и как женщины Елизавета и Мария Стюарт – полярные противоположности, как будто природе заблагорассудилось воплотить в двух великих образах всемирно-историческую антитезу, проведя ее во всем с контрапунктической последовательностью.
Как женщина Мария Стюарт – женщина до конца, женщина в полном смысле слова; наиболее ответственные ее решения всегда диктовались импульсами, исходившими из глубочайших родников ее женского естества. И не то чтобы она была ненасытно страстной натурой, послушной велениям инстинкта, напротив, что? особенно ее характеризует – это чрезвычайно затянувшаяся женская сдержанность. Проходят годы, прежде чем ее чувства дают о себе знать. Долго видим мы в ней (и такова она на портретах) милую, приветливую, кроткую, ко всему безучастную женщину с чуть томным взглядом, с почти детской улыбкой на устах, нерешительное, пассивное создание, женщину-ребенка. Как и всякая истинно женственная натура, она легко возбудима и подвержена вспышкам волнения, краснеет и бледнеет по любому поводу, глаза ее то и дело увлажняются. Но это мгновенное, поверхностное волнение крови долгие годы не тревожит глубин ее существа; и как раз потому, что она нормальная, настоящая, подлинная женщина, Мария Стюарт находит себя как сильный характер именно в страстной любви – единственной на всю жизнь. Только тогда чувствуется, как сильна в ней женщина, как она подвластна инстинктам и страстям, как скована цепями пола. Ибо в великий миг экстаза исчезает, словно сорванная налетевшей бурей, ее наружная культурная оснастка; в этой до сих пор спокойной и сдержанной натуре рушатся плотины воспитания, морали, достоинства, и, поставленная перед выбором между честью и страстью, Мария Стюарт, как истинная женщина, избирает не королевское, а женское свое призвание. Царственная мантия ниспадает к ее ногам, и в своей наготе, пылая, она чувствует себя сестрой бесчисленных женщин, что томятся желанием давать и брать любовь; и больше всего возвышает ее в наших глазах то, что ради немногих сполна пережитых мгновений она с презрением отшвырнула от себя власть, достоинство и сан.
Елизавета, напротив, никогда не была способна так беззаветно отдаваться любви – и это по особой, интимной причине. Как выражается Мария Стюарт в своем знаменитом обличительном письме, она физически «не такая, как все женщины». Елизавете было отказано не только в материнстве; очевидно, и тот естественный акт любви, в котором женщина отдается на волю мужчины, был ей недоступен. Не так уж добровольно, как ей хочется представить, осталась она вековечной virgin Queen, королевой-девственницей, и хотя некоторые сообщения современников (вроде приписываемого Бену Джонсону) относительно физического уродства Елизаветы и вызывают сомнения, все же известно, что какое-то физиологическое или душевное торможение нарушало ее интимную женскую жизнь. Подобная ненормальность должна весьма серьезно сказаться на всем существе женщины; и в самом деле, в этой тайне заключены, как в зерне, и другие тайны ее души. Все нервически неустойчивое, переливчатое, изменчивое в ее натуре, эта мигающая истерическая светотень, какая-то неуравновешенность и безотчетность в поступках, внезапное переключение с холода на жар, с «да» на «нет», все комедиантское, утонченное, затаенно-хитрое, а также в немалой степени свойственное ей кокетство, не раз подводившее ее королевское достоинство, порождалось внутренней неуверенностью. Просто и естественно чувствовать, мыслить и действовать было недоступно этой женщине с глубокой трещиной в душе; никто не мог ни в чем на нее рассчитывать, и меньше всего она сама. Но, будучи даже калекой в самой интимной области, игрушкой собственных издерганных нервов, будучи опасной интриганкой, Елизавета все же никогда не была жестокой, бесчеловечной, холодной и черствой. Ничто не может быть лживее, поверхностнее и банальнее, чем получившее широкое хождение понятие о ней (воспринятое Шиллером в его трагедии), будто бы коварная кошка Елизавета играла кроткой, безоружной Марией Стюарт как беспомощной мышкой. Кто глядит глубже, тот в этой одинокой женщине, зябнущей под броней своего могущества и только изводящей себя своими псевдолюбовниками, ибо ни одному из них она не способна отдаться, видит скрытую лукавую теплоту, а за ее капризными и грубыми выходками – честное желание быть доброй и великодушной. Ее робкой натуре претило насилие, и она предпочитала ему пряную дипломатическую игру «по маленькой» и безответственность закулисных махинаций; каждое объявление войны повергало ее в дрожь и трепет, каждый смертный приговор камнем ложился на совесть, всеми силами старалась она сохранить в стране мир. Если она боролась с Марией Стюарт, то лишь потому, что чувствовала (и не без основания) с ее стороны угрозу, да и то она охотнее уклонилась бы от открытой борьбы, ибо была по натуре игроком, шулером, но только не борцом. Обе они – Мария Стюарт по своей беспечности и Елизавета по робости характера – предпочли бы жить в мире, пусть бы даже это был худой, ложный мир. Но конфигурация звезд на небе в тот исторический момент не допускала половинчатости, неопределенности. Равнодушная к заветным желаниям отдельной личности, сильнейшая воля истории часто втравливает людей и стоящие за ними силы в свою смертоносную игру.
Ибо за антагонистическими чертами исторических личностей повелительно, исполинскими тенями встают великие противоречия эпохи. И не случайность, что Мария Стюарт была поборницей старой, католической, а Елизавета – защитницей новой, реформатской церкви; в том, что каждая из них берет сторону одной из борющихся партий, как бы символически отражен тот факт, что обе королевы воплощают различные мировоззрения: Мария Стюарт – умирающий мир рыцарского Средневековья, Елизавета – мир новый, нарождающийся. В их борьбе как бы изживает себя эпоха перелома.
Мария Стюарт, как последний отважный паладин, борется и умирает за то, что кануло без возврата, – за обреченное, гиблое дело, и это придает ее фигуре такое романтическое очарование. Она лишь повинуется творящей воле истории, когда, обращенная в прошлое, политически связывает свою судьбу с силами, уже перешагнувшими через зенит, с Испанией и Ватиканом, – тогда как Елизавета прозорливо шлет посольства в самые отдаленные страны, Россию и Персию, и с безошибочным чутьем обращает энергию своего народа к океанам, как бы в предвидении того, что столбы, поддерживающие будущую мировую империю, должны быть воздвигнуты на новых континентах. Мария Стюарт косно привержена традиции, она не возвышается над чисто династическим пониманием королевской власти. По ее мнению, страна прилежит властителю, а не властитель стране; все эти годы Мария Стюарт была лишь королевой Шотландской, и никогда не была она королевой шотландского народа. Сотни написанных ею писем трактуют об утверждении, расширении ее личных прав, и нет ни одного, где шла бы речь о народном благе, о развитии торговли, мореплавании или военной мощи. Как языком ее в поэтических опытах и повседневном обиходе всегда оставался французский язык, так и в помыслах ее и чувствах нет ничего национального, шотландского; не ради Шотландии жила она и приняла смерть, а единственно, чтобы оставаться королевою Шотландской. В итоге Мария Стюарт не дала своей стране ничего творчески вдохновляющего, кроме легенды о своей жизни.
Но, поставив себя над всеми, Мария Стюарт обрекла себя на одиночество. Пусть мужеством и решимостью она неизмеримо превосходила Елизавету, зато Елизавета не в одиночестве боролась против нее. Чувство неуверенности рано заставило ее укрепить свои позиции, и она сумела окружить себя помощниками – надежными людьми с ясным, трезвым разумом; в этой войне она опиралась на целый генеральный штаб, обучавший ее тактике и практике и в решительные минуты защищавший ее от порывов и срывов ее нервического темперамента. Елизавета умудрилась создать вокруг себя такую превосходную организацию, что и поныне, спустя столетия, ее личные заслуги почти неотделимы от коллективных заслуг елизаветинской эпохи в целом, так что озаряющая ее имя бессмертная слава обнимает и достижения ее выдающихся советников. В то время как Мария Стюарт – это Мария Стюарт и только, Елизавета – это всегда Елизавета плюс Сесил, плюс Лестер, плюс Уолсингем, плюс энергия всего народа; не разберешь, кто же, собственно, был гением того, шекспировского, века – Англия или Елизавета, настолько они слились в некое замечательное единство. Своим выдающимся положением среди монархов своего времени Елизавета обязана как раз тому, что она не стремилась быть госпожой Англии, а лишь исполнительницей воли англичан, свершительницей национальной миссии. Она угадала веяние времени, от автократии устремленное к конституционному строю. Добровольно признает она новые силы, возникающие из преобразования сословий, из расширения мирового пространства благодаря выдающимся открытиям века; она поощряет все новое – сословные гильдии, купцов-толстосумов и даже пиратов, ибо Англии, ее Англии, они прокладывают путь к преобладанию на море. Тысячи раз жертвует она (чего Мария Стюарт никогда не делает) своими личными желаниями ради общенационального блага. Наилучший выход из душевных затруднений – выход в деятельную жизнь; потерпев крах как женщина, Елизавета ищет счастья в благоденствии своего народа. Весь свой эгоизм, всю жажду власти эта бездетная, безмужняя женщина переключила на общенациональные интересы: быть великой величием Англии в глазах потомства было самым благородным из ее тщеславных помыслов, и жила она лишь во имя будущего величия Англии. Никакая другая корона не могла бы ее прельстить (тогда как Мария Стюарт с восторгом сменяла бы свою на любую лучшую), и в то время как та сгорела в свой час, вспыхнув ослепительным метеором, скупая, дальновидная Елизавета отдала все силы будущему своей нации.
А потому не случайность, что борьба между Марией Стюарт и Елизаветой решилась в пользу той, что олицетворяла прогрессивное, жизнеспособное начало, а не той, что была обращена назад, в рыцарское прошлое; с Елизаветой победила воля истории, которая торопится вперед, отбрасывая отжившие формы, как пустую шелуху, творчески испытывая себя на новых путях. В ее жизни воплощена энергия нации, которая хочет завоевать свое место в мире, тогда как в смерти Марии Стюарт героически и эффектно отмирает рыцарское прошлое. И все же каждая из них выполняет в этой борьбе свое назначение: Елизавета, как трезвая реалистка, побеждает в истории, романтическая Мария Стюарт – в поэзии и предании.
Блистательна эта борьба, предстающая нам сквозь призму времени и пространства и в столь эффектном исполнении; жаль только, что презренны и мелки те средства, какими она ведется. Ибо хоть фигуры и незаурядные, обе женщины остаются женщинами, они бессильны превозмочь свойственную их полу слабость – враждовать не в открытую, а изводя противника лукавыми происками, булавочными уколами. Будь на месте Марии Стюарт и Елизаветы двое мужчин, двое королей, не миновать бы им кровавого столкновения, войны. Тут притязание непримиримо встало бы против притязания, мужество против мужества. Конфликт между Марией Стюарт и Елизаветой лишен честной мужской ясности; это драка двух кошек, которые, спрятав когти, бродят вокруг да около и сторожат друг друга, – коварная и во всех отношениях нечестная игра. В течение четверти века эти женщины только и делали, что лгали друг другу (причем ни одна ни на секунду не дала себя обмануть). Ни разу не поглядят они в глаза друг другу, ни разу их ненависть не выступит с поднятым забралом; льстиво и лицемерно улыбаясь, приветствуют они, и поздравляют, и улещают, и одаривают одна другую, и каждая держит за спиной отточенный кинжал. Нет, хроника войны между Елизаветой и Марией Стюарт не знает ни битв, ни прославленных эпизодов в духе Илиады, это не героическая эпопея, а скорее глава из Макиавелли, пусть и увлекательная для психолога, но отталкивающая для моралиста, ибо это всего лишь затянувшаяся на двадцатилетие интрига, но только не открытый, бряцающий бой.