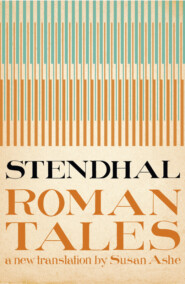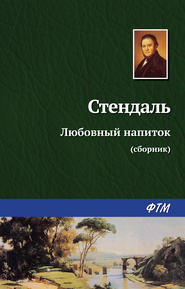По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Красное и белое, или Люсьен Левен
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Хотите, господин корнет, я донесу вас до вашего дома? Я достаточно силен. Но сначала позвольте снять с вас мундир: я перевяжу вашу рану.
Люсьен ничего не ответил. Менюэль в одно мгновение снял с него мундир, разорвал на нем сорочку, сделал из одного рукава повязку, наложил ее на рану и изо всех сил стянул руку носовым платком; сбегав в ближайший кабачок, он вернулся оттуда со стаканом водки и смочил ею повязку. Остаток водки он дал выпить Люсьену.
– Побудьте здесь, – сказал ему Люсьен.
Минуту спустя ему удалось выговорить:
– Все это тайна. Пойдите ко мне, велите заложить коляску, садитесь в нее и приезжайте за мной. Вы мне окажете услугу, если никто на свете не узнает об этом маленьком происшествии, особенно полковник.
«Милорд, в конце концов, неглуп, – решил Менюэль, направляясь за коляской. Улан испытывал прилив гордости. – Сейчас я буду давать распоряжения этим щеголям-лакеям, у которых такие богатые ливреи».
Менюэль раньше презирал Люсьена; он нашел его раненым и мужественно переносящим случившееся; теперь он восхищался им так же пылко и глубоко, как презирал его четверть часа назад.
Глава восьмая
Очутившись в коляске, Менюэль, вместо того чтобы перейти на соболезнующий тон, стал сыпать шутками, смешная сторона которых заключалась не столько в их смысле, сколько в том, как он все это говорил.
– Прошу вас, мой друг, дать мне честное слово, что вы никому не расскажете о том, чему были свидетелем.
– Заверяю вас чем угодно; но самое лучшее, спросите-ка самого себя, сударь, захочу ли я прогневить любимчика подполковника Филото?
Менюэль отправился за полковым хирургом; его не удалось разыскать; Менюэль остался при раненом, который нисколько не страдал. Люсьен был поражен природным умом Менюэля, забулдыги и неудачника, весело относившегося ко всем превратностям судьбы и поселившегося у нашего героя. Доведенный до отчаяния скукой, окруженный чопорными людьми и еще не научившийся ценить характер простого солдата, Люсьен, вместо того чтобы предаваться мрачным мыслям, охотно слушал бесконечные рассказы Менюэля.
Полковой хирург, шевалье Билар, как он сам себя именовал, довольно добродушный шарлатан, уроженец департамента Верхних Альп, явился на другой день рано утром. Шпага противника прошла совсем близко от артерии. Шевалье Билар сильно сгустил краски (опасности не было никакой) и стал навещать больного по два, по три раза в день. В библиотеке храброго корнета можно было найти, как выражался шевалье, «превосходные издания» вроде киршвассера 1810 года, двенадцатилетнего коньяка, бордоской анисовки фирмы Мари Бризар, данцигской водки, настоянной на золотых травинках, и т. п. Шевалье Билар, любитель чтения, проводил целый день у раненого, сильно докучая этим Люсьену; но компенсацией для него явилось то, что Менюэль, также отдававший должное великолепной «библиотеке» нашего героя, теперь окончательно поселился у него. Люсьен при посредстве подполковника Филото выпросил себе Менюэля вместо сиделки.
Менюэль рассказывал нашему раненому герою о некоторых происшествиях из своей жизни, воздерживаясь от повествования о других. В виде эпизода мы изложим мимоходом эту историю жизни простого солдата. Если порою в реестрах полка значатся имена людей с заурядной, похожей одна на другую судьбою, то в иных случаях под простым мундиром солдата бьется сердце, испытавшее не раз интересные ощущения.
Менюэль работал подмастерьем у переплетчика в Сен-Мало, на своей родине. Влюбившись в субретку, которая служила в труппе бродячих комедиантов, приехавшей в Сен-Мало, Менюэль бросил заведение своего хозяина и сделался актером. Однажды в Байонне, где он жил уже несколько месяцев, успев за это время завоевать симпатии многих лиц, и где, давая уроки фехтования, он сколотил себе кое-какой капиталец, Менюэль был поставлен в затруднительное положение одним молодым байонцем, который по дружбе одолжил ему полтораста франков и теперь настойчиво требовал их обратно. Сбережения Менюэля были немного больше этой суммы, но ему не хотелось трогать их, вернее, совершенно подорвать их выплатой долга, и он решился на подлог. То была расписка в получении денег, составленная следующим образом: «Получено от предъявителя сего сто пятьдесят франков. Перре-сын». Когда приятель кредитора, господина Перре, уехавшего в По, пришел от его имени требовать уплаты, у Менюэля хватило смелости заявить, что он послал деньги господину Перре перед его отъездом. По возвращении в Байонну Перре потребовал, чтобы ему вернули долг. Менюэль ответил грубостью; Перре вызвал его на поединок, хотя Менюэль был чем-то вроде учителя фехтования.
Менюэль, уже снедаемый угрызениями совести, пришел в ужас от того, что собирался сделать: убить человека, чтобы украсть у него полтораста франков! Он предложил уплатить долг. Перре обозвал его трусом. Эти слова заставили Менюэля приободриться и подействовали на него благотворно. Он решил драться и дал себе твердое обещание всячески щадить Перре. По дороге к месту дуэли Менюэль сказал Перре:
– Отбивайтесь все время, ни разу не открывайтесь, и я не смогу вас убить.
Он это советовал от чистого сердца; он говорил как учитель фехтования. К несчастью, Перре заподозрил его в коварстве и низости, от которых бедняга Менюэль был очень далек.
После двух-трех схваток Перре счел нужным избрать способ действий обратный тому, который ему посоветовал противник; он бросился на Менюэля и сам напоролся на клинок. Ранение оказалось опасным. Менюэль был в отчаянии, но его горе сочли лицемерием и трусостью. Опозоренный, поднятый на смех всеми в городе, он подвергся преследованию со стороны отца Перре как лицо, совершившее подлог денежного документа. Вся Байонна пришла в ярость, и так как во Франции все, даже решения присяжных заседателей, испытывает на себе влияние моды, Менюэля приговорили к каторжным работам.
В тюрьме Менюэль доставал через сторожей вино и почти всегда был навеселе; он терзался угрызениями совести и, считая себя человеком погибшим, стремился весело провести короткое время, остававшееся в его распоряжении. Надзиратели, тюремщики – все полюбили его. Однажды он увидел, как в каморку привратника принесли десяток толстых связок веревок, чтобы заменить ими старые веревки на всех оконных ставнях. Менюэля озарила мысль: он тотчас же украл одну связку. Ему повезло: никто его не заметил, – и он бежал в ту же ночь, перебравшись через две стены весьма внушительной высоты. Он прежде всего кинулся к приятелю Перре – отдать полтораста франков долга; приятель был один из тех, которые больше всех помогали отцу Перре добиться осуждения Менюэля. Но в Байонне мода уже начала меняться, и люди стали находить, что суд был слишком жесток к нему. Приятель покойного, увидав Менюэля, пожалел его и сразу же посадил его на судно, еще до рассвета уходившее в море на рыбную ловлю.
В следующую ночь разыгралась буря; судно из Байонны было отброшено к Сан-Себастьяну. Менюэль подозвал испанскую лодку и в ту же ночь уже бродил по сан-себастьянской набережной. Вербовщик предложил ему поступить в солдаты, чтобы стать защитником законной династии и дона Карлоса; Менюэль согласился и через несколько дней прибыл в армию претендента на испанский престол. Он доказал свое умение ездить верхом, за словом в карман не лез, и его назначили в кавалерию.
Месяц спустя Менюэль выступил со своей ротой для прикрытия обоза; christinos[30 - Сторонники королевы Христины (исп.).] напали на них; Менюэль насмерть перепугался. Сделав несколько выстрелов, он галопом умчался в горы. Когда его конь был уже не в силах двигаться вперед по крутым скалам, Менюэль, связав ему передние ноги, оставил его в русле пересохшего горного потока и побежал дальше. Наконец до его слуха перестали долетать неприятные звуки ружейной пальбы. Он призадумался.
«Как дерзну я после столь блестящего поступка снова показаться в армии, где тремя пустяковыми дуэлями я составил себе славу неустрашимого храбреца?»
«Я – великий негодяй, – пришел к заключению Менюэль. – Подделыватель денежных документов, приговоренный к каторжным работам, и, в довершение всего, еще трус!» У него мелькнула мысль о самоубийстве, но когда он стал размышлять о способах покончить с собой, им овладел ужас. С наступлением ночи наш молодец, умирая от голода, подумал, что, быть может, мул одной из маркитанток ранен или убит в перестрелке и что в таком случае на поле сражения, должно быть, валяются корзины, которые мул таскал на себе; Менюэль, опасливо крадучись, вернулся обратно. Он часто подолгу останавливался, ложился и прикладывал ухо к земле; до него доносился только шум ночного ветерка в кустарниках и низкорослых пробковых деревьях.
Наконец он очутился на месте, откуда бежал, и там, к великому своему изумлению, увидал, что это крупное дело после шестичасовой перестрелки свелось к потере двух человек; оба трупа лежали на поле битвы. «Я, значит, редкий трус, если испугался такой ничтожной опасности!» – подумал он. Бродя в отчаянии по месту сражения, он наткнулся на бурдюк, наполовину наполненный вином, и несколько поодаль на совершенно целый хлеб. Из осторожности он отошел шагов на двести от поля битвы и принялся за еду; потом, все время настороженно прислушиваясь, вернулся назад.
Один из убитых оказался молодым французом по имени Менюэль, и сумка его была набита письмами; там же лежал по всем правилам выправленный паспорт. Нашего героя осенила блестящая мысль переменить имя; он взял себе паспорт, письма, сумку, рубахи, которые были лучше его рубах, и, наконец, имя Менюэля; до того его звали совсем иначе.
Переменив фамилию, он задал себе вопрос: «Почему бы мне не возвратиться во Францию? Я уже не осужден на каторжные работы, не преступник, которого всюду разыскивает жандармерия. Мне надо только держаться подальше от Байонны, где я сиял ложным блеском, да Монпелье, где родился бедняга Менюэль, и я свободно могу кочевать по всей Франции». Заря уже занималась; он нашел около сотни франков в карманах обоих убитых и продолжал свои поиски, как вдруг увидел, что к нему приближаются двое крестьян. Он решил сказаться раненым, отправился за лошадью, затем вернулся к крестьянам, но убедился, что они, сочтя его ослабевшим от раны, хотели обойтись с ним так же, как он обошелся с покойниками, он сразу почувствовал себя выздоровевшим, и крестьяне опять стали человечнее; один из них обязался за пиастр, который ему будут выплачивать утром, и за другой, который ему будут выплачивать вечером, довести Менюэля до Бидассоа – горного ручья, вдоль которого, как известно, проходит французская граница.
Менюэль был очень счастлив, но не успел он очутиться во Франции, как уже вообразил (это был человек, наделенный чересчур пылким воображением), будто жандармы, попадавшиеся ему навстречу, всматриваются в него как-то особенно. Он доехал верхом до Безье. Там он продал своего коня и сел в дилижанс, уходивший в Лион. Проделав часть пути на пароходе, а другую часть пешком, он добрался до Дижона, а несколько дней спустя – до Кольмара. Когда он прибыл в этот красивый городок, у него в кармане оставалось только пять франков.
Он крепко призадумался. «Я отлично владею оружием, – сказал он себе, – отлично дерусь, если только меня выведут из себя, и хорошо езжу верхом; все газеты утверждают, что войны еще долго не будет; к тому же в случае, если она разразится, я могу дезертировать. Запишемся же в егерский полк, штаб которого находится в Кольмаре. Я вручу свой паспорт коменданту, а затем постараюсь выкрасть его. Если мне удастся уничтожить этот документ, способный погубить меня, я скажу, что я уроженец Лиона, который я только что хорошенько рассмотрел, назовусь Менюэлем, и черта с два, если кто-нибудь во мне опознает приговоренного к каторге!» Сказано – сделано. Через полгода после своего поступления в полк Менюэль, образец для всех солдат, собственноручно сжег свой паспорт, который он изловчился выкрасть из стола капитана, ведавшего рекрутированием новобранцев. Менюэля все очень любили, и он приобрел репутацию отличного фехтовальщика; в полку его считали большим весельчаком. Желая позабыть преследовавшие его несчастья, он оставлял в кабачке все деньги, которые зарабатывал с помощью рапиры. Он дал себе два обещания: приобрести в полку как можно больше друзей, никогда не садясь за стол один, и ни разу не напиться до потери сознания, чтобы не выболтать чего-нибудь лишнего.
В течение двух лет, что Менюэль опять служил в полку, его жизнь внешне сложилась вполне счастливо. Если бы он тщательно не скрывал, что он грамотен, офицеры его роты, которые были весьма довольны его опрятным видом и которым он всегда искал случая угодить, уж постарались бы добиться его производства в бригадиры. Менюэль слыл первым забавником в полку. У него произошла дуэль, закончившаяся очень счастливо для него, с одним учителем фехтования: он перед всем гарнизоном блестяще доказал свою храбрость и ловкость. Но всякий раз при виде жандарма его бросало в дрожь, и подобные встречи отравляли ему жизнь. От этой беды у него было одно лишь спасение – ближайший кабак.
Когда ему посчастливилось завязать тесные отношения с Люсьеном, в его судьбе произошел перелом. «Такой богач, – решил он, – сумеет добиться моего помилования, если я даже буду опознан: ему надо только захотеть. Он плюет на деньги и в нужный момент не пожалеет тысячи экю, чтобы подкупить в мою пользу какого-нибудь начальника бюро!»
От шевалье Билара Люсьен узнал, что в Нанси есть врач, знаменитый своим редким талантом и, кроме того, прекрасно принятый в высшем свете благодаря своему красноречию и ярым легитимистским убеждениям. Звали его господин Дю Пуарье. По всему тому, что рассказывал шевалье Билар, Люсьен сообразил, что этот лекарь, вероятно, является местным фактотумом и что, во всяком случае, с ним будет небезынтересно познакомиться.
– Обязательно, дорогой доктор, завтра же приведите ко мне этого господина Дю Пуарье; скажите ему, что я в опасности…
– Но вы вовсе не в опасности…
– А разве так уж неуместно начать со лжи наши сношения с пресловутым интриганом? Когда он будет здесь, не противоречьте мне ни в чем; предоставьте мне полную свободу, и мы с вами наслушаемся всяких занятных вещей насчет Генриха Пятого и Людовика Девятнадцатого; возможно, что мы с вами немного развлечемся.
– Ваша рана – дело чисто хирургическое; я не вижу, что тут делать врачу по внутренним болезням, и т. д.
В конце концов шевалье Билар все-таки согласился отправиться за этим лекарем, так как понял, что, если он его не приведет, Люсьен может сам письменно пригласить его к себе.
Знаменитый доктор явился на следующий день. «У него мрачный вид бесноватого», – подумал Люсьен. И пяти минут не просидел доктор у нашего героя, как уже, обращаясь к нему, он фамильярно похлопывал его по животу. Этот господин Дю Пуарье был крайне вульгарным существом, по-видимому гордившимся своими дурными, развязными манерами: так свинья валяется в грязи, нагло нежась на глазах у зрителя. У Люсьена почти не было времени заметить эти необыкновенные странности: было слишком очевидно, что Дю Пуарье фамильярничал с ним не из тщеславия и не из желания поставить себя на одну доску с Люсьеном или выше его. Люсьену казалось, что перед ним достойный человек, по необходимости вынужденный с живостью выражать мысли, от обилия и значительности которых его всегда распирает. Человек постарше Люсьена заметил бы, что горячность Дю Пуарье не мешала ему гордиться фамильярностью, на которую он сам дал себе право, и чувствовал все ее преимущества. Когда он не говорил с увлечением, он был так же мелочно кичлив, как и любой француз. Но шевалье Билар всего этого не увидел и нашел, что Дю Пуарье – человек дурного тона, которого следовало бы выгнать даже из кабака. «Нет, – решил Люсьен, минуту перед тем уже готовый поддаться обольщению и поверить пылкости этого одаренного человека, – это лицемер; он слишком умен, чтобы увлечься, он ничего не делает, не поразмыслив как следует. Эта выходящая за всякие пределы вульгарность и дурной тон, наряду с постоянной возвышенностью мыслей, должны преследовать какую-то цель». Люсьен внимательно слушал; доктор говорил обо всем, но главным образом о политике; он хотел уверить собеседника, что насчет всего у него есть какие-то никому не известные сведения.
– Однако, сударь, – перебил Дю Пуарье свои собственные бесконечные рассуждения о благоденствии Франции, – вы примете меня за парижского лекаря, упражняющегося в остроумии и говорящего с больным о чем угодно, кроме его болезни.
Доктор осмотрел руку Люсьена и предписал ему полный покой в течение недели.
– Оставьте всякие припарки, не применяйте никаких средств и, если не появится осложнений, забудьте об этой царапине.
Люсьен нашел, что, в то время как доктор Дю Пуарье осматривал его рану и выслушивал пульс, взор его был бесподобен. Покончив с этим, Дю Пуарье сразу же вернулся к своей основной мысли – о том, что Луи-Филипп не сможет долго управлять государством[31 - Это говорит легитимист, подобно тому как выше говорил республиканец. – Примеч. автора.].
Наш герой довольно легкомысленно вообразил, что он, не прилагая никаких усилий, позабавится насчет провинциального остроумия профессионального врача; он убедился, что провинциальная логика стоит большего, чем провинциальные стишки. Он не только не разыграл Дю Пуарье, но ему пришлось затратить немало труда, чтобы самому не попасть в смешное положение. Одно было бесспорным: при виде столь необычного зверя он совершенно исцелился от скуки.
Дю Пуарье можно было дать лет пятьдесят; у него были крупные и очень характерные черты лица. Серо-зеленые глаза, глубоко сидевшие в орбитах, двигались, вращались с удивительной быстротой и, казалось, метали искры; ради них можно было простить доктору его поразительно длинный нос, отделявший их друг от друга. В целом ряде ракурсов этот несчастный нос придавал физиономии Дю Пуарье сходство с мордой проворной лисицы – большое неудобство для апостола. К сожалению, если присмотреться поближе, сходство это довершалось густым лесом рыжеватых, весьма рискованного оттенка волос, торчавших дыбом на лбу и на висках. В общем, раз увидав это лицо, его уже нельзя было забыть; в Париже оно, быть может, отпугнуло бы дураков, в провинции же, где люди скучают, с готовностью приемлется все, что обещает хоть маленький интерес, и доктор пользовался успехом.
У него были вульгарные манеры и наряду с этим необычайная, поражавшая воображение физиономия. Когда доктор считал, что он уже убедил своего противника (а он, обращаясь к собеседнику, всегда имел перед собой противника, которого надлежало переубедить, или сторонника, которого следовало завербовать), его брови подымались невероятно высоко, а маленькие серые глазки, широко раскрытые, как у гиены, казалось, вот-вот выскочат из орбит. «Даже в Париже, – подумал Люсьен, – эта кабанья морда, этот яростный фанатизм, эти дерзкие, но полные красноречия и энергии повадки спасли бы его от участи быть смешным. Это апостол, это иезуит». И он с крайним любопытством разглядывал его.
Во время этих размышлений доктор перешел к вопросам самой высокой политики; он, видимо, был увлечен. Следовало отменить раздел родовых поместий после кончины главы семейства, следовало прежде всего призвать обратно иезуитов. Что касается старшей ветви, было бы отступничеством выпить во Франции стакан вина до того момента, пока эта ветвь не будет восстановлена во всех своих правах, то есть в Тюильри, и т. д. Ни единым словом господин Дю Пуарье не счел нужным смягчить резкий свет этих великих истин, не счел нужным поступиться в пользу предрассудков своего адепта.
– Как! – воскликнул вдруг доктор. – Вы, человек из хорошей семьи, человек утонченных нравов, состоятельный, занимающий хорошее положение в свете, получивший тонкое воспитание, – и вы бросаетесь в гнусный омут умеренных взглядов! Вы становитесь их защитником, вы будете сражаться за них не в настоящей войне, самые бедствия которой имеют столько благородства и прелести для возвышенных сердец, а в войне жандармской, в пустой перестрелке с несчастными, умирающими с голоду рабочими? Для вас экспедиция на улицу Транснонен будет сражением при Маренго…
– Дорогой шевалье, – обратился Люсьен к доктору Билару, который был этим шокирован и считал себя обязанным выступить на защиту умеренных взглядов, – дорогой шевалье, мне пришла фантазия рассказать доктору о некоторых грешках моей юности, целиком входящих в компетенцию врача, о них я вам поведаю тоже, но когда-нибудь в другой раз: есть вещи, в которых мы предпочитаем признаваться лишь с глазу на глаз, и т. д., и т. д.
Несмотря на столь ясно выраженное желание, Люсьену стоило большого труда заставить убраться шевалье Билара, на которого напала непреодолимая охота говорить о политике. Люсьен без всяких оснований заподозрил его в том, что он шпион.
Красноречивый Дю Пуарье нисколько не был обескуражен изгнанием хирурга: он продолжал пылко жестикулировать и горланить без умолку.
Люсьен ничего не ответил. Менюэль в одно мгновение снял с него мундир, разорвал на нем сорочку, сделал из одного рукава повязку, наложил ее на рану и изо всех сил стянул руку носовым платком; сбегав в ближайший кабачок, он вернулся оттуда со стаканом водки и смочил ею повязку. Остаток водки он дал выпить Люсьену.
– Побудьте здесь, – сказал ему Люсьен.
Минуту спустя ему удалось выговорить:
– Все это тайна. Пойдите ко мне, велите заложить коляску, садитесь в нее и приезжайте за мной. Вы мне окажете услугу, если никто на свете не узнает об этом маленьком происшествии, особенно полковник.
«Милорд, в конце концов, неглуп, – решил Менюэль, направляясь за коляской. Улан испытывал прилив гордости. – Сейчас я буду давать распоряжения этим щеголям-лакеям, у которых такие богатые ливреи».
Менюэль раньше презирал Люсьена; он нашел его раненым и мужественно переносящим случившееся; теперь он восхищался им так же пылко и глубоко, как презирал его четверть часа назад.
Глава восьмая
Очутившись в коляске, Менюэль, вместо того чтобы перейти на соболезнующий тон, стал сыпать шутками, смешная сторона которых заключалась не столько в их смысле, сколько в том, как он все это говорил.
– Прошу вас, мой друг, дать мне честное слово, что вы никому не расскажете о том, чему были свидетелем.
– Заверяю вас чем угодно; но самое лучшее, спросите-ка самого себя, сударь, захочу ли я прогневить любимчика подполковника Филото?
Менюэль отправился за полковым хирургом; его не удалось разыскать; Менюэль остался при раненом, который нисколько не страдал. Люсьен был поражен природным умом Менюэля, забулдыги и неудачника, весело относившегося ко всем превратностям судьбы и поселившегося у нашего героя. Доведенный до отчаяния скукой, окруженный чопорными людьми и еще не научившийся ценить характер простого солдата, Люсьен, вместо того чтобы предаваться мрачным мыслям, охотно слушал бесконечные рассказы Менюэля.
Полковой хирург, шевалье Билар, как он сам себя именовал, довольно добродушный шарлатан, уроженец департамента Верхних Альп, явился на другой день рано утром. Шпага противника прошла совсем близко от артерии. Шевалье Билар сильно сгустил краски (опасности не было никакой) и стал навещать больного по два, по три раза в день. В библиотеке храброго корнета можно было найти, как выражался шевалье, «превосходные издания» вроде киршвассера 1810 года, двенадцатилетнего коньяка, бордоской анисовки фирмы Мари Бризар, данцигской водки, настоянной на золотых травинках, и т. п. Шевалье Билар, любитель чтения, проводил целый день у раненого, сильно докучая этим Люсьену; но компенсацией для него явилось то, что Менюэль, также отдававший должное великолепной «библиотеке» нашего героя, теперь окончательно поселился у него. Люсьен при посредстве подполковника Филото выпросил себе Менюэля вместо сиделки.
Менюэль рассказывал нашему раненому герою о некоторых происшествиях из своей жизни, воздерживаясь от повествования о других. В виде эпизода мы изложим мимоходом эту историю жизни простого солдата. Если порою в реестрах полка значатся имена людей с заурядной, похожей одна на другую судьбою, то в иных случаях под простым мундиром солдата бьется сердце, испытавшее не раз интересные ощущения.
Менюэль работал подмастерьем у переплетчика в Сен-Мало, на своей родине. Влюбившись в субретку, которая служила в труппе бродячих комедиантов, приехавшей в Сен-Мало, Менюэль бросил заведение своего хозяина и сделался актером. Однажды в Байонне, где он жил уже несколько месяцев, успев за это время завоевать симпатии многих лиц, и где, давая уроки фехтования, он сколотил себе кое-какой капиталец, Менюэль был поставлен в затруднительное положение одним молодым байонцем, который по дружбе одолжил ему полтораста франков и теперь настойчиво требовал их обратно. Сбережения Менюэля были немного больше этой суммы, но ему не хотелось трогать их, вернее, совершенно подорвать их выплатой долга, и он решился на подлог. То была расписка в получении денег, составленная следующим образом: «Получено от предъявителя сего сто пятьдесят франков. Перре-сын». Когда приятель кредитора, господина Перре, уехавшего в По, пришел от его имени требовать уплаты, у Менюэля хватило смелости заявить, что он послал деньги господину Перре перед его отъездом. По возвращении в Байонну Перре потребовал, чтобы ему вернули долг. Менюэль ответил грубостью; Перре вызвал его на поединок, хотя Менюэль был чем-то вроде учителя фехтования.
Менюэль, уже снедаемый угрызениями совести, пришел в ужас от того, что собирался сделать: убить человека, чтобы украсть у него полтораста франков! Он предложил уплатить долг. Перре обозвал его трусом. Эти слова заставили Менюэля приободриться и подействовали на него благотворно. Он решил драться и дал себе твердое обещание всячески щадить Перре. По дороге к месту дуэли Менюэль сказал Перре:
– Отбивайтесь все время, ни разу не открывайтесь, и я не смогу вас убить.
Он это советовал от чистого сердца; он говорил как учитель фехтования. К несчастью, Перре заподозрил его в коварстве и низости, от которых бедняга Менюэль был очень далек.
После двух-трех схваток Перре счел нужным избрать способ действий обратный тому, который ему посоветовал противник; он бросился на Менюэля и сам напоролся на клинок. Ранение оказалось опасным. Менюэль был в отчаянии, но его горе сочли лицемерием и трусостью. Опозоренный, поднятый на смех всеми в городе, он подвергся преследованию со стороны отца Перре как лицо, совершившее подлог денежного документа. Вся Байонна пришла в ярость, и так как во Франции все, даже решения присяжных заседателей, испытывает на себе влияние моды, Менюэля приговорили к каторжным работам.
В тюрьме Менюэль доставал через сторожей вино и почти всегда был навеселе; он терзался угрызениями совести и, считая себя человеком погибшим, стремился весело провести короткое время, остававшееся в его распоряжении. Надзиратели, тюремщики – все полюбили его. Однажды он увидел, как в каморку привратника принесли десяток толстых связок веревок, чтобы заменить ими старые веревки на всех оконных ставнях. Менюэля озарила мысль: он тотчас же украл одну связку. Ему повезло: никто его не заметил, – и он бежал в ту же ночь, перебравшись через две стены весьма внушительной высоты. Он прежде всего кинулся к приятелю Перре – отдать полтораста франков долга; приятель был один из тех, которые больше всех помогали отцу Перре добиться осуждения Менюэля. Но в Байонне мода уже начала меняться, и люди стали находить, что суд был слишком жесток к нему. Приятель покойного, увидав Менюэля, пожалел его и сразу же посадил его на судно, еще до рассвета уходившее в море на рыбную ловлю.
В следующую ночь разыгралась буря; судно из Байонны было отброшено к Сан-Себастьяну. Менюэль подозвал испанскую лодку и в ту же ночь уже бродил по сан-себастьянской набережной. Вербовщик предложил ему поступить в солдаты, чтобы стать защитником законной династии и дона Карлоса; Менюэль согласился и через несколько дней прибыл в армию претендента на испанский престол. Он доказал свое умение ездить верхом, за словом в карман не лез, и его назначили в кавалерию.
Месяц спустя Менюэль выступил со своей ротой для прикрытия обоза; christinos[30 - Сторонники королевы Христины (исп.).] напали на них; Менюэль насмерть перепугался. Сделав несколько выстрелов, он галопом умчался в горы. Когда его конь был уже не в силах двигаться вперед по крутым скалам, Менюэль, связав ему передние ноги, оставил его в русле пересохшего горного потока и побежал дальше. Наконец до его слуха перестали долетать неприятные звуки ружейной пальбы. Он призадумался.
«Как дерзну я после столь блестящего поступка снова показаться в армии, где тремя пустяковыми дуэлями я составил себе славу неустрашимого храбреца?»
«Я – великий негодяй, – пришел к заключению Менюэль. – Подделыватель денежных документов, приговоренный к каторжным работам, и, в довершение всего, еще трус!» У него мелькнула мысль о самоубийстве, но когда он стал размышлять о способах покончить с собой, им овладел ужас. С наступлением ночи наш молодец, умирая от голода, подумал, что, быть может, мул одной из маркитанток ранен или убит в перестрелке и что в таком случае на поле сражения, должно быть, валяются корзины, которые мул таскал на себе; Менюэль, опасливо крадучись, вернулся обратно. Он часто подолгу останавливался, ложился и прикладывал ухо к земле; до него доносился только шум ночного ветерка в кустарниках и низкорослых пробковых деревьях.
Наконец он очутился на месте, откуда бежал, и там, к великому своему изумлению, увидал, что это крупное дело после шестичасовой перестрелки свелось к потере двух человек; оба трупа лежали на поле битвы. «Я, значит, редкий трус, если испугался такой ничтожной опасности!» – подумал он. Бродя в отчаянии по месту сражения, он наткнулся на бурдюк, наполовину наполненный вином, и несколько поодаль на совершенно целый хлеб. Из осторожности он отошел шагов на двести от поля битвы и принялся за еду; потом, все время настороженно прислушиваясь, вернулся назад.
Один из убитых оказался молодым французом по имени Менюэль, и сумка его была набита письмами; там же лежал по всем правилам выправленный паспорт. Нашего героя осенила блестящая мысль переменить имя; он взял себе паспорт, письма, сумку, рубахи, которые были лучше его рубах, и, наконец, имя Менюэля; до того его звали совсем иначе.
Переменив фамилию, он задал себе вопрос: «Почему бы мне не возвратиться во Францию? Я уже не осужден на каторжные работы, не преступник, которого всюду разыскивает жандармерия. Мне надо только держаться подальше от Байонны, где я сиял ложным блеском, да Монпелье, где родился бедняга Менюэль, и я свободно могу кочевать по всей Франции». Заря уже занималась; он нашел около сотни франков в карманах обоих убитых и продолжал свои поиски, как вдруг увидел, что к нему приближаются двое крестьян. Он решил сказаться раненым, отправился за лошадью, затем вернулся к крестьянам, но убедился, что они, сочтя его ослабевшим от раны, хотели обойтись с ним так же, как он обошелся с покойниками, он сразу почувствовал себя выздоровевшим, и крестьяне опять стали человечнее; один из них обязался за пиастр, который ему будут выплачивать утром, и за другой, который ему будут выплачивать вечером, довести Менюэля до Бидассоа – горного ручья, вдоль которого, как известно, проходит французская граница.
Менюэль был очень счастлив, но не успел он очутиться во Франции, как уже вообразил (это был человек, наделенный чересчур пылким воображением), будто жандармы, попадавшиеся ему навстречу, всматриваются в него как-то особенно. Он доехал верхом до Безье. Там он продал своего коня и сел в дилижанс, уходивший в Лион. Проделав часть пути на пароходе, а другую часть пешком, он добрался до Дижона, а несколько дней спустя – до Кольмара. Когда он прибыл в этот красивый городок, у него в кармане оставалось только пять франков.
Он крепко призадумался. «Я отлично владею оружием, – сказал он себе, – отлично дерусь, если только меня выведут из себя, и хорошо езжу верхом; все газеты утверждают, что войны еще долго не будет; к тому же в случае, если она разразится, я могу дезертировать. Запишемся же в егерский полк, штаб которого находится в Кольмаре. Я вручу свой паспорт коменданту, а затем постараюсь выкрасть его. Если мне удастся уничтожить этот документ, способный погубить меня, я скажу, что я уроженец Лиона, который я только что хорошенько рассмотрел, назовусь Менюэлем, и черта с два, если кто-нибудь во мне опознает приговоренного к каторге!» Сказано – сделано. Через полгода после своего поступления в полк Менюэль, образец для всех солдат, собственноручно сжег свой паспорт, который он изловчился выкрасть из стола капитана, ведавшего рекрутированием новобранцев. Менюэля все очень любили, и он приобрел репутацию отличного фехтовальщика; в полку его считали большим весельчаком. Желая позабыть преследовавшие его несчастья, он оставлял в кабачке все деньги, которые зарабатывал с помощью рапиры. Он дал себе два обещания: приобрести в полку как можно больше друзей, никогда не садясь за стол один, и ни разу не напиться до потери сознания, чтобы не выболтать чего-нибудь лишнего.
В течение двух лет, что Менюэль опять служил в полку, его жизнь внешне сложилась вполне счастливо. Если бы он тщательно не скрывал, что он грамотен, офицеры его роты, которые были весьма довольны его опрятным видом и которым он всегда искал случая угодить, уж постарались бы добиться его производства в бригадиры. Менюэль слыл первым забавником в полку. У него произошла дуэль, закончившаяся очень счастливо для него, с одним учителем фехтования: он перед всем гарнизоном блестяще доказал свою храбрость и ловкость. Но всякий раз при виде жандарма его бросало в дрожь, и подобные встречи отравляли ему жизнь. От этой беды у него было одно лишь спасение – ближайший кабак.
Когда ему посчастливилось завязать тесные отношения с Люсьеном, в его судьбе произошел перелом. «Такой богач, – решил он, – сумеет добиться моего помилования, если я даже буду опознан: ему надо только захотеть. Он плюет на деньги и в нужный момент не пожалеет тысячи экю, чтобы подкупить в мою пользу какого-нибудь начальника бюро!»
От шевалье Билара Люсьен узнал, что в Нанси есть врач, знаменитый своим редким талантом и, кроме того, прекрасно принятый в высшем свете благодаря своему красноречию и ярым легитимистским убеждениям. Звали его господин Дю Пуарье. По всему тому, что рассказывал шевалье Билар, Люсьен сообразил, что этот лекарь, вероятно, является местным фактотумом и что, во всяком случае, с ним будет небезынтересно познакомиться.
– Обязательно, дорогой доктор, завтра же приведите ко мне этого господина Дю Пуарье; скажите ему, что я в опасности…
– Но вы вовсе не в опасности…
– А разве так уж неуместно начать со лжи наши сношения с пресловутым интриганом? Когда он будет здесь, не противоречьте мне ни в чем; предоставьте мне полную свободу, и мы с вами наслушаемся всяких занятных вещей насчет Генриха Пятого и Людовика Девятнадцатого; возможно, что мы с вами немного развлечемся.
– Ваша рана – дело чисто хирургическое; я не вижу, что тут делать врачу по внутренним болезням, и т. д.
В конце концов шевалье Билар все-таки согласился отправиться за этим лекарем, так как понял, что, если он его не приведет, Люсьен может сам письменно пригласить его к себе.
Знаменитый доктор явился на следующий день. «У него мрачный вид бесноватого», – подумал Люсьен. И пяти минут не просидел доктор у нашего героя, как уже, обращаясь к нему, он фамильярно похлопывал его по животу. Этот господин Дю Пуарье был крайне вульгарным существом, по-видимому гордившимся своими дурными, развязными манерами: так свинья валяется в грязи, нагло нежась на глазах у зрителя. У Люсьена почти не было времени заметить эти необыкновенные странности: было слишком очевидно, что Дю Пуарье фамильярничал с ним не из тщеславия и не из желания поставить себя на одну доску с Люсьеном или выше его. Люсьену казалось, что перед ним достойный человек, по необходимости вынужденный с живостью выражать мысли, от обилия и значительности которых его всегда распирает. Человек постарше Люсьена заметил бы, что горячность Дю Пуарье не мешала ему гордиться фамильярностью, на которую он сам дал себе право, и чувствовал все ее преимущества. Когда он не говорил с увлечением, он был так же мелочно кичлив, как и любой француз. Но шевалье Билар всего этого не увидел и нашел, что Дю Пуарье – человек дурного тона, которого следовало бы выгнать даже из кабака. «Нет, – решил Люсьен, минуту перед тем уже готовый поддаться обольщению и поверить пылкости этого одаренного человека, – это лицемер; он слишком умен, чтобы увлечься, он ничего не делает, не поразмыслив как следует. Эта выходящая за всякие пределы вульгарность и дурной тон, наряду с постоянной возвышенностью мыслей, должны преследовать какую-то цель». Люсьен внимательно слушал; доктор говорил обо всем, но главным образом о политике; он хотел уверить собеседника, что насчет всего у него есть какие-то никому не известные сведения.
– Однако, сударь, – перебил Дю Пуарье свои собственные бесконечные рассуждения о благоденствии Франции, – вы примете меня за парижского лекаря, упражняющегося в остроумии и говорящего с больным о чем угодно, кроме его болезни.
Доктор осмотрел руку Люсьена и предписал ему полный покой в течение недели.
– Оставьте всякие припарки, не применяйте никаких средств и, если не появится осложнений, забудьте об этой царапине.
Люсьен нашел, что, в то время как доктор Дю Пуарье осматривал его рану и выслушивал пульс, взор его был бесподобен. Покончив с этим, Дю Пуарье сразу же вернулся к своей основной мысли – о том, что Луи-Филипп не сможет долго управлять государством[31 - Это говорит легитимист, подобно тому как выше говорил республиканец. – Примеч. автора.].
Наш герой довольно легкомысленно вообразил, что он, не прилагая никаких усилий, позабавится насчет провинциального остроумия профессионального врача; он убедился, что провинциальная логика стоит большего, чем провинциальные стишки. Он не только не разыграл Дю Пуарье, но ему пришлось затратить немало труда, чтобы самому не попасть в смешное положение. Одно было бесспорным: при виде столь необычного зверя он совершенно исцелился от скуки.
Дю Пуарье можно было дать лет пятьдесят; у него были крупные и очень характерные черты лица. Серо-зеленые глаза, глубоко сидевшие в орбитах, двигались, вращались с удивительной быстротой и, казалось, метали искры; ради них можно было простить доктору его поразительно длинный нос, отделявший их друг от друга. В целом ряде ракурсов этот несчастный нос придавал физиономии Дю Пуарье сходство с мордой проворной лисицы – большое неудобство для апостола. К сожалению, если присмотреться поближе, сходство это довершалось густым лесом рыжеватых, весьма рискованного оттенка волос, торчавших дыбом на лбу и на висках. В общем, раз увидав это лицо, его уже нельзя было забыть; в Париже оно, быть может, отпугнуло бы дураков, в провинции же, где люди скучают, с готовностью приемлется все, что обещает хоть маленький интерес, и доктор пользовался успехом.
У него были вульгарные манеры и наряду с этим необычайная, поражавшая воображение физиономия. Когда доктор считал, что он уже убедил своего противника (а он, обращаясь к собеседнику, всегда имел перед собой противника, которого надлежало переубедить, или сторонника, которого следовало завербовать), его брови подымались невероятно высоко, а маленькие серые глазки, широко раскрытые, как у гиены, казалось, вот-вот выскочат из орбит. «Даже в Париже, – подумал Люсьен, – эта кабанья морда, этот яростный фанатизм, эти дерзкие, но полные красноречия и энергии повадки спасли бы его от участи быть смешным. Это апостол, это иезуит». И он с крайним любопытством разглядывал его.
Во время этих размышлений доктор перешел к вопросам самой высокой политики; он, видимо, был увлечен. Следовало отменить раздел родовых поместий после кончины главы семейства, следовало прежде всего призвать обратно иезуитов. Что касается старшей ветви, было бы отступничеством выпить во Франции стакан вина до того момента, пока эта ветвь не будет восстановлена во всех своих правах, то есть в Тюильри, и т. д. Ни единым словом господин Дю Пуарье не счел нужным смягчить резкий свет этих великих истин, не счел нужным поступиться в пользу предрассудков своего адепта.
– Как! – воскликнул вдруг доктор. – Вы, человек из хорошей семьи, человек утонченных нравов, состоятельный, занимающий хорошее положение в свете, получивший тонкое воспитание, – и вы бросаетесь в гнусный омут умеренных взглядов! Вы становитесь их защитником, вы будете сражаться за них не в настоящей войне, самые бедствия которой имеют столько благородства и прелести для возвышенных сердец, а в войне жандармской, в пустой перестрелке с несчастными, умирающими с голоду рабочими? Для вас экспедиция на улицу Транснонен будет сражением при Маренго…
– Дорогой шевалье, – обратился Люсьен к доктору Билару, который был этим шокирован и считал себя обязанным выступить на защиту умеренных взглядов, – дорогой шевалье, мне пришла фантазия рассказать доктору о некоторых грешках моей юности, целиком входящих в компетенцию врача, о них я вам поведаю тоже, но когда-нибудь в другой раз: есть вещи, в которых мы предпочитаем признаваться лишь с глазу на глаз, и т. д., и т. д.
Несмотря на столь ясно выраженное желание, Люсьену стоило большого труда заставить убраться шевалье Билара, на которого напала непреодолимая охота говорить о политике. Люсьен без всяких оснований заподозрил его в том, что он шпион.
Красноречивый Дю Пуарье нисколько не был обескуражен изгнанием хирурга: он продолжал пылко жестикулировать и горланить без умолку.