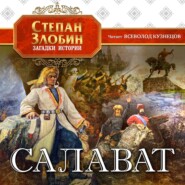По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Остров Буян
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Уймись, Иван, – строго сказал Гаврила. – Вишь – люди плачут. Кто плачет, тот уж не воин!..
– Гаврила Левонтьич, как битва пойдет, так и слезы просохнут! – воскликнул Иванка.
– Уймись, говорю! Погубишь себя, и только.
– Да что я – один, что ли, в город прилез?! У меня ватага вокруг. Все на меня глядят. Только двину шапку, стрельцы и дворяне с коней упадут!..
Хлебник смолчал.
– Страшишься?! Своей головы бережешь! – воскликнул Иванка с упреком. – Аль крестное целование боишься нарушить и милости хошь заслужить смирением?!
– Эх, Ваня! – со вздохом сказал хлебник и ничего не прибавил.
– Поп Яков с нами и тоже ждет, – сказал Иванка, не отставая от саней хлебника.
– Скажи старому, чтобы тебя унял. Пора все кончать. Уходите подале – на Дон, что ли, али в Брянские леса… – тихо сказал Гаврила.
– А вы?! Вас на казнь отдать?
– За правду и смерть не страшна… А может, помилует царь – пошлет в ссылку, как знать!.. – ответил Гаврила.
Это был уже не тот человек, которому безраздельно верил и кого так жарко любил Иванка.
Борода Гаврилы свалялась и поседела. Голос его был глух, под глазами и на скулах отеки, взгляд поблек, и весь он был сгорбленный и прибитый. Железная цепь гремела у него на руках, как на собаке, от каждого движения.
Жена и дети расширенными и тревожными глазами глядели на хлебника, слушая его разговор с Иванкой и не вмешиваясь, даже не переводя своих любящих испуганных глаз от лица Гаврилы к лицу Иванки, словно его здесь и не было…
Слова Гаврилы нагнали отчаяние на Иванку. Но если хлебник отказывался от того, чтобы быть отбитым, то не откажется от задуманного Томила, и если не ради себя, так ради Аленки согласится, конечно, кузнец… Иванка глазами нашел впереди сани, в которых везли кузнеца, и, взглянув ему в спину, узнал с ним рядом в санях Аленку… Ее, ее тоже увозят!..
Иванка обогнал сани и протолкался к Мошницыным…
К ним протискивались соседи, знакомые, обнимали и целовали их. У всех отъезжающих на глазах стояли слезы умиления, благодарности и глубокой печали. Что бы ни ждало их впереди, но никогда не увидеть им больше родного города!..
– Михайла, здравствуй! – произнес Иванка над ухом Мошницына, улучив минутку…
Кузнец вздрогнул.
– Схватят тебя, – не оглянувшись, ответил он, сразу узнав Иванку. – Пошто ты сюда прилез?
– Дочку сватать к тебе прилез! Слышь, кузнец, пятьдесят сватов, пятьдесят пистолей. Кони ждут и невесту и тестя. Таких коней понабрал у дворян – никто не догонит.
Аленка слышала все и не смела поднять глаза.
– Слышь, Алена, – негромко сказал кузнец.
– Не мочно мне бачку покинуть, – ответила она. – Куды он один, без меня!
– И бачку твоего отобьем. Все готово: робята мои вокруг. Оглянись – все глядят на тебя, ждут согласья. Как окажешь, так враз и подхватят тебя из саней и дворян с коней мигом постащат, – говорил Иванка, идя за санями.
– Не балуй, Иван, – возразил кузнец. – Сколько крови прольешь в городу, и кровь та падет на Алену. Какое ей счастье будет? Сколь малых детишек, глянь!..
– Робята мои не попятятся, дойдем до ворот, там посадски отстанут, тогда отобьем. Аль не любишь больше? – спросил Иванка, склонившись к Аленке и заглянув ей в лицо, закутанное платком.
Она увидела усатого черномазого молодца, и, хоть было грустно и тяжело, она засмеялась – так был непохож усач на ее Иванку…
– За бачкой поеду, Ивушка, – тихо шепнула она. – Люблю я тебя, как Якуню любила. А бачку как кинуть?..
– Михайла, ты слышишь, пошто дочь свою губишь?! Слышь, отобьем вас обоих!.. – твердил Иванка с упорством.
– В чепях я, в колоде: сам бечь не могу, – возразил кузнец.
– Снесем на руках до коней, а поскачем что ветер! – твердил Иванка.
– Гаврила, Томила и Прохор да все – все поедут, а я убегу? Бесстыдник я буду! – ответил кузнец.
– Пропустите, посадские, дайте дорогу! – выкрикивал пристав.
Но его не слушали. Люди подходили к саням, совали деньги, лепешки, сало и яйца, обнимали и целовали уезжавших…
Целый час пробирался поезд через толпу к Петровским воротам, и сын боярский охрип и не мог больше кричать, и казаки не кричали, а только старались при первом случае каждый раз продвинуть хотя бы на шаг коней…
Иванка, не отставая, двигался за санями. Не стесняясь отца, он твердил Аленке, как будет ее любить и лелеять, что нет жизни ему без нее… Она опустила глаза и молчала.
Иванка в волнении перебежал к саням, в которых везли Козу и Томилу. Он обнялся с летописцем.
– Сын боярский глядит на тебя, – шепнул Томила, – бежал бы, рыбак.
– Уходи живей, баловень, двуголовый! – сказал Прохор Коза. – Где Кузьма? Тоже тут?..
– Кузьма в деревне вас ждет, – слукавил Иванка. – Я пришел за вами. Как уйду?! Да вы не бойтесь, нас не дадут в обиду: со мной ватага, всех отобьем…
– Иван, не балуй! Пропадешь и иных погубишь: старые стрельцы у ворот в караулах – на нас они злы, всех побьют вместе с семьями, и царь им спасибо за службу скажет, – строго заметил Прохор.
– Иди… Спасибо – пришел проводить. Рад, что вижу тебя напоследок, – ласково добавил Томила.
– Томила Иваныч, да как же тебе не срамно?! Что в сбитенной говорил, ты забыл?
– Другая неделя – другие думы, Ванюша. Уж поздно ныне!..
Вот уже рядом Петровские ворота, вот-вот кончится все…
Ватага Иванки сбилась толпой впереди коней, преграждая дорогу, оттягивая минуты, не зная, что делать дальше, не решаясь перемолвиться словом со своим атаманом, чтобы не выдать его…
– Слышь, Алена… Ворота, смотри!.. Слышь, кузнец, аль доселе в тебе все гордость, что я холоп?! Отдай мне Аленку!.. – твердил Иванка, снова перебежав к саням кузнеца.
– Глуп ты, Ваня, – сказал Мошницын. – Люблю я тебя. И Аленке счастье с таким… И гордостью не кори колодника… Я дочь отдаю тебе, да видишь, сама не идет… Хошь, чтоб я сговорил, – не смею: то крови стоит, а дочери счастье чужой кровью купить не хочу.
Не вступая без знака Иванки в стычку, ватага его отходила к воротам. Сколько ни оттягивали, а выезд близился. Вот-вот и вырвется поезд из городских ворот.
Другие аудиокниги автора Степан Павлович Злобин
Салават




 0
0