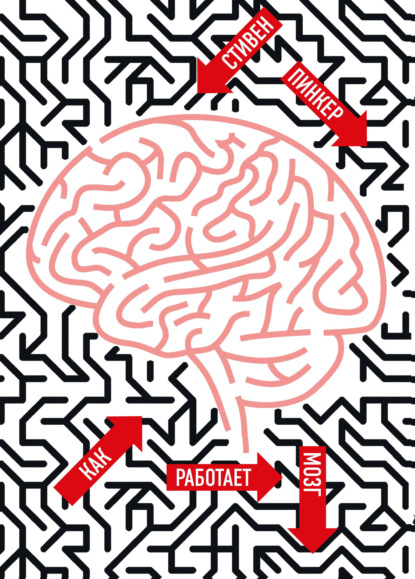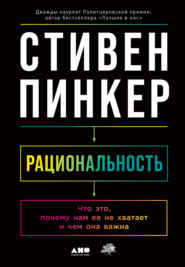По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Как работает мозг
Автор
Год написания книги
1997
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Гомункулы превращаются в призраков только в тех случаях, когда они полностью дублируют те способности, которые они должны были объяснить… Когда получается сделать так, чтобы команда или комитет относительно невежественных, ограниченных и зашоренных гомункулов обеспечивали разумное поведение в целом, это уже успех. Блок-схема программы обычно представляет собой схему организационной структуры комитета гомункулов (экспертов, библиотекарей, счетоводов, администраторов); каждый блок схемы определяет гомункула, предписывая некую функцию, но не уточняя, как ее выполнить (в самом деле, мы ведь говорим «назначить человечка выполнять ту или иную работу»). Далее, если мы посмотрим повнимательнее на отдельные блоки, то увидим, что функция каждого из них выполняется путем ее разбиения при помощи другой блок-схемы на еще более мелких и более глупых гомункулов. В конце концов, помещая одни блоки внутрь других, мы придем к гомункулам настолько глупым (все, что от них требуется, это отвечать на вопросы «да» или «нет»), что их можно, так сказать, «заменить машиной». Мы можем исключить из схемы сказочных гомункулов, организовав для выполнения работы целые армии идиотов
.
Вероятно, вы по-прежнему задаетесь вопросом, каким образом метки, которые пишут и стирают демоны внутри компьютера, представляют или обозначают вещи в реальном мире. Кто решает, что данная метка в системе соответствует данному кусочку мира? В случае с компьютером ответ очевиден: мы решаем, что обозначают эти символы, потому что мы создаем машину. Но кто определяет значение символов, которые якобы присутствуют в нашей голове? В философии данная проблема известна как проблема «интенциональности» (этот термин может ввести в заблуждение, потому что интенциональность не имеет ничего общего с намерениями; англ, intentionality образовано от intention, у которого помимо специального логического значения «интенция» есть также общеязыковое значение «намерение». – Прим. пер.) На этот вопрос есть два широкоизвестных ответа. Первый – что символ связан с референтом (обозначаемым объектом) в реальном мире посредством наших органов чувств. Лицо матери отражает свет, который возбуждает зрительные рецепторы, что приводит к каскаду эталонов или подобных схем, которые вписывают символ мать в ваше мышление. Второй ответ – что уникальный паттерн манипуляций с символами, запускаемый первым символом, отражает уникальный паттерн взаимоотношений между референтом первого символа и референтами инициируемых символов. Если мы условимся (какими бы ни были причины) говорить, что символ мать обозначает мать, дядя обозначает дядю, и так далее, все новые утверждения о взаимном родстве, генерируемые демонами, чудесным образом вновь и вновь будут оказываться истинными. Устройство напечатает утверждение Bella mother-of Me (Белла мать Я) – и будет право, потому что Белла и впрямь моя мать. Символ мать обозначает мать, потому что он выполняет определенную роль во всех умозаключениях о матерях.
Эти две теории известны как теория причинно-следственной связи и теория инференциальных ролей, и для опровержения каждой из них оппонентами было выдумано немало нелепых мысленных экспериментов. Эдип не хотел жениться на своей матери, но все равно это сделал. Почему? Потому что эта женщина вызвала в его сознании символ Иокаста, а не символ мать, а его желание было сформулировано как «Если это мама, не женись на ней». Причинное влияние символа Иокаста (а это женщина, которая на самом деле была матерью Эдипа) здесь были нерелевантны; единственное, что имело значение, – это инференциальная роль, которую играли в голове Эдипа символы Иокаста и мать. Молния ударяет в сухое дерево посреди болота, и каким-то чудесным образом болотная тина сливается в точную копию меня в данный момент, воспроизводящую меня вплоть до молекулы, включая мои воспоминания. Этот Болотный человек никогда не видел мою мать, но большинство людей сказали бы, что его мысли о матери будут о моей матери – точно так же, как и мои собственные мысли. Отсюда также следует вывод, что символу не обязательно быть связанным причинно-следственными связями с чем-либо в этом мире, чтобы напоминать о чем-то; достаточно его инференциальной роли
.
И все-таки… Предположим, что последовательность действий по обработке информации, выполняемых компьютером, играющим в шахматы, оказывается по какому-то удивительному стечению обстоятельств аналогичной событиям на поле боя в ходе Шестидневной войны[8 - Между Израилем и его арабскими соседями в 1967 году. – Прим. пер.]: королевский конь = Моше Даян, ладья на с7 = израильская армия захватывает Голанские высоты и т. д. Можно ли будет сказать, что эта программа в такой же степени воспроизводит Шестидневную войну, в какой она воспроизводит игру в шахматы? Предположим, однажды мы обнаружим, что кошки – вовсе не животные, а очень похожие на животных роботы, управляемые с Марса. Любое правило логического вывода, которое приведет к выводу «если это существо – кошка, то это животное», будет недействительным. Инференциальная роль нашего ментального символа кошка в этом случае изменится до неузнаваемости. Однако значение символа кошка останется неизменным: вы все равно подумаете «кошка», увидев крадущегося мимо робота по кличке Феликс. Уже два очка в пользу теории причинно-следственной связи.
Третью точку зрения можно кратко выразить фразой из пародии на телерекламу в передаче «Субботним вечером в прямом эфире»: «Вы оба правы – это мастика для натирки пола и украшение для десерта». Что обозначает символ, определяют каузальная и инференциальная роли символа в сочетании. (С этой точки зрения мысли Болотного человека будут о моей матери, потому что у него будет ориентированная на будущее каузальная связь с ней: он узнает мою мать, если встретит ее). Каузальная и инференциальная роли обычно бывают синхронизированы, поскольку благодаря естественному отбору наши системы восприятия и модули логического вывода в этом мире по большей части работают правильно. Не все философы согласятся с тем, что сочетания причинности, инференции и естественного отбора достаточно для такого описания понятия «значение», которое будет идеально работать в любой альтернативной Вселенной. («Предположим, у Болотного человека есть идентичный близнец на другой планете…») Но если его и достаточно, ответим мы, тем хуже для этой концепции значения. Значение может иметь смысл только относительно устройства, которое было создано (инженерами или естественным отбором) для работы в данном, конкретном мире. Иными словами, насчет Марса, Болотной страны или Сумеречной зоны сказать наверняка ничего нельзя. Даже если с философской точки зрения наша теория каузальности в сочетании с инференцией не совсем совершенна, она по крайней мере снимает покров тайны с того, каким образом символ в нашей голове или в компьютере может что-то обозначать
.
Еще один признак того, что вычислительная теория сознания на правильном пути, – существование искусственного интеллекта: компьютеров, которые выполняют интеллектуальные задачи, посильные только для человека. В любом магазине подержанной аппаратуры вам продадут компьютер, который превосходит человека по способности вычислять, хранить и находить данные, строить чертежи, проверять орфографию, переправлять почту и набирать текст. В хорошо укомплектованном магазине программного обеспечения вам предложат программы, которые отлично играют в шахматы, распознают буквы алфавита и отчетливую речь. Покупатель с кошельком потолще может позволить себе программы, способные поддерживать разговор по-английски на ряд тем и управлять роботизированной рукой, выполняющей сварку и покраску, и не уступающие человеку по мастерству в сотнях областей – таких, как подбор акций, диагностика болезней, назначение лекарств, устранение неполадок в оборудовании. В 1996 году компьютер «Дип Блю» обыграл в одиночной партии чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Еще две партии закончились вничью, а последнюю компьютер проиграл; можно сказать, что всего лишь вопрос времени, когда компьютер окончательно победит чемпиона мира. Роботов такого класса, как Терминатор, в мире пока нет, однако есть тысячи менее масштабных программ искусственного интеллекта – в том числе они есть у вас в компьютере, в машине и в телевизоре. И это не предел.
Эти скромные успехи заслуживают внимания в связи с горячими спорами по поводу того, что компьютеры вскоре смогут или, наоборот, никогда не смогут делать. Одна сторона дебатов заявляет, что появление роботов уже не за горами (что доказывает, что мозг – это компьютер), а вторая утверждает, что этого никогда не будет (что доказывает обратное)
. Создается ощущение, что эта дискуссия сошла со страниц книги «Говорят эксперты» Кристофера Серфа и Виктора Наваски:
Знающие люди уверены, что передавать голос по проводам невозможно, а если даже это и было бы возможно, то не принесло бы никакой практической пользы.
Редакционная статья в журнале «Бостон пост», 1865 год
Пятьдесят лет спустя… мы откажемся без абсурдной необходимости выращивать целую курицу, чтобы съесть грудку или крылышко, и начнем выращивать эти части по отдельности в подходящих условиях.
Уинстон Черчилль, 1932 год
Летающие машины тяжелее воздуха невозможны.
Лорд Кельвин, исследователь в области термодинамики и электричества, 1895 год
[К 1965 году] автомобиль высшего класса будет около 20 футов длиной, работать будет на энергии газотурбинного двигателя, младшего брата реактивного двигателя.
Лео Черне, издатель-редактор «Ресерч инститьют оф Америка», 1955 год
Человек никогда не долетит до Луны, невзирая на все будущие научные достижения.
Ли Дефорест, изобретатель вакуумной лампы, 1957 год
Пылесосы, работающие за счет ядерной энергии, станут реальностью через 10 лет.
Алекс Льюит, производитель пылесосов, 1955 год
Единственное явно справедливое утверждение, следующее из рассуждений футурологов, – что в будущем все их рассуждения будут выглядеть глупо. Мы не можем знать пределов возможностей искусственного интеллекта, его достижения будут зависеть от того, с какими практическими сложностями столкнется его развитие. Не подлежит сомнению лишь одно: вычислительные машины могут обладать интеллектом.
Связь между научным пониманием и технологическими достижениями очень слаба. Мы уже достаточно давно обладаем значительными знаниями о суставах и о сердце, но вот искусственные суставы уже стали привычным делом, а искусственных сердец пока не наблюдается. Об этой пропасти между теорией и практикой нужно помнить и тогда, когда мы ищем в искусственном интеллекте ответы на вопросы о компьютере и мышлении. Более подходящим названием для изучения мышления с опорой на информацию о компьютерах будет не «искусственный интеллект», а «естественное вычисление»
.
Вычислительная теория сознания незаметно закрепилась в качестве основы нейробиологии – науки, изучающей мозг и нервную систему. Ни один уголок этой науки не остался незатронутым идеей о том, что обработка информации – это основная деятельность мозга. Именно обработка информации заставляет нейробиологов больше интересоваться нейронами, чем глиальными клетками, несмотря на то, что глии занимают больше места в мозге. Аксон (длинный отросток) нейрона вплоть до молекулы специально предназначен для того, чтобы распространять информацию с высокой точностью на большое расстояние, а когда электрический сигнал преобразуется в химический в синапсе (месте соприкосновения нейронов), физический формат информации меняется, в то время как информация остается той же. Как мы увидим далее, дерево дендритов (подводящих волокон) на каждом нейроне, по-видимому, выполняет основные логические и статистические операции, лежащие в основе вычисления. Язык нейробиологии насыщен такими терминами теории информации, как «сигналы», «коды», «репрезентации», «трансформации», «обработка»
.
Обработка информации определяет и вполне закономерные вопросы, имеющие отношение к этой сфере. Если изображение на сетчатке перевернуто, как же получается, что мы видим мир правильной стороной кверху? Если зрительная зона коры располагается в задней части головного мозга, почему нам не кажется, что мы видим картинку в задней части головы? Как это возможно, что человек чувствует фантомную конечность на месте ампутированной? Как мы можем воспринимать зеленый кубик с помощью нейронов, которые не имеют форму кубика и не окрашены в зеленый цвет? Каждый нейробиолог знает, что это псевдовопросы, но почему? Потому что речь в них идет о свойствах мозга, которые не имеют никакого отношения к передаче и обработке информации.
Если ценность научной теории определяется ее способностью объяснять факты и вдохновлять ученых на открытия, то самый большой плюс вычислительной теории сознания – это то влияние, которое она оказала на психологию. Скиннер и другие бихевиористы утверждали, что все разговоры о ментальных событиях – бесплодные рассуждения; в лабораторных и полевых условиях можно изучать только стимул и реакцию. Оказалось, что справедливо все с точностью до наоборот. До того, как в 1950-1960-е годы Ньюэлл и Саймон и психологи Джордж Миллер и Дональд Бродбент привнесли в психологию идеи вычислительной теории, она была бесконечно скучной. В обязательную программу психологии входила физиологическая психология (рефлексы), восприятие (звуковые сигналы), обучение (крысы), память (бессмысленные слоги), интеллект (коэффициент интеллекта) и личность (тесты личности). За прошедшее время психологи привлекли в свои лаборатории вопросы, волновавшие лучших мыслителей в истории, сделали по каждому из аспектов мышления тысячи открытий, о которых несколько десятилетий назад нельзя было и мечтать.
Причиной этого расцвета стала главная задача, поставленная перед психологией вычислительной теорией: выявить форму ментальных репрезентаций (символических записей, используемых мозгом) и процессов (демонов), которые их оценивают. Платон сказал, что мы заперты в пещере и знаем мир только по теням, которые он отбрасывает на стене. Наша пещера – это череп, а тени – ментальные репрезентации. Информация во внутренней репрезентации – вот все, что мы знаем о мире. Рассмотрим в качестве аналогии то, как работают внешние репрезентации. В выписке из моего банковского счета каждый вклад указывается как единая сумма. Если я сделал вклад, состоящий из нескольких чеков и некоторой суммы наличности, я не могу проверить, есть ли среди них конкретный чек; эта информация в репрезентации утрачена. Более того, сама форма репрезентации определяет, какие выводы из нее можно сделать, потому что символы и их расположение – это единственное, на что может реагировать гомункул, который достаточно глуп, чтобы его могла заменить машина. Наша репрезентация чисел ценна потому, что она позволяет выполнять сложение, используя набор полуавтоматических операций: нам достаточно найти нужную отметку в таблице сложения и разряды переноса. Римские числа практически не используются (разве что в названиях и в декоративных целях), потому что с ними сложение становится значительно сложнее, а умножение и деление практически невозможны.
Определение ментальных репрезентаций – это путь к точности в психологии. Многие определения поведения производят впечатление чего-то несерьезного, потому что в них психологические явления объясняются в терминах других, не менее загадочных психологических явлений. Почему людям это задание труднее выполнить, чем то? Потому что первое задание «более сложное». Почему люди распространяют информацию об одном объекте на другой объект? Потому что эти объекты «похожи». Почему люди замечают одно событие, но не замечают другое? Потому что первое событие «более заметно». Все эти объяснения – сплошное надувательство. Сложность, схожесть, важность – все это зависит от обладателя мышления, и как раз это мы и должны попытаться объяснить. Компьютеру сложнее запомнить сюжет «Красной Шапочки», чем двадцатиразрядное число; нам сложнее запомнить число, чем сюжет. Два комка из смятой газеты нам кажутся похожими, хотя по форме они могут быть совершенно разными, а лица двух людей – разными, хотя их форма почти одинакова. Для мигрирующих птиц, ориентирующихся по звездам на небе, положение созвездий в разные периоды ночи будет весьма примечательным; среднестатистический человек вообще едва ли заметит их положение.
Но если мы опускаемся на уровень репрезентаций, мы сталкиваемся с менее эфемерными сущностями, которые можно точно сосчитать и сравнить. Хорошая теория психологии должна предполагать, что репрезентации, требующиеся для более «сложной» задачи, содержат больше символов или запускают более длинную цепочку демонов, чем репрезентации, требующиеся для «легкой» задачи. Она должна предполагать, что репрезентации «похожих» объектов содержат больше общих символов и меньше различных символов, чем репрезентации «непохожих» объектов. «Примечательные» объекты должны иметь репрезентации, отличные от всех соседних объектов; «незаметные» объекты должны иметь одинаковые репрезентации.
Исследователи в русле когнитивной психологии пытались рассматривать под разными углами вопрос о внутренних ментальных репрезентациях, анализируя сообщения людей, время реакции и совершенные ошибки в то время, когда эти люди запоминали, решали задачи, узнавали объекты и делали выводы из опыта. То, как люди обобщают опыт, пожалуй, самое наглядное доказательство того, что мозг использует ментальные репрезентации, причем в огромном количестве.
Предположим, вам требуется некоторое время, чтобы научиться читать слова, написанные новым причудливым шрифтом, украшенным завитушками. Вы потренировались на нескольких словах и теперь читаете этот шрифт также быстро, как любой другой. Теперь вы видите знакомое вам слово, которого не было в вашем тренировочном упражнении, – скажем, слово elk («лось»). Придется ли вам заново узнавать, что это слово – существительное? Придется ли вам заново учиться произносить его? Узнавать, что референт этого слова – животное, как этот референт выглядит, что он обладает весом, дышит и кормит детенышей молоком? Конечно, нет. Но это тривиальное умение кое о чем говорит. Ваше знание о слове elk не привязано напрямую к физическим очертаниям напечатанных букв. Если бы это было так, то при использовании нового шрифта ваше знание не имело бы связи с буквами, написанными иначе, и было бы недоступно до тех пор, пока вы не выучите заново все связи. Значит, ваше знание должно быть связано с неким узлом, номером, адресом в памяти или статьей в ментальном словаре, представляющей абстрактное слово elk, причем эта статья должна быть нейтральна по отношению к тому, как это слово пишется и произносится. Запомнив новый шрифт, вы создали новый визуальный механизм запускания для букв алфавита, которые, в свою очередь, запускают старую статью, соответствующую слову elk; в результате все, что связано с этой статьей, моментально становится доступно для использования – вам не нужно заново привязывать по кусочку все, что вы знаете о лосях, к новой форме букв, составляющих это слово. Это доказывает, что наше мышление содержит ментальные репрезентации, привязанные к абстрактным статьям на каждое слово, а не к форме слов, напечатанных на бумаге
.
Такие неожиданные изменения и арсенал внутренних репрезентаций, о котором они свидетельствуют, представляют собой отличительную особенность когнитивной способности человека. Если бы вы узнали, что другое название лося – wapiti («вапити»), вы бы взяли все факты, привязанные к слову elk, и моментально перенесли их на слово wapiti вместо того, чтобы по одной переносить каждую связь на новое слово. Конечно, перенесенными оказались бы только ваши познания в области зоологии; вы же не станете произносить слово wapiti так же, как и слово elk. Это наводит на мысль, что мышление обладает уровнем репрезентации, специфичным для концептов, стоящих за словами, а не для самих слов. Наше знание фактов о лосях привязано к концепту; слова elk и wapiti тоже привязаны к концепту, а написание е-1-k и произношение [elk] привязаны к слову elk.
До сих пор мы двигались от шрифта вверх; теперь давайте попробуем двигаться вниз. Если вы научились распознавать этот шрифт написанным черными чернилами на белой бумаге, то вам не придется переучиваться, чтобы распознать его написанным белыми чернилами на красной бумаге. Здесь мы подходим к уровню визуальных границ. Любой цвет, стыкующийся с любым другим цветом, воспринимается как граница; границы определяют очертание штрихов; определенное расположение штрихов составляет буквенно-цифровой символ.
Разнообразные ментальные репрезентации, связанные с концептом «лось», могут быть представлены с помощью одной диаграммы, которую иногда называют семантической сетью, репрезентацией знаний или пропозициональной базой данных.
Это лишь фрагмент гигантского мультимедийного словаря, совмещенного с энциклопедией и инструкцией по применению, который содержится у нас в голове. Из таких же многослойных репрезентаций состоит все наше мышление. Скажем, я попросил вас написать слово elk любым шрифтом на ваш выбор, но только левой рукой (если вы правша), или написать его на песке большим пальцем ноги, или мини-фонариком, зажатым в зубах. Результат будет небрежным, но узнаваемым. Вероятно, вам придется потренироваться, чтобы движения выходили более плавными, но вам не придется заново переучиваться писать штрихи, из которых состоит каждая буква, не говоря уже про алфавит или написание каждого слова в английском языке. Этот перенос опыта основан на уровне репрезентации двигательного контроля, который определяет геометрическую траекторию, а не сокращения мышц или движения конечностей, которые ее образуют. Траектория будет преобразована в реальные движения управляющей программой низшего уровня для каждой конечности.
Вспомним историю Салли, выбежавшей из горящего здания, которую мы обсуждали в начале этой главы. Ее желание было сформулировано в виде абстрактной репрезентации «спасайся от опасности». Оно не могло быть сформулировано как «убегай от дыма», потому что желание спастись могло быть инициировано не только дымом, но и другими признаками (а бывают случаи, когда дым не инициирует это желание), а спастись из горящего дома она могла не только бегом, но и с помощью других действий. И все же ее поведенческая реакция была сформирована мгновенно и впервые. Значит, мышление Салли должно быть модульным: один его элемент оценил опасность, другой решил, нужно ли спасаться, а третий определил, каким образом это сделать.
Комбинаторный анализ мыслекода и других репрезентаций, состоящих из частей, позволяет объяснить неистощимый репертуар человеческих мыслей и действий. Используя несколько элементов и несколько правил их сочетаемости, можно получить неизмеримо огромное количество самых разных репрезентаций, поскольку количество возможных репрезентаций увеличивается в геометрической прогрессии относительно их размера. Очевидный пример – язык. Скажем, у вас есть десять вариантов слова, с которого вы начнете предложение, десять вариантов второго слова (а это уже сто вариантов начала предложения из двух слов), десять вариантов третьего слова (а это тысяча вариантов начала из трех слов), и т. д. (Кстати, десять – это среднее геометрическое значение количества вариантов слов, имеющихся в нашем распоряжении в каждый момент, когда мы составляем грамматически правильное и имеющее смысл предложение). Элементарная арифметика показывает, что количество предложений из двадцати и менее слов (это достаточно распространенная длина предложения) составляет примерно 10
, то есть единица и еще двадцать нолей, или сто миллионов триллионов, или в сто раз больше количества секунд, прошедших с момента рождения Вселенной. Я привел этот пример не для того, чтобы поразить вас богатством языка, а чтобы поразить вас богатством нашего мышления. Ведь язык, в конце концов, это не подражание голосом музыкальному инструменту в джазе: каждое предложение выражает ясную мысль. (Не существует совершенно синонимичных друг другу предложений.) Так что если у людей и есть мысли, которые сложно выразить словами, помимо них есть еще примерно сотня миллионов триллионов других, вполне выразимых
.
Комбинаторное богатство теоретически возможных структур мы находим во многих сферах человеческой деятельности. Юный Джон Стюарт Милль с тревогой обнаружил, что, поскольку количество музыкальных нот ограничено и максимальный размер музыкального произведения тоже не бесконечен, это означает, что запас мелодий в мире скоро истощится
. В то время, когда он грустил по этому поводу, Брамс, Чайковский, Рахманинов и Стравинский еще даже не родились, не говоря уже о целом ряде новых жанров – таких, как рэгтайм, джаз, бродвейские мюзиклы, электрик-блюз, кантри-энд-вестерн, рок-н-ролл, регги, панк. И запас мелодий в ближайшее время вряд ли истощится, потому что музыка по своей сути основана на комбинировании: если каждую ноту мелодии мы выбираем, скажем, в среднем из восьми нот, то получается 64 пар нот, 512 мотивов из трех нот, 4096 музыкальных фраз из четырех нот, и так далее – до множества триллионов музыкальных произведений.
То, с какой будничной легкостью мы обобщаем свои знания, – лишь одно из доказательств того, что в нашей голове есть несколько типов репрезентации данных. Ментальные репрезентации также можно выявить в психологической лаборатории
. Используя тонкие приемы, психологи способны поймать мозг в процессе перехода от одной репрезентации к другой. Прекрасным примером может служить эксперимент, который предлагает нашему вниманию психолог Майкл Познер и его коллеги. Испытуемые сидят перед видеоэкраном, на котором на короткое время появляются буквы: например, «АА». Испытуемых просят нажать одну кнопку, если это одинаковые буквы, и другую кнопку, если буквы разные (например, «АВ»). Иногда обе буквы на экране бывают верхнего регистра или нижнего регистра («АА» или «аа»), то есть они идентичны по физической форме. Иногда одна из букв бывает верхнего регистра, а вторая – нижнего («Аа» или «аА»); это одна и та же буква алфавита, но по физической форме буквы разные. Когда буквы физически идентичны, люди нажимают на кнопки быстрее и правильнее, чем когда они видят физически разные буквы – по-видимому, потому, что люди обрабатывают буквы как зрительные образы и могут сравнивать их по геометрической форме, как шаблоны. Когда одна буква – «А», а другая – «а», людям нужно еще преобразовать их в тот формат, в котором они окажутся эквивалентными, а именно – «буква “а”»; это преобразование добавляет еще около десятой доли секунды к тому времени, которое затрачивается на реакцию. Но вот если две буквы появляются на экране с перерывом в несколько секунд, то не имеет значения, были ли они идентичны по физической форме: последовательность из «А» и «А» обрабатывается так же медленно, как из «А» и «а». Быстрое сравнение с шаблоном уже невозможно. Очевидно, через несколько секунд мозг автоматически преобразует визуальную репрезентацию в алфавитную, не учитывая информацию о геометрической форме.
Подобные эксперименты свидетельствуют о том, что человеческий мозг использует как минимум четыре основных формата репрезентаций. Один из форматов – визуальный образ: это что-то вроде шаблона в виде двухмерной мозаики. (О визуальных образах будет подробнее рассказано в главе 4.) Второй – это фонологическая репрезентация, последовательность слогов, которые мы проигрываем в голове, как петлю магнитной ленты, планируя движения рта и представляя, как будут звучать слоги. Такая линейная репрезентация – важный компонент нашей краткосрочной памяти: например, найдя в справочнике нужный телефонный номер, мы повторяем его про себя, пока не наберем его на телефоне. Фонологическая краткосрочная память может удерживать от четырех до семи «кусков» информации в течение времени от одной до пяти секунд. (Краткосрочная память измеряется «кусками», а не звуками, потому что каждый из таких «кусков» может быть ярлыком, указывающим на более крупную структуру информации в долгосрочной памяти – такую, как содержание целой фразы или предложения.) Третий формат – это грамматическая репрезентация: существительные и глаголы, фразы и предложения, основы и корни, фонемы и слоги – все это образует иерархические структуры. В книге «Язык как инстинкт» я объясняю, каким образом эти репрезентации предопределяют, из чего будет состоять предложение, и как люди общаются и играют с языком
.
.
Вероятно, вы по-прежнему задаетесь вопросом, каким образом метки, которые пишут и стирают демоны внутри компьютера, представляют или обозначают вещи в реальном мире. Кто решает, что данная метка в системе соответствует данному кусочку мира? В случае с компьютером ответ очевиден: мы решаем, что обозначают эти символы, потому что мы создаем машину. Но кто определяет значение символов, которые якобы присутствуют в нашей голове? В философии данная проблема известна как проблема «интенциональности» (этот термин может ввести в заблуждение, потому что интенциональность не имеет ничего общего с намерениями; англ, intentionality образовано от intention, у которого помимо специального логического значения «интенция» есть также общеязыковое значение «намерение». – Прим. пер.) На этот вопрос есть два широкоизвестных ответа. Первый – что символ связан с референтом (обозначаемым объектом) в реальном мире посредством наших органов чувств. Лицо матери отражает свет, который возбуждает зрительные рецепторы, что приводит к каскаду эталонов или подобных схем, которые вписывают символ мать в ваше мышление. Второй ответ – что уникальный паттерн манипуляций с символами, запускаемый первым символом, отражает уникальный паттерн взаимоотношений между референтом первого символа и референтами инициируемых символов. Если мы условимся (какими бы ни были причины) говорить, что символ мать обозначает мать, дядя обозначает дядю, и так далее, все новые утверждения о взаимном родстве, генерируемые демонами, чудесным образом вновь и вновь будут оказываться истинными. Устройство напечатает утверждение Bella mother-of Me (Белла мать Я) – и будет право, потому что Белла и впрямь моя мать. Символ мать обозначает мать, потому что он выполняет определенную роль во всех умозаключениях о матерях.
Эти две теории известны как теория причинно-следственной связи и теория инференциальных ролей, и для опровержения каждой из них оппонентами было выдумано немало нелепых мысленных экспериментов. Эдип не хотел жениться на своей матери, но все равно это сделал. Почему? Потому что эта женщина вызвала в его сознании символ Иокаста, а не символ мать, а его желание было сформулировано как «Если это мама, не женись на ней». Причинное влияние символа Иокаста (а это женщина, которая на самом деле была матерью Эдипа) здесь были нерелевантны; единственное, что имело значение, – это инференциальная роль, которую играли в голове Эдипа символы Иокаста и мать. Молния ударяет в сухое дерево посреди болота, и каким-то чудесным образом болотная тина сливается в точную копию меня в данный момент, воспроизводящую меня вплоть до молекулы, включая мои воспоминания. Этот Болотный человек никогда не видел мою мать, но большинство людей сказали бы, что его мысли о матери будут о моей матери – точно так же, как и мои собственные мысли. Отсюда также следует вывод, что символу не обязательно быть связанным причинно-следственными связями с чем-либо в этом мире, чтобы напоминать о чем-то; достаточно его инференциальной роли
.
И все-таки… Предположим, что последовательность действий по обработке информации, выполняемых компьютером, играющим в шахматы, оказывается по какому-то удивительному стечению обстоятельств аналогичной событиям на поле боя в ходе Шестидневной войны[8 - Между Израилем и его арабскими соседями в 1967 году. – Прим. пер.]: королевский конь = Моше Даян, ладья на с7 = израильская армия захватывает Голанские высоты и т. д. Можно ли будет сказать, что эта программа в такой же степени воспроизводит Шестидневную войну, в какой она воспроизводит игру в шахматы? Предположим, однажды мы обнаружим, что кошки – вовсе не животные, а очень похожие на животных роботы, управляемые с Марса. Любое правило логического вывода, которое приведет к выводу «если это существо – кошка, то это животное», будет недействительным. Инференциальная роль нашего ментального символа кошка в этом случае изменится до неузнаваемости. Однако значение символа кошка останется неизменным: вы все равно подумаете «кошка», увидев крадущегося мимо робота по кличке Феликс. Уже два очка в пользу теории причинно-следственной связи.
Третью точку зрения можно кратко выразить фразой из пародии на телерекламу в передаче «Субботним вечером в прямом эфире»: «Вы оба правы – это мастика для натирки пола и украшение для десерта». Что обозначает символ, определяют каузальная и инференциальная роли символа в сочетании. (С этой точки зрения мысли Болотного человека будут о моей матери, потому что у него будет ориентированная на будущее каузальная связь с ней: он узнает мою мать, если встретит ее). Каузальная и инференциальная роли обычно бывают синхронизированы, поскольку благодаря естественному отбору наши системы восприятия и модули логического вывода в этом мире по большей части работают правильно. Не все философы согласятся с тем, что сочетания причинности, инференции и естественного отбора достаточно для такого описания понятия «значение», которое будет идеально работать в любой альтернативной Вселенной. («Предположим, у Болотного человека есть идентичный близнец на другой планете…») Но если его и достаточно, ответим мы, тем хуже для этой концепции значения. Значение может иметь смысл только относительно устройства, которое было создано (инженерами или естественным отбором) для работы в данном, конкретном мире. Иными словами, насчет Марса, Болотной страны или Сумеречной зоны сказать наверняка ничего нельзя. Даже если с философской точки зрения наша теория каузальности в сочетании с инференцией не совсем совершенна, она по крайней мере снимает покров тайны с того, каким образом символ в нашей голове или в компьютере может что-то обозначать
.
Еще один признак того, что вычислительная теория сознания на правильном пути, – существование искусственного интеллекта: компьютеров, которые выполняют интеллектуальные задачи, посильные только для человека. В любом магазине подержанной аппаратуры вам продадут компьютер, который превосходит человека по способности вычислять, хранить и находить данные, строить чертежи, проверять орфографию, переправлять почту и набирать текст. В хорошо укомплектованном магазине программного обеспечения вам предложат программы, которые отлично играют в шахматы, распознают буквы алфавита и отчетливую речь. Покупатель с кошельком потолще может позволить себе программы, способные поддерживать разговор по-английски на ряд тем и управлять роботизированной рукой, выполняющей сварку и покраску, и не уступающие человеку по мастерству в сотнях областей – таких, как подбор акций, диагностика болезней, назначение лекарств, устранение неполадок в оборудовании. В 1996 году компьютер «Дип Блю» обыграл в одиночной партии чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Еще две партии закончились вничью, а последнюю компьютер проиграл; можно сказать, что всего лишь вопрос времени, когда компьютер окончательно победит чемпиона мира. Роботов такого класса, как Терминатор, в мире пока нет, однако есть тысячи менее масштабных программ искусственного интеллекта – в том числе они есть у вас в компьютере, в машине и в телевизоре. И это не предел.
Эти скромные успехи заслуживают внимания в связи с горячими спорами по поводу того, что компьютеры вскоре смогут или, наоборот, никогда не смогут делать. Одна сторона дебатов заявляет, что появление роботов уже не за горами (что доказывает, что мозг – это компьютер), а вторая утверждает, что этого никогда не будет (что доказывает обратное)
. Создается ощущение, что эта дискуссия сошла со страниц книги «Говорят эксперты» Кристофера Серфа и Виктора Наваски:
Знающие люди уверены, что передавать голос по проводам невозможно, а если даже это и было бы возможно, то не принесло бы никакой практической пользы.
Редакционная статья в журнале «Бостон пост», 1865 год
Пятьдесят лет спустя… мы откажемся без абсурдной необходимости выращивать целую курицу, чтобы съесть грудку или крылышко, и начнем выращивать эти части по отдельности в подходящих условиях.
Уинстон Черчилль, 1932 год
Летающие машины тяжелее воздуха невозможны.
Лорд Кельвин, исследователь в области термодинамики и электричества, 1895 год
[К 1965 году] автомобиль высшего класса будет около 20 футов длиной, работать будет на энергии газотурбинного двигателя, младшего брата реактивного двигателя.
Лео Черне, издатель-редактор «Ресерч инститьют оф Америка», 1955 год
Человек никогда не долетит до Луны, невзирая на все будущие научные достижения.
Ли Дефорест, изобретатель вакуумной лампы, 1957 год
Пылесосы, работающие за счет ядерной энергии, станут реальностью через 10 лет.
Алекс Льюит, производитель пылесосов, 1955 год
Единственное явно справедливое утверждение, следующее из рассуждений футурологов, – что в будущем все их рассуждения будут выглядеть глупо. Мы не можем знать пределов возможностей искусственного интеллекта, его достижения будут зависеть от того, с какими практическими сложностями столкнется его развитие. Не подлежит сомнению лишь одно: вычислительные машины могут обладать интеллектом.
Связь между научным пониманием и технологическими достижениями очень слаба. Мы уже достаточно давно обладаем значительными знаниями о суставах и о сердце, но вот искусственные суставы уже стали привычным делом, а искусственных сердец пока не наблюдается. Об этой пропасти между теорией и практикой нужно помнить и тогда, когда мы ищем в искусственном интеллекте ответы на вопросы о компьютере и мышлении. Более подходящим названием для изучения мышления с опорой на информацию о компьютерах будет не «искусственный интеллект», а «естественное вычисление»
.
Вычислительная теория сознания незаметно закрепилась в качестве основы нейробиологии – науки, изучающей мозг и нервную систему. Ни один уголок этой науки не остался незатронутым идеей о том, что обработка информации – это основная деятельность мозга. Именно обработка информации заставляет нейробиологов больше интересоваться нейронами, чем глиальными клетками, несмотря на то, что глии занимают больше места в мозге. Аксон (длинный отросток) нейрона вплоть до молекулы специально предназначен для того, чтобы распространять информацию с высокой точностью на большое расстояние, а когда электрический сигнал преобразуется в химический в синапсе (месте соприкосновения нейронов), физический формат информации меняется, в то время как информация остается той же. Как мы увидим далее, дерево дендритов (подводящих волокон) на каждом нейроне, по-видимому, выполняет основные логические и статистические операции, лежащие в основе вычисления. Язык нейробиологии насыщен такими терминами теории информации, как «сигналы», «коды», «репрезентации», «трансформации», «обработка»
.
Обработка информации определяет и вполне закономерные вопросы, имеющие отношение к этой сфере. Если изображение на сетчатке перевернуто, как же получается, что мы видим мир правильной стороной кверху? Если зрительная зона коры располагается в задней части головного мозга, почему нам не кажется, что мы видим картинку в задней части головы? Как это возможно, что человек чувствует фантомную конечность на месте ампутированной? Как мы можем воспринимать зеленый кубик с помощью нейронов, которые не имеют форму кубика и не окрашены в зеленый цвет? Каждый нейробиолог знает, что это псевдовопросы, но почему? Потому что речь в них идет о свойствах мозга, которые не имеют никакого отношения к передаче и обработке информации.
Если ценность научной теории определяется ее способностью объяснять факты и вдохновлять ученых на открытия, то самый большой плюс вычислительной теории сознания – это то влияние, которое она оказала на психологию. Скиннер и другие бихевиористы утверждали, что все разговоры о ментальных событиях – бесплодные рассуждения; в лабораторных и полевых условиях можно изучать только стимул и реакцию. Оказалось, что справедливо все с точностью до наоборот. До того, как в 1950-1960-е годы Ньюэлл и Саймон и психологи Джордж Миллер и Дональд Бродбент привнесли в психологию идеи вычислительной теории, она была бесконечно скучной. В обязательную программу психологии входила физиологическая психология (рефлексы), восприятие (звуковые сигналы), обучение (крысы), память (бессмысленные слоги), интеллект (коэффициент интеллекта) и личность (тесты личности). За прошедшее время психологи привлекли в свои лаборатории вопросы, волновавшие лучших мыслителей в истории, сделали по каждому из аспектов мышления тысячи открытий, о которых несколько десятилетий назад нельзя было и мечтать.
Причиной этого расцвета стала главная задача, поставленная перед психологией вычислительной теорией: выявить форму ментальных репрезентаций (символических записей, используемых мозгом) и процессов (демонов), которые их оценивают. Платон сказал, что мы заперты в пещере и знаем мир только по теням, которые он отбрасывает на стене. Наша пещера – это череп, а тени – ментальные репрезентации. Информация во внутренней репрезентации – вот все, что мы знаем о мире. Рассмотрим в качестве аналогии то, как работают внешние репрезентации. В выписке из моего банковского счета каждый вклад указывается как единая сумма. Если я сделал вклад, состоящий из нескольких чеков и некоторой суммы наличности, я не могу проверить, есть ли среди них конкретный чек; эта информация в репрезентации утрачена. Более того, сама форма репрезентации определяет, какие выводы из нее можно сделать, потому что символы и их расположение – это единственное, на что может реагировать гомункул, который достаточно глуп, чтобы его могла заменить машина. Наша репрезентация чисел ценна потому, что она позволяет выполнять сложение, используя набор полуавтоматических операций: нам достаточно найти нужную отметку в таблице сложения и разряды переноса. Римские числа практически не используются (разве что в названиях и в декоративных целях), потому что с ними сложение становится значительно сложнее, а умножение и деление практически невозможны.
Определение ментальных репрезентаций – это путь к точности в психологии. Многие определения поведения производят впечатление чего-то несерьезного, потому что в них психологические явления объясняются в терминах других, не менее загадочных психологических явлений. Почему людям это задание труднее выполнить, чем то? Потому что первое задание «более сложное». Почему люди распространяют информацию об одном объекте на другой объект? Потому что эти объекты «похожи». Почему люди замечают одно событие, но не замечают другое? Потому что первое событие «более заметно». Все эти объяснения – сплошное надувательство. Сложность, схожесть, важность – все это зависит от обладателя мышления, и как раз это мы и должны попытаться объяснить. Компьютеру сложнее запомнить сюжет «Красной Шапочки», чем двадцатиразрядное число; нам сложнее запомнить число, чем сюжет. Два комка из смятой газеты нам кажутся похожими, хотя по форме они могут быть совершенно разными, а лица двух людей – разными, хотя их форма почти одинакова. Для мигрирующих птиц, ориентирующихся по звездам на небе, положение созвездий в разные периоды ночи будет весьма примечательным; среднестатистический человек вообще едва ли заметит их положение.
Но если мы опускаемся на уровень репрезентаций, мы сталкиваемся с менее эфемерными сущностями, которые можно точно сосчитать и сравнить. Хорошая теория психологии должна предполагать, что репрезентации, требующиеся для более «сложной» задачи, содержат больше символов или запускают более длинную цепочку демонов, чем репрезентации, требующиеся для «легкой» задачи. Она должна предполагать, что репрезентации «похожих» объектов содержат больше общих символов и меньше различных символов, чем репрезентации «непохожих» объектов. «Примечательные» объекты должны иметь репрезентации, отличные от всех соседних объектов; «незаметные» объекты должны иметь одинаковые репрезентации.
Исследователи в русле когнитивной психологии пытались рассматривать под разными углами вопрос о внутренних ментальных репрезентациях, анализируя сообщения людей, время реакции и совершенные ошибки в то время, когда эти люди запоминали, решали задачи, узнавали объекты и делали выводы из опыта. То, как люди обобщают опыт, пожалуй, самое наглядное доказательство того, что мозг использует ментальные репрезентации, причем в огромном количестве.
Предположим, вам требуется некоторое время, чтобы научиться читать слова, написанные новым причудливым шрифтом, украшенным завитушками. Вы потренировались на нескольких словах и теперь читаете этот шрифт также быстро, как любой другой. Теперь вы видите знакомое вам слово, которого не было в вашем тренировочном упражнении, – скажем, слово elk («лось»). Придется ли вам заново узнавать, что это слово – существительное? Придется ли вам заново учиться произносить его? Узнавать, что референт этого слова – животное, как этот референт выглядит, что он обладает весом, дышит и кормит детенышей молоком? Конечно, нет. Но это тривиальное умение кое о чем говорит. Ваше знание о слове elk не привязано напрямую к физическим очертаниям напечатанных букв. Если бы это было так, то при использовании нового шрифта ваше знание не имело бы связи с буквами, написанными иначе, и было бы недоступно до тех пор, пока вы не выучите заново все связи. Значит, ваше знание должно быть связано с неким узлом, номером, адресом в памяти или статьей в ментальном словаре, представляющей абстрактное слово elk, причем эта статья должна быть нейтральна по отношению к тому, как это слово пишется и произносится. Запомнив новый шрифт, вы создали новый визуальный механизм запускания для букв алфавита, которые, в свою очередь, запускают старую статью, соответствующую слову elk; в результате все, что связано с этой статьей, моментально становится доступно для использования – вам не нужно заново привязывать по кусочку все, что вы знаете о лосях, к новой форме букв, составляющих это слово. Это доказывает, что наше мышление содержит ментальные репрезентации, привязанные к абстрактным статьям на каждое слово, а не к форме слов, напечатанных на бумаге
.
Такие неожиданные изменения и арсенал внутренних репрезентаций, о котором они свидетельствуют, представляют собой отличительную особенность когнитивной способности человека. Если бы вы узнали, что другое название лося – wapiti («вапити»), вы бы взяли все факты, привязанные к слову elk, и моментально перенесли их на слово wapiti вместо того, чтобы по одной переносить каждую связь на новое слово. Конечно, перенесенными оказались бы только ваши познания в области зоологии; вы же не станете произносить слово wapiti так же, как и слово elk. Это наводит на мысль, что мышление обладает уровнем репрезентации, специфичным для концептов, стоящих за словами, а не для самих слов. Наше знание фактов о лосях привязано к концепту; слова elk и wapiti тоже привязаны к концепту, а написание е-1-k и произношение [elk] привязаны к слову elk.
До сих пор мы двигались от шрифта вверх; теперь давайте попробуем двигаться вниз. Если вы научились распознавать этот шрифт написанным черными чернилами на белой бумаге, то вам не придется переучиваться, чтобы распознать его написанным белыми чернилами на красной бумаге. Здесь мы подходим к уровню визуальных границ. Любой цвет, стыкующийся с любым другим цветом, воспринимается как граница; границы определяют очертание штрихов; определенное расположение штрихов составляет буквенно-цифровой символ.
Разнообразные ментальные репрезентации, связанные с концептом «лось», могут быть представлены с помощью одной диаграммы, которую иногда называют семантической сетью, репрезентацией знаний или пропозициональной базой данных.
Это лишь фрагмент гигантского мультимедийного словаря, совмещенного с энциклопедией и инструкцией по применению, который содержится у нас в голове. Из таких же многослойных репрезентаций состоит все наше мышление. Скажем, я попросил вас написать слово elk любым шрифтом на ваш выбор, но только левой рукой (если вы правша), или написать его на песке большим пальцем ноги, или мини-фонариком, зажатым в зубах. Результат будет небрежным, но узнаваемым. Вероятно, вам придется потренироваться, чтобы движения выходили более плавными, но вам не придется заново переучиваться писать штрихи, из которых состоит каждая буква, не говоря уже про алфавит или написание каждого слова в английском языке. Этот перенос опыта основан на уровне репрезентации двигательного контроля, который определяет геометрическую траекторию, а не сокращения мышц или движения конечностей, которые ее образуют. Траектория будет преобразована в реальные движения управляющей программой низшего уровня для каждой конечности.
Вспомним историю Салли, выбежавшей из горящего здания, которую мы обсуждали в начале этой главы. Ее желание было сформулировано в виде абстрактной репрезентации «спасайся от опасности». Оно не могло быть сформулировано как «убегай от дыма», потому что желание спастись могло быть инициировано не только дымом, но и другими признаками (а бывают случаи, когда дым не инициирует это желание), а спастись из горящего дома она могла не только бегом, но и с помощью других действий. И все же ее поведенческая реакция была сформирована мгновенно и впервые. Значит, мышление Салли должно быть модульным: один его элемент оценил опасность, другой решил, нужно ли спасаться, а третий определил, каким образом это сделать.
Комбинаторный анализ мыслекода и других репрезентаций, состоящих из частей, позволяет объяснить неистощимый репертуар человеческих мыслей и действий. Используя несколько элементов и несколько правил их сочетаемости, можно получить неизмеримо огромное количество самых разных репрезентаций, поскольку количество возможных репрезентаций увеличивается в геометрической прогрессии относительно их размера. Очевидный пример – язык. Скажем, у вас есть десять вариантов слова, с которого вы начнете предложение, десять вариантов второго слова (а это уже сто вариантов начала предложения из двух слов), десять вариантов третьего слова (а это тысяча вариантов начала из трех слов), и т. д. (Кстати, десять – это среднее геометрическое значение количества вариантов слов, имеющихся в нашем распоряжении в каждый момент, когда мы составляем грамматически правильное и имеющее смысл предложение). Элементарная арифметика показывает, что количество предложений из двадцати и менее слов (это достаточно распространенная длина предложения) составляет примерно 10
, то есть единица и еще двадцать нолей, или сто миллионов триллионов, или в сто раз больше количества секунд, прошедших с момента рождения Вселенной. Я привел этот пример не для того, чтобы поразить вас богатством языка, а чтобы поразить вас богатством нашего мышления. Ведь язык, в конце концов, это не подражание голосом музыкальному инструменту в джазе: каждое предложение выражает ясную мысль. (Не существует совершенно синонимичных друг другу предложений.) Так что если у людей и есть мысли, которые сложно выразить словами, помимо них есть еще примерно сотня миллионов триллионов других, вполне выразимых
.
Комбинаторное богатство теоретически возможных структур мы находим во многих сферах человеческой деятельности. Юный Джон Стюарт Милль с тревогой обнаружил, что, поскольку количество музыкальных нот ограничено и максимальный размер музыкального произведения тоже не бесконечен, это означает, что запас мелодий в мире скоро истощится
. В то время, когда он грустил по этому поводу, Брамс, Чайковский, Рахманинов и Стравинский еще даже не родились, не говоря уже о целом ряде новых жанров – таких, как рэгтайм, джаз, бродвейские мюзиклы, электрик-блюз, кантри-энд-вестерн, рок-н-ролл, регги, панк. И запас мелодий в ближайшее время вряд ли истощится, потому что музыка по своей сути основана на комбинировании: если каждую ноту мелодии мы выбираем, скажем, в среднем из восьми нот, то получается 64 пар нот, 512 мотивов из трех нот, 4096 музыкальных фраз из четырех нот, и так далее – до множества триллионов музыкальных произведений.
То, с какой будничной легкостью мы обобщаем свои знания, – лишь одно из доказательств того, что в нашей голове есть несколько типов репрезентации данных. Ментальные репрезентации также можно выявить в психологической лаборатории
. Используя тонкие приемы, психологи способны поймать мозг в процессе перехода от одной репрезентации к другой. Прекрасным примером может служить эксперимент, который предлагает нашему вниманию психолог Майкл Познер и его коллеги. Испытуемые сидят перед видеоэкраном, на котором на короткое время появляются буквы: например, «АА». Испытуемых просят нажать одну кнопку, если это одинаковые буквы, и другую кнопку, если буквы разные (например, «АВ»). Иногда обе буквы на экране бывают верхнего регистра или нижнего регистра («АА» или «аа»), то есть они идентичны по физической форме. Иногда одна из букв бывает верхнего регистра, а вторая – нижнего («Аа» или «аА»); это одна и та же буква алфавита, но по физической форме буквы разные. Когда буквы физически идентичны, люди нажимают на кнопки быстрее и правильнее, чем когда они видят физически разные буквы – по-видимому, потому, что люди обрабатывают буквы как зрительные образы и могут сравнивать их по геометрической форме, как шаблоны. Когда одна буква – «А», а другая – «а», людям нужно еще преобразовать их в тот формат, в котором они окажутся эквивалентными, а именно – «буква “а”»; это преобразование добавляет еще около десятой доли секунды к тому времени, которое затрачивается на реакцию. Но вот если две буквы появляются на экране с перерывом в несколько секунд, то не имеет значения, были ли они идентичны по физической форме: последовательность из «А» и «А» обрабатывается так же медленно, как из «А» и «а». Быстрое сравнение с шаблоном уже невозможно. Очевидно, через несколько секунд мозг автоматически преобразует визуальную репрезентацию в алфавитную, не учитывая информацию о геометрической форме.
Подобные эксперименты свидетельствуют о том, что человеческий мозг использует как минимум четыре основных формата репрезентаций. Один из форматов – визуальный образ: это что-то вроде шаблона в виде двухмерной мозаики. (О визуальных образах будет подробнее рассказано в главе 4.) Второй – это фонологическая репрезентация, последовательность слогов, которые мы проигрываем в голове, как петлю магнитной ленты, планируя движения рта и представляя, как будут звучать слоги. Такая линейная репрезентация – важный компонент нашей краткосрочной памяти: например, найдя в справочнике нужный телефонный номер, мы повторяем его про себя, пока не наберем его на телефоне. Фонологическая краткосрочная память может удерживать от четырех до семи «кусков» информации в течение времени от одной до пяти секунд. (Краткосрочная память измеряется «кусками», а не звуками, потому что каждый из таких «кусков» может быть ярлыком, указывающим на более крупную структуру информации в долгосрочной памяти – такую, как содержание целой фразы или предложения.) Третий формат – это грамматическая репрезентация: существительные и глаголы, фразы и предложения, основы и корни, фонемы и слоги – все это образует иерархические структуры. В книге «Язык как инстинкт» я объясняю, каким образом эти репрезентации предопределяют, из чего будет состоять предложение, и как люди общаются и играют с языком
.