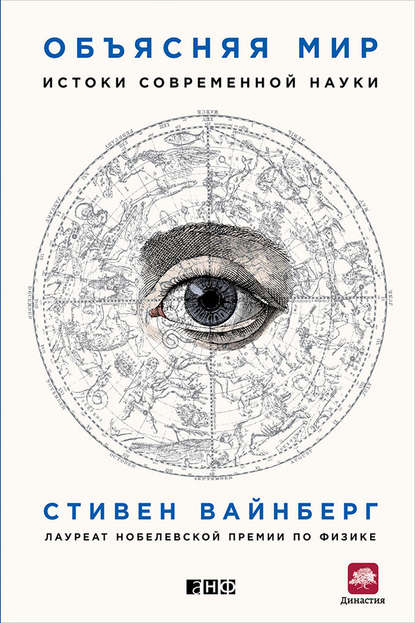По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Объясняя мир. Истоки современной науки
Автор
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Математика – это средство, с помощью которого мы выводим следствия физических законов. Более того, это незаменимый язык, на котором излагаются сами физические законы. Она часто пробуждает новые идеи в области естественных наук, и, в свою очередь, нужды науки часто подталкивают развитие математики. Работа физика-теоретика Эдварда Виттена обеспечила такой громадный прорыв в математике, что в 1990 г. он получил одну из самых высоких наград в области математики – Филдсовскую медаль. Но при этом математика не является естественной наукой. Математика сама по себе, без наблюдений за окружающим миром, не может ничего рассказать о нем. И математические теоремы не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты такими наблюдениями.
Ни в древнем мире, ни даже в начале Нового времени об этом не подозревали. Мы уже видели, что Платон и пифагорейцы воспринимали математические объекты, например, числа или треугольники, как элементарные составляющие природы, и мы еще увидим, как некоторые философы считали вычислительную астрономию частью математики, а не естественной наукой.
Различие между математикой и естественными науками достаточно четко. Для нас остается загадкой, как математические построения, никак не связанные с природой, часто оказываются применимы к физическим теориям. В своей знаменитой статье[27 - Вигнер Е. Непостижимая эффективность математики в естественных науках // Этюды о симметрии / Пер. с англ. – М.: Мир, 1971.] физик Юджин Вигнер писал о «непостижимой эффективности математики». Но в целом мы никоим образом не смешиваем математические концепции и принципы естественных наук, которые в конечном счете должны быть подтверждены наблюдением за окружающим миром.
Сейчас конфликты между математиками и другими учеными порой возникают из-за вопросов математической строгости. С начала XIX в. чистые математики требовали, чтобы строгость стала основой всего. Определения и допущения должны быть точными, а доказательства проведены с абсолютной достоверностью. Физики более гибки, точность и достоверность требуется им только для того, чтобы избежать серьезных ошибок. В предисловии к своей монографии по квантовой теории полей я признаю, что «в книге есть части, которые читатель, склонный к математике, будет читать со слезами на глазах».
Это вызывает сложности во взаимопонимании. Математики говорили мне, что работы физиков часто кажутся им раздражающе расплывчатыми. Те физики, которым, как и мне самому, нужен продвинутый математический аппарат, часто находят, что стремление математиков к строгости усложняет работу, но не так ценно для самой физики.
Физики, склонные к математике, совершили благородный поступок, формализовав современную физику элементарных частиц – квантовую теорию поля – по строгим математическим канонам, и достигли некоторых интересных результатов. Но за последние полвека в Стандартной модели элементарных частиц не было никакого развития, связанного с достижением более высокого уровня математической строгости.
Греческие математики процветали и после Евклида. В главе 4 мы поговорим о великих достижениях математиков позднего эллинистического периода – Архимеда и Аполлония Пергского.
3. Движение и философия
После Платона размышления греков о природе стали менее поэтическими и более аргументированными. Прежде всего, эти изменения заметны в работах Аристотеля. Аристотель не был ни урожденным афинянином, ни даже ионийцем. Он родился в 384 г. до н. э. в Македонии и переехал в Афины в 367 г. до н. э., чтобы учиться в основанной Платоном Академии. После смерти Платона в 347 г. до н. э. Аристотель уехал из Афин, некоторое время жил на острове Лесбос в Эгейском море и в прибрежном городе Ассос. В 343 г. до н. э. царь Филипп II призвал его обратно в Македонию, чтобы сделать наставником для своего сына, будущего Александра Великого.
Македония возвысилась в греческом мире после того, как армия Филиппа разбила армию Афин и Фив в битве при Херонее в 338 г. до н. э. После смерти Филиппа в 336 г. до н. э. Аристотель вернулся в Афины, где основал свою собственную школу Ликей. Наряду с Академией Платона, Садом Эпикура и Портиком[4 - По др.-гр. ???? ??????? – «расписной портик». – Прим. ред.] стоиков Ликей был одной из четырех самых великих афинских школ. Он просуществовал несколько веков, вероятно, пока не был закрыт, когда Афины были захвачены римскими войсками под предводительством Суллы в 86 г. до н. э. У Ликея была долгая жизнь, но Академия Платона, действовавшая в том или ином виде до 529 г. н. э., имеет более долгую историю, чем многие ныне существующие европейские университеты.
Дошедшие до нас работы Аристотеля в основном выглядят как заметки для его лекций в Ликее. Они касаются удивительного множества предметов: астрономия, зоология, сновидения, метафизика, логика, этика, риторика, политика, эстетика и то, что обычно переводят как «физика». По мнению одного из современных переводчиков[28 - J. Barnes, The Complete Works of Aristotle – The Revised Oxford Translation (Princeton University Press, Princeton, N.J., 1984).], язык Аристотеля был «выразителен, краток, резок, его аргументы выражены сжато, его мысль глубока», что вовсе не похоже на поэтический стиль Платона. Я должен сознаться, что иногда нахожу Аристотеля таким скучным, каким Платон не бывает, в то же время Аристотель не часто демонстрирует глупость, чего не скажешь о Платоне.
Платон и Аристотель были реалистами, но в разном смысле этого слова. Платон был реалистом в средневековом значении: он верил в реальность абстрактных идей, в частности, в идеальную форму вещей. Он считал, что реально существует идеальная форма сосны, а все отдельно существующие сосны только являются ее неидеальными воплощениями. Идеальные формы неизменны, как этого требовали Парменид и Зенон. Аристотель был реалистом в общепринятом современном смысле: для него категории хотя и были очень интересны, но существовали отдельные вещи, например, отдельные сосны, вполне реальные, а не платоновские отражения идеального.
Чтобы подтвердить свои предположения, Аристотель чаще пользовался доводами разума, а не действовал по наитию. Нельзя не согласиться со специалистом по классической филологии Р. Дж. Ханкинсоном, что «мы не должны упускать из виду тот факт, что Аристотель был человеком своего времени, и для этого времени он был чрезвычайно наблюдательным, прозорливым и передовым»[29 - R. J. Hankinson, The Cambridge Companion to Aristotle, ed. J. Barnes (Cambridge University Press, Cambridge, 1995), p. 165.]. Как бы то ни было, сквозь все учение Аристотеля проходили принципы, от которых современная наука отказалась на пути своего становления.
Начнем с того, что работы Аристотеля переполнены телеологией: вещи являются тем, что они есть, благодаря целям, которым они служат. В «Физике» мы читаем: «Кроме того, дело одной и той же [науки – познавать] «ради чего» и есть цель, а также [средства], которые для этого имеются. Ведь природа есть цель и “ради чего”…»[30 - Аристотель. Сочинения. Т. 3. С. 86.]
То, что Аристотель придает особое значение телеологии, вполне естественно для человека его склада, который интересовался биологией. В Ассосе и на Лесбосе Аристотель изучал морскую биологию, а его отец Никомах был врачом при македонском дворе. Друзья, более сведущие в биологии, чем я, говорят, что описания животных, сделанные Аристотелем, достойны восхищения. Телеология вполне естественна для того, кто, как Аристотель в своем сочинении «О частях животных», изучает сердце или желудок животного – едва ли ему приходится задаваться вопросом, какой цели служат эти органы.
Более того, до работ Дарвина и Уоллеса в XIX в. натуралисты не понимали, что, хотя органы тела служат разным целям, не существует никакой цели, лежащей в основе эволюции. Живые организмы стали тем, чем они стали, благодаря продолжавшемуся миллионы лет естественному отбору из передающихся по наследству вариаций. И, конечно, задолго до Дарвина физики изучали вещество и силу, не задумываясь, какой цели они служат.
Увлечение Аристотеля зоологией, возможно, определило и то, что он особо подчеркивал значение классификации и систематизации, подразделял предметы и понятия на категории. Некоторые из них мы используем до сих пор: например, аристотелевское деление способов управления государством на монархию, аристократию и, хотя и не демократию, но конституционное государственное устройство. Однако многие его классификации бессмысленны. Я могу себе представить, как Аристотель мог бы классифицировать фрукты: все фрукты делятся на три разновидности – яблоки, апельсины и фрукты, которые не являются ни яблоками, ни апельсинами.
Через все работы Аристотеля красной нитью проходит один тип классификации, ставший в дальнейшем препятствием для развития науки. Он настаивал на разделении естественного и искусственного. Вторую книгу «Физики» он начал словами: «Из существующих [предметов] одни существуют по природе, другие – в силу иных причин»[31 - Там же. С. 82.]. Он считал достойной своего внимания только природу. Возможно, именно это разделение естественного и искусственного не позволяло Аристотелю и его последователям интересоваться экспериментами. Что может быть хорошего в создании искусственной ситуации, когда настоящий интерес вызывают природные явления?
Аристотель не отвергал наблюдения за природными явлениями. Наблюдая временной промежуток между вспышкой молнии и ударом грома и слушая звуки весел, которые опускали в воду гребцы на триреме, плывущей вдали, он сделал вывод о том, что скорость распространения звука в воздухе конечна[32 - Там же. С. 508.]. Также мы увидим, что Аристотель, удачно используя наблюдения, сделал выводы о форме земного шара и о причине возникновения радуг. Но это были обычные наблюдения природных явлений, а не создание искусственных ситуаций с целью проведения эксперимента.
Разделение между естественным и искусственным значительно повлияло на размышления Аристотеля о проблеме, имеющей огромное значение для истории науки, – изучения падения тел. Аристотель учил, что твердые тела падают, потому что естественное место элемента земли – внизу, в центре космоса или мироздания, а искры летят вверх, потому что естественное место огня – в небе. Земля представляет собой практически правильный шар, и ее центр является центром космоса, потому что в этом положении большая часть земной тверди примыкает к центру мироздания. В его трактате «О небе» мы читаем: «Если такая-то тяжесть проходит такое-то расстояние за такое-то время, то такая-то плюс N – за меньшее. И пропорция, в которой относятся между собой времена, будет обратной к той, которой относятся между собой тяжести. Например, если половинная тяжесть – за такое-то [время], то целая – за его половину»[33 - Там же. С. 279–280.].
Аристотеля нельзя обвинить в том, что он полностью игнорировал наблюдения падающих тел. Хотя и не понимая причин этого явления, он отметил, что сопротивление воздуха или любой другой окружающей среды оказывает эффект на падающее тело: его скорость приближается к постоянному значению, равновесной скорости, которая возрастает при увеличении массы предмета (см. техническое замечание 6). Возможно, для Аристотеля было более важно, что наблюдения того, что скорость падающего тела увеличивается при возрастании его веса, подтверждали его учение о том, что тело падает, потому что естественное место материала, из которого оно сделано, находится в центре мира.
Для Аристотеля наличие воздуха или другой среды было основополагающим в понимании движения. Он думал, что если не будет никакого сопротивления, то тела будут двигаться с бесконечной скоростью, – нелепость, которая привела его к отрицанию возможности существования пустого пространства. В «Физике» он выдвигает такой аргумент: «…не существует пустоты, как чего-то отдельного, как утверждают некоторые, об этом мы поговорим снова»[34 - Там же. С. 138.]. Но на самом деле существует только установившаяся скорость падения тела, которая обратно пропорциональна силе сопротивления. Установившаяся скорость действительно будет бесконечной, если сопротивления не станет, но в этом случае падающее тело никогда ее не достигнет.
В той же главе Аристотель высказывает еще более спорную мысль о том, что в пустоте не может существовать ничего, с чем движение может соотноситься: «… ни один [предмет] не может двигаться, если имеется пустота. Ведь подобно тому, как, по утверждению некоторых, Земля покоится вследствие одинаковости [всех направлений], так необходимо покоиться и в пустоте, ибо нет оснований двигаться сюда больше, сюда меньше: поскольку это пустота, в ней нет различий»[35 - Там же.]. Но это только аргумент против существования бесконечной пустоты; иначе говоря, движение в пустоте может соотноситься с тем, что находится вне этой пустоты.
Поскольку Аристотель представлял себе движение только при наличии сопротивления, он считал, что любое движение имеет причину[36 - Греческое слово ???????, которое обычно переводится как «движение», в действительности имеет более общее значение, относящееся к любому изменению. Таким образом, классификация причин движения у Аристотеля включает в себя не только изменения положения тела, но и любое изменение. Греческое слово ???? употребляется, только когда идет речь о перемене местоположения, и обычно переводится как «перемещение».]. (Аристотель выделял четыре причины: материя, форма, действие и конечная причина, которая является телеологической, – это цель изменения.) Каждая причина должна сама по себе быть вызванной еще какой-то причиной, но эта последовательность причин не бесконечна. В «Физике» мы читаем: «Так как все движущееся должно приводиться в движение чем-нибудь, а именно если нечто перемещается под действием другого движущегося и это движущееся, в свою очередь, приводится в движение другим движущимся, а оно другим и так далее, то необходимо [признать] существование первого движущегося и не идти в бесконечность»[37 - Аристотель. Сочинения. Т. 3. С. 206.]. Теория о существовании перводвигателя позже подарила христианству и исламу аргумент в пользу существования Бога. Но, как мы увидим далее, в Средние века мысль о том, что Бог не мог создать пустоту, создавала проблемы для последователей Аристотеля и в христианстве, и в исламе.
Аристотеля нисколько не беспокоил тот факт, что тела не всегда перемещаются на свои естественные места. Камень, который держат в руках, не падает, но для Аристотеля этот пример просто демонстрирует искусственное вмешательство в естественный ход вещей. Однако его волновало, что камень, подброшенный вверх, какое-то время продолжает удаляться от Земли, даже после того, как выпадет из руки. Его объяснение, которое на самом деле объяснением не является, гласит, что камень какое-то время удаляется от Земли, потому что это движение придается ему воздухом. В третьей книге трактата «О небе» он пишет: «…и в том и в другом случае [сила] передает [движение] телам, как бы приложив [его к воздуху]. Вот почему [предмет], приведенный в движение силой, продолжает двигаться даже тогда, когда то, что привело его в движение, больше его не сопровождает»[38 - Там же. С. 349.]. Как мы увидим далее, это положение часто обсуждалось и отвергалось и в древности, и в Средние века.
То, что Аристотель писал о падающих телах, типично для его физики: детальная, хотя и не имеющая отношения к математике, аргументация, основывающаяся на базовых принципах, которые, в свою очередь, выводятся из самых простых наблюдений за явлениями природы. При этом он даже не пытается проверить те принципы, которые положены в основу всего рассуждения.
Я не хочу сказать, что философия Аристотеля была воспринята его последователями и продолжателями как альтернатива науке. В древности и Средневековье не было концепции науки, существующей отдельно от философии. Размышления о природе уже были философией. Только в XIX в., когда немецкие университеты учредили докторскую степень для ученых, занимающихся искусствами и науками, чтобы приравнять их по статусу к докторам теологии, юриспруденции и медицины, было изобретено звание «доктор философии». До этого, когда философию сравнивали с другими способами познания природы, ее противопоставляли не науке, а математике.
Ни один мыслитель не оказал такого влияния на историю философии, как Аристотель. Как мы увидим в главе 9, им восхищались некоторые арабские философы, причем Аверроэс дошел в этом восхищении до раболепия. Глава 10 расскажет о влиянии Аристотеля на христианскую Европу в начале XIII в., когда Фома Аквинский увязал его мысли с христианством. В позднем Средневековье Аристотель был известен просто как Философ, а Аверроэс – как комментатор. После Аквинского изучение трудов Аристотеля заняло центральное место в университетском образовании. В прологе к «Кентерберийским рассказам» Чосера мы знакомимся с оксфордским студентом:
Студент оксфордский с нами рядом плелся…
Ему милее двадцать книг иметь,
Чем платье дорогое, лютню, снедь.
Он негу презирал сокровищ тленных,
Но Аристотель – кладезь мыслей ценных –
Не мог прибавить денег ни гроша…[39 - Чосер Дж. Кентерберийские рассказы/Пер. И. Кашкина, О. Румера. – М.: Вече, 2011. С. 8.]
Конечно, в наше время все изменилось. После открытия науки стало необходимо отделить ее от того, что мы сейчас называем философией. Существуют очень интересные работы по философии науки, но они не сильно влияют на научные исследования.
Попытки научной революции в XIV в. были во многом бунтом против аристотелизма, о котором подробно рассказывается в главе 10. В последние годы те, кто изучает труды Аристотеля, часто принимаются опровергать тех, кто считает его идеи устаревшими, устраивая своего рода «контрреволюцию». Знаменитый историк Томас Кун так описывал, как он перешел от пренебрежения по отношению к Аристотелю к восхищению им:
«В частности, его сочинения о движении казались мне полными вопиющих ошибок, как логических, так и связанных с результатами наблюдений. Мне казалось, что эти заключения говорят о том, что Аристотеля напрасно считали корифеем древней логики. Почти две тысячи лет его работы играли в логике почти такую же роль, как работы Евклида – в геометрии… Каким образом его воистину выдающийся талант отказывал ему каждый раз, когда он брался за изучение движения и механики? Помимо этого, почему его работы по физике рассматривались так серьезно в течение стольких лет после его смерти?.. Но неожиданно все эти разрозненные фрагменты сложились в моей голове в совершенно иную картину, и все встало на место. Я даже рот открыл от изумления: Аристотель вдруг показался мне совсем неплохим физиком, только того сорта, который я раньше себе не представлял. Я просто нашел способ читать тексты Аристотеля»[40 - Thomas Kuhn, Remarks on Receiving the Laurea // L'Anno Galileiano (Edizioni LINT, Trieste, 1995).].
Я слышал, как Кун говорил это, когда мы оба получали почетные степени университета Падуи, и попросил разъяснить их. Он ответил: «После моего первого прочтения (работ Аристотеля по физике) изменилась не моя оценка его достижений, но мое понимание их». Я не понимал этого: для меня «совсем неплохой физик» звучит именно как оценка.
Рассматривая отсутствие интереса к эксперименту у Аристотеля, историк Дэвид Линдберг отмечал, что «научную деятельность Аристотеля тем не менее нельзя объяснять как результат глупости или неполноценности с его стороны, как неудачу в понимании очевидного усовершенствования процедуры исследования. Это был метод, совместимый с миром в представлении Аристотеля, и он хорошо подходил к тем вопросам, которые его интересовали». В более объемной статье о том, как оценивать успехи Аристотеля, Линдберг[41 - David C. Lindberg, The Beginnings of Western Science (University of Chicago Press, Chicago, Ill., 1992), pp. 53–54.] позже добавил: «Было бы совершенно несправедливо и бессмысленно оценивать успехи Аристотеля по тому, насколько они предугадывали современную науку (словно бы он отвечал на вопросы, которые задаем мы, а не на свои собственные)». И во втором издании той же работы: «Правильной мерой философской системы или научной теории является не то, насколько хорошо они предвосхитили современную научную мысль, но то, насколько успешно они разрешали научные и философские проблемы своего времени»[42 - Op. cit. seem 2-nd ed. (University of Chicago Press, Chicago, Ill., 2007), p. 65.].
Я на это не купился. В науке (я здесь не говорю о философии) важно не решение каких-то популярных научных проблем-однодневок, а понимание мира. В рамках этой работы ученый находит, какие объяснения возможны и решение каких задач может привести к этим объяснениям. Прогресс науки во многом зависит от поиска вопросов, которые нуждаются в ответах.
Конечно, ученый должен попытаться понять исторический контекст научных открытий. Исходя из этого, задача историка зависит от его планов. Если его целью является только воссоздать прошлое, понять «как все было на самом деле», тогда ему, возможно, и не понадобится оценивать достижения ученых прошлого по современным стандартам. Но таких суждений не избежать, если кто-то хочет проследить развитие научного прогресса от прошлого к настоящему.
Этот прогресс – совершенно объективное явление, а не просто новые веяния в моде. Можно ли сомневаться в том, что Ньютон знал о движении больше, чем Аристотель, или что мы знаем больше, чем Ньютон? Вопросы о том, какие виды движения являются естественными или какова цель того или иного физического явления, никогда не имели смысла.
Я согласен с Линдбергом, что несправедливо считать Аристотеля глупцом. Я оцениваю прошлое по стандартам современности только с целью подвести к пониманию того, как трудно было даже для такого умного человека, как Аристотель, научиться познавать природу. Ничего из того, что стало обычной практикой в современной науке, не является очевидным для человека, который никогда не видел, как это делается.
Аристотель покинул Афины после смерти Александра Македонского в 323 г. до н. э. и вскоре умер, в 322 г. до н. э. Согласно Майклу Мэтьюсу, это была «смерть, которая свидетельствовала об окончании одного из самых ярких периодов интеллектуального развития в истории человечества»[43 - Michael R. Matthews, Introduction to: «The Scientific Background to Modern Philosophy» (Hackett, Indianapolis, Ind., 1989).]. Это и в самом деле был конец Классического периода, но, как мы увидим в дальнейшем, это стало и началом эпохи, которая была отмечена гораздо более яркими научными достижениями, – Эллинистической эры.
4. Эллинистическая физика и техника
После смерти Александра Македонского его империя развалилась на несколько частей. С точки зрения истории науки наибольший интерес из образовавшихся в тот момент государств представляет Египет. Там правила династия царей греческого происхождения, которую основал Птолемей I, один из главных военачальников армии Александра. Закончилась династия на Птолемее XV, сыне Клеопатры и (возможно) Юлия Цезаря. Последний из царствовавших Птолемеев был убит вскоре после поражения флота Антония и Клеопатры у мыса Акциум в 31 г. до н. э., после чего Египет был поглощен Римской империей.
Эпоху от Александра до битвы при Акциуме[44 - Это наименование я позаимствовал из ведущей современной работы по этому периоду: Alexander to Actium (University of California Press, Berkeley, 1990).] принято называть Эллинистическим периодом. Это понятие (в немецком языке – Hellenismus) было введено в употребление в 1830-х гг. Иоганном Гюставом Дройзеном. Не уверен, так ли задумал Дройзен, но, с моей точки зрения, по-английски слова с суффиксом «-ический» звучат как понятия с оттенком вторичности, в отличие от слов без него. Например, «архаический» используется для имитации чего-либо из эпохи архаики, и в этом отношении напрашивается мысль, что эллинистическая культура была вторична по отношению к культуре непосредственно Эллады, как если бы она лишь воспроизводила достижения Классического периода, длившегося с V по I в. до н. э. Эти достижения действительно были значительны, особенно в области геометрии, драматического искусства, историографии, архитектуры, скульптуры и, возможно, в иных областях искусства Классического периода, таких как музыка или живопись, которые не дошли до нашего времени. Но именно наука достигла в Эллинистический период таких высот, которые не только затмили научные успехи Классической эры, но и не были превзойдены вплоть до научной революции XVI–XVII вв.
Особенно важным центром науки эллинизма был город Александрия, столица династии Птолемеев, основанная самим Александром недалеко от устья Нила. Александрия стала крупнейшим городом в греческом мире, и даже потом, в Римской империи, уступая размером и роскошью лишь самому Риму.
Около 300 г. до н. э. Птолемей I основал Александрийский Мусейон – им стала часть царского дворца. Вначале Музей, названный так, потому что был посвящен девяти музам, был местом, где изучали литературу и языки. Но после восшествия на престол Птолемея II в 285 г. до н. э. он превратился также и в центр по изучению наук. Над литературой знатоки продолжали работать и в Музее, и в Александрийской библиотеке, но теперь в Музее муза астрономии Урания засияла ярче своих сестер, отвечающих за различные искусства. Музей и наука Древней Греции пережили падение династии Птолемеев, и, как мы увидим, некоторые наиболее значительные достижения в науке совершались в греческой половине Римской империи – в основном в Александрии.
Миграция интеллектуалов того времени между Египтом и греческой метрополией напоминала миграцию между Америкой и Европой в XX в.[45 - Я считаю, что это замечание первоначально принадлежало Джорджу Сартону.] Богатство Египта и щедрость по отношению к грамотным людям, по крайней мере первых трех правителей из династии Птолемеев, привлекали в Александрию уже прославившихся в Афинах ученых, точно так же как Америка притягивала к себе европейскую интеллигенцию начиная с 30-х годов XX в. и по сей день. Начиная с 300 г. до н. э. бывший участник афинского Ликея Деметрий Фалерский стал первым директором Музея, перевезя в него свою афинскую библиотеку. Примерно тогда же Птолемей I вызвал из Афин другого участника Ликея, Стратона из Лампсака, чтобы тот стал учителем его сына. Возможно, именно ему принадлежит заслуга в том, что Музей превратился в научный центр после того, как сын Птолемея унаследовал престол.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: