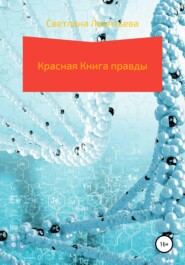По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Туатара всех переживёт
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ой, что за улица там у нас в Самаре, сплошное русофобство…чиновники не любят родину, если они так халатно относятся к жителям города! – Трие часто нас приглашала с Миленой на беседу на кухню. Это было воспитательным моментом. Трие разливала чай по «праздничным чашкам», давала нам по куску шарлотки из яблок и долго, тягуче рассказывала о том, как надо жить.
– И что у вас там с улицами происходит? – обычно спрашивала я, чтобы поддержать разговор. Милена помалкивала, она знала: одно не осторожное слово, и Трие не отпустит на прогулку.
– А то, что грязно. И асфальта нет. И лужи кругом. И фонарь не светит…вечером заходишь в подъезд, и пахнет затхлостью, какой-то капустой квашеной, гниющей картошкой. И всегда шприцы валяются по углам. А летом травой зарастает вся окрестность…
У Трие было морщинистое лицо, армянский нос, жилистые, толстые, крючковатые руки. Милена под старость стала такой же. Вылитая Трие. И фамилию Милена приняла мужа Клюкович. Сокращённо Клюква. Но я её всегда звала Бла-бла. Так было привычнее. Наверно, после первого Милениого предательства нам следовало бы раздружиться. Но я не могла так. Мне было невыносимо без Милены. Когда Клюкович-Бла-бла пыталась подружиться ещё с кем-то, то я её отчаянно ревновала. А ещё у Трие был муж. Я отчётливо помню его тучные ноги, разбухшие вены на икрах. У Милены точно такие же слоновьи ляжки. И когда она надевала трусы, выйдя из речки Старки, когда просила, чтобы я ей застегнула лифчик, сбрасывая мою кофту на песок, я обратила внимание: как Милена похожа на мужа Трие: пухлая, неуклюжая, в стоптанных тапочках. Но мне было всё равно: Милена моя подруга и точка. Я застегнула её растянутый трикотажный лифчик на спине: крючок был изогнут, но я ухитрилась и попала в петельку. Затем подняла мою кофту, небрежно брошенную Миленой, отряхнула от песка, вздохнула, понимая, что вечером придётся опять затеивать стирку. Но промолчала, я знала: Милена бережёт только своё. А чужое – оно и есть чужое.
Милена, а что ты хотела, когда писала про меня свои посты в соцсетях? Ты хотела отвадить меня от моего призвания? От любви к слову, к музыке, искусству? Ты хотела, чтобы я сожгла всё, что мной выстрадано? И зачем это:
– Этасвета украла у меня мой плач, смех, мои эмоции, моё возвышенное, моё кровное! Она украла плач у детей, у матерей, у вдов, у отцов. Она украла все плачи земли. Она украла мой Париж, мою Сену, мою церковь, мою вселенную. Она украла у Англии королеву Елизавету. Она украла аббатство. Она всё переиначила, подмяла под себя.
Иа тогда вдруг объявился случайно. Я поняла, что это Иа по его слогу, хотя он подписывался в соцсетях как-то смешно и неуклюже «Гога». Все слова были с маленькой буквы:
– Чё? украсть смех невозможно. это сказка про белого бычка. плач украсть? страдания? грезы? боли? само понятие «слово» не от человека идёт. из Библии.
– Этасвета – бескультурна, вульгарна, не начитана, плохо образована, она курит, пьёт, даёт кому попало, отжимает, как в девяностые, сама ничего придумать не может, пишет много и коряво, поёт безголосо, играет натужно, тырит и тузит, что плохо лежит.
Тогда Иа не выдержал и пригрозил:
– как была сволочью, так и осталась.
Я одна знала, зачем Милена так сделала. Ей нужны были деньги. Муж Ерёминой-Клюкович- Бла-бла зарабатывал мало, сыновья его – оба горькие пьяницы. Но я промолчала. Я видела однажды, как ей давал деньги редактор одного из провинциальных изданий. И я тогда поняла: дали за работу. И подумала: Милена продала меня. За семь тысяч рублей. Дешево же стоит жизнь моя! Или редактор скупой? Более меня в этом издании не публиковали.
Вообще, спор двух реакторов произошёл давно, лет восемь тому назад, я встала на защиту одного из них, из противоположного клана. И мне досталось по полной программе. Именно полной! Стопроцентной. А ведь я хотела справедливости…
Тогда я подумала: сама виновата. Подставилась. Но вера в лучшее, в светлое, в нечто высокое, как я привыкла, брала всегда вверх. Надо было быть циничнее, расчётливее…Милена…
Я тебе отдам все своё! Бери. Бери! Что ты хочешь?
– Хочешь, своё имущество на тебя перепишу – квартиру, дачу, машину?
– Хочу!
– Хочешь, мужа моего красивого, кудрявого, механика, техника, гайкоприкручивателя, водителя, шофёра, отца двоих моих детей, деда наших внуков? Моего благоверного, суженого Купидона? Ялика? Эрика медового? Саныча?
– Хочу.
– Хочешь сердце моё дам – поболеть, пострадать?
– Нет. Его не надо.
– А что ещё тебе дать третье? Обязательно надо третье! Чтобы три было. Троицу!
– Талант твой! Уж больно он золочёный. Хочу, чтобы не было у тебя его – дара твоего. Чтобы ты обезводилась, обезрыбилась, обеззверилась, чтобы пустошью стала. Землёй выжженной!
– А как это сделать, Милена? Как вырвать этот комок из груди моей, какими щипцами выщипать, какими ножами вырезать, какими топорами вырубить?
Я тогда схватила Милену за руку, и к реке повела её, чуть не волоком потащила, сильная я такая была от горя. Через Кремль. По аллее. И говорю, давай вместе с откоса, давай побежим, кто первый добежит до речки, тот и уходит в сторону. Я вот ещё шью, вяжу, вышиваю. Хочешь, картину тебе вышью гладью? Например, пруд или озеро? А рядом богато-богато город такой, купола, дома, лодки, корабли. И особенно вот тут в низине – пять домов тебе сочиню. Вышью!
– Нет. Мне талант твой нужен. Весь. Целиком!
– Так у тебя же свой есть. Ты же умеешь рифмовать, сказывать басни, рецензии писать-сочинять, ритмы укладывать, ямбом-хореем-амфибрахием!
– Хочу, чтобы ты отреклась. Насовсем. Чтобы по нулям. Чтобы ушла в забвение. Скрылась. Чтобы тебя не знали-не читали-не помнили. Хочу в клочья твои книги порвать. В пепел…
И полетел тогда пепел над крышами – серый такой, серебристый, хлопьями.
Люди думали манна небесная. Она на вкус как мох, сладкая, как рябина горькая, как можжевеловая ягода солоноватая. Ешь, Милена! Ты теперь одна у меня осталась. Одинёшенька. Пали их всех соперников твоих. Жги.
2.
А как же «Пятиязычный словарь»? А как же туатара, ей уже миллионы лет, она динозавров пережила. Ей-то за что?
Может, Милена, мне жизнь сменить ради тебя? Или стать не птицей, а ею – моей туатарой? Игуановой? Игуан – это не змея. И даже не ящерица. Тело у неё кукурузное, такое всё в зёрнышках жёлтых. Спина вся в оспинках, но на ощупь не пупырчатая, а прохладная и мягкая. Хочешь её погладить? Потрогать? Слегка пальцем поводить по её шее. По беззащитному позвоночнику, по лапам.
Трогай. Гладь.
И рыдай! Надеюсь этот плач реальный? Не тронутый никем, девственный плач твой, старчески-юношеский? Милена, а ты, вообще, дружить умела когда-нибудь?
Эти семь червонцев будут теперь нам поперёк горла? Нет, не бывать этому! Хоть сто раз повтори, что Этасвета – дрянь, стерва, сволочь, подёнка, продавщица арбузов, наглая бабёнка, но я не стану ею. Вот никак не помещусь, не влезу, как сова на глобус не натягивается, так и я во все тобой сказанные кликухи. На самом деле люди ко мне хорошо относятся. Ну, кроме пару-тройки людей, которых ты настроила против меня. И то – обе эти женщины у одной имя звучит, как Печенье, у второй, как Поп-корн, они тайно и тихо ко мне относятся положительно. Я с ними иногда перекидываюсь в личных сообщениях по незначительным темам. Милена, ты сама себя засосала в своё болото, сама погрузила. Давай, я тебя вытащу из него. Это же так просто!
Мальчику, посягнувшему на тебя, ну тому, который…на грязном полу в полуподвале, помнишь? Он разодрал твоё платье, ноги раздвинул твои, сорвав с тебя твои трикотажные пожелтевшие от стирки трусы, затем стянул с себя брюки. Ты рассказала мне эту страшную историю. И я молчала о ней почти сорок лет. И сейчас молчу. Единственно, кому я сказала об этой истории – моей бумаге. А она вдруг свернулась от печали, скрутилась в свиток, и я поняла, почему я написала слово «кому», а не «чему», бумага – живая! Мальчика звали Мимезис. А все его окликали Мемо в клубе. Но мы тогда снова поссорились с тобой. По какому-то пустячному поводу: Печенье и Поп-корн писали письма, а Иа сидел в тюрьме. Конечно, я могла сейчас написать иную историю: светлую и чистую. О большой дружбе. О женской, о дружбе, которой не бывает. Но она была. Есть и будет. Она – туатара, медленная, как ночная охота.
Я много раз пробовала с тобой помириться. Ну, давай, давай, выложи всю правду, как там было на самом-то деле? И про семь целковых своих червонных, зелёных, ядовитых, как плющ, не забудь…и про туатару. Она – по ветке ползёт, когтями цепляется, жука ищет. Но такая неповоротливая, неуклюжая, что с первого раза поймать не может, жук вырывается из её пасти. А ещё у туатары есть третий глаз! Вот он-то и есть главный. Основной. Карий. Коричневый. Шоколадный! Зри им!
И вот ты видишь – меня маленькую, брошенную, жалкую там, на высокой скале, прижимающуюся к отвесно растущей берёзе? Видишь, как мне плохо?
Давай помиримся уже, Милена! Не смеши людей! У них сердца – сахарные, мандариновые, желтки сердец жёлтые, птенячьи, как хохолок на хребте туатары.
Ну, кто же из них поверит сплетням твоим, сочинениям, выдумкам? Может, это паранойя? Весеннее обострение на всю оставшуюся жизнь. Мне не столько обидно, что ты придумываешь фейки, а то, что тебе плохо сейчас. Я готова сказать: да я такая-сякая, не щадила, прибила, не читала, не чтила, не говорила, только успокойся! Я готова всю вину взять на себя. Как ты там пишешь:
«У Этасветы рыжие, лживые волосы, на голове кокон из буклей, рот в помаде красной, что клюква, суетится она не по-детски. Чьи ты нашла строфы, строчки и буквы. Буквы мои все – сидишь в моём кресле. Останови, я замучилась плакать. Остановите сей бег, точно кони. Останови злой ты выхрип агоний. Кто мы у времени? Птицы да маки. Черви и звери. Закрой свои двери. Переплыви на «Титанике» время…»
Милена! Я согласна, что я – плохая. Ты – хорошая. Я чёрная, ты белая. Я злая, ты добрая. Я вода, ты огонь. Я никто, ты – всё. Меня звать никак, тебя как. Я – безродная, беспризорная, глупая, ты умная, с хорошей родословной, у тебя одни хорошие оценки.
Прости меня за то, что я такая. Но я не могу уйти с твоего пути. Я поклялась. Ещё тогда на речке, когда зашивала твоё разодранное в клочки платье. Когда бинтовала твои раны, когда прижигала зелёнкой твои ссадины, когда омывала твои ступни, когда острожно прикладывала пластырь к твоей лодыжке, когда смачивала Дзинтарсом твой лоб. Когда отдала тебе навсегда свою кофту, когда подарила свои мечты, когда рассказала о своём чувстве к Иа, когда капли нашей крови смешались в один большой круглый шарик, который постепенно затвердел и ссохся. Даже палец было больно отдирать, словно рвалась кожа. Что мне сделать, чтобы ты меня простила? Уйти, затаиться, не вспоминать тебя, забыть, вырвать куски памяти, перерезать бритвой все воспоминания? Что мне сделать, скажи?
– Умри! – написала Милена Ерёмина-Клюкович-Бла-бла.
– Тогда я стану травой, зёрнами, хлебом!
***
Вот он. Вот он мельничий жернов,
тугой, масленичный, из камня. Он – твердь.
Холодный снаружи, в насечках, лужёный,