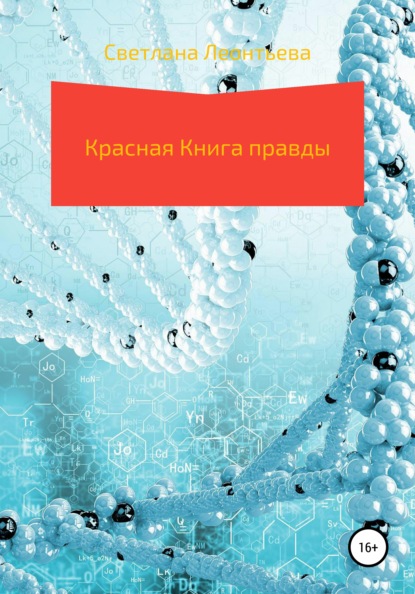По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Красная Книга правды
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В фойе продавались книги. Кузнецова Ю. П., Куняева С. Ю., Кожинова В. В.
Вообще, Вадим Валерьянович – самая загадочная фигура в этом круге. Худощавый. В очках. Седовласый.
– Ой, здравствуйте!
Молодая, самоуверенная, нахальная. С плазмой под стучащимся сердцем, вырывающимся из рёбер. Лихие девяностые позади, нулевые годы рядом, и мы в них, как внутри большой штольни. В одном вареве и большие, и маленькие. Люблю писателей-пророков. Хочу, чтобы мне сказали, что будет с нами через десять, двадцать, тридцать лет. Хочу жить долго, чтобы состариться по-настоящему, до худых сгорбленных плеч, свисающей кожи, коричневых глубоких морщин. Чтобы наступила мудрость. Чтобы, как Фадеев предсказать, что к нам в Россию будут засланы агенты влияния, чтобы как Леонов остаться в сказке перламутровой, чтобы как Юрий Бондарев отказаться от награды, чтобы понять: пророчества сбылись.
Я их сама раскопала в трудах В.В. Кожинова. Ой, да рудокопша, ой, да добывательница, ой, да этот самый сын!
«Огромное большинство написанных (и – тут уж ничего не поделаешь – еще не написанных, но долженствующих появиться на свет) стихотворений «не дотягивает» до искусства, прежде всего потому, что в них не создается художественная реальность, они не становятся творениями, а остаются зарифмованной речью, ритмизованным высказыванием, которое только внешне, благодаря своей, в сущности, искусственной ритмической оболочке, отличается от обыкновенного – пусть даже и интересного, умного, блестящего – письма, дневниковой заметки, рассуждения, публицистической статьи.»
В. В, КОЖИНОВ из книги «Как пишут стихи», которая была переиздана три раза, последний раз как раз двадцать лет тому назад.
У меня в руках букет февральских цветов, купленных на углу в киоске, возле метро Баррикадная. В голове ритм стихов: «Стены Плача, Стены Скорби, лабиринты –
к ним кидаюсь я на грудь. Шершавый камень
мне царапает ладони. Криком крик я,
из груди сегодня извлекаю.
Каждый Плач утешить! Здравствуй! Здравствуй!
Из себя исторгла сотню плачей.
Как утешить Ярославну? Застят
слезы мне глаза, гортань! В палачеств
как мне всех своё раздать бы тело?
Как утешить плачем сотни плачей,
как вложить в уста его шедевра?
Смерть предателям! Истёрла все коленки.
Я не предала. Но встану к стенке.
Не лгала, не крала, не жильдила.
Пусть с крылами – всё равно бескрыла,
пусть с любовью – всё равно не люба.
Не чужие, а свои погубят.
Милый, милый.
Незабвенный – завтра же забудет!
…Сиротою лучшими людьми я,
сиротой к настенным я поэтам.
Возникают рвы, валы, кюветы.
Не стена растёт – лоботомия.
Рассеченье мира. Больно. Бритвой.
Разрывают связи, связки, жилы.
Слышу крики: «на ножи, на вилы,
на ракеты, копья…»
Милый, милый…
Отчего опять сползу по стенке
и по всем, по этим Стенам Плача
по родным, безудержным, вселенским,
по бездонным, по бездомным, детским,
но в ответ –
не сдам ударом сдачу…»
Стихи не об этом, они о других днях, от других дней, до других дней. Но отчего-то сегодня отозвались проводом во мне оголённым.
Но надо что-то сказать по существу. По делу. Всё-таки литературная встреча. С писателем. Поэтому я поднимаюсь на сцену, дарю букет цветов. И молча ухожу. Именно молча, не разжав губ. Слово закатилось внутрь. Такое круглое, объёмное.
Часто размышляю над Сциллой. Вообще, по сути это цветок. Ярко-голубой, либо лиловый. Но на деле – Сцилла чудовище. Огромная шея, огонь из пасти. Харибда – водоворот трёхглавый. Вот так мне представляется жизнь человека пишущего, находящемся в своём круге добродетели, ибо даже критика – добродетель, хоть, бывает, и не лицеприятная. Вообще, приятной критики – мало, потому что конструктивная критика – она всегда между Сциллой и Харибдой. Но Кожинов по большей части – филолог. Раздумывающий о искусстве и литературе. Понимающий, что такое поэзия. Как факт. В своём труде – размышляющем, противопоставляющим настоящее искусство поддельному, Кожинов словно странствовал между Сциллой и Харибдой. Сама я не пытаюсь преодолеть этот барьер, можно много поведать, но услышанным быть довелось лишь Вадиму Валерьяновичу.
Есть стихи, приближающиеся к искусству. Есть околоискусные стихи. А есть само – искусство. В чистом виде. Много Кожинов размышляет о Баратынском, Сумарокове. Пушкине. Вознесенском.
Многие говорят: ему легко, Кожинов сам стихов не писал. Он их пел.
Может ли хороший критик быть одновременно поэтом? И как проза мешает поэту, как она выхолащивает из глубин вот то самое мягкое и розовое, что является сгустком для пророста зерна, из которого получится цветок. Как из колыбели семени вырастает тот самый человечий вид стиха? Сцепление музыки, чувства, ритмо-рифмического набора.
Иногда думаю, а возможно ли по публицистической книге поставить спектакль? Например, по книге В. В. Кожинова «Великая война России. Почему не победим русский народ?»
Думаю, что возможно, ибо это книга-песнь, книга-исток героизма. И как ружьё со стенки в первом акте звучит – русские сражаются за идею.
Много раз раздумывала, что есть такое – эта идея? Бескорыстная направленность, наполненная высочайшим смыслом.