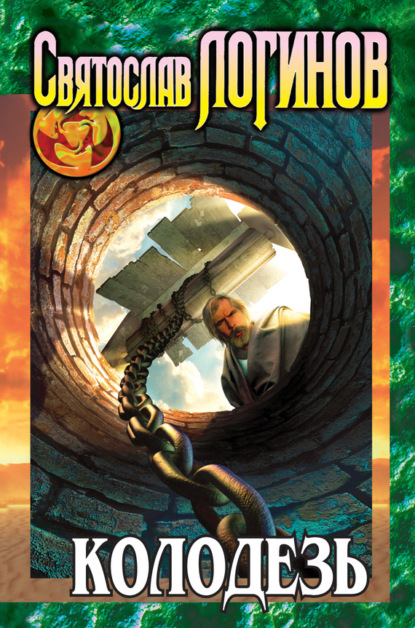По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Колодезь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тошнёхонько вселенскому патриарху стало и не зналось, чего ожидать.
* * *
Не весело думалось и Семёну. Вновь, в который уже раз, вышло так, что мечтал об одном, а получил вовсе иное. С отеческим благословением муки принимать сладко, а на миру и смерть красна. Тем более что за примером для подражания далеко ходить не придётся, и впрямь был рядом с Семёном человек, не желавший покоряться Аллаху.
Народ в школе огланов собрался разный, со всех краёв и весей. Далматинцы и болгары, поляки, грузины, православные абхазы, сербы и вовсе неведомые люди, доставшиеся султанскому войску от разбоя по всему миру. Из всех христиан только армян и венгров в янычарский полк не хватали. Одних за хитрость и пронырливось, а вторых за то, что народ они никчемный и, сколько их закону не учи, норовят бежать на родину и вернуться в христианскую веру. Воистину, не видящий прямого пути упорствует в заблуждениях!
Большинство огланов судьбу свою приняло и ждало перевода в булук, поскольку полноправного янычара начальство тяжкими работами не мучает. Языка своего почти никто не помнил или же притворялись, будто забыли. Аллаху молились истово, а чтобы выслужиться и поскорей получить тифтик из белоснежной ангорской шерсти, готовы были порешить кого угодно, и в первую руку бывших своих соплеменников.
Семён, горько жалевший, что его не сочли за никчёмного венгра, с товарищами дружбы не водил и во всём орте сошёлся с одним человеком, таким же случайным здесь, как и сам Семён. Звали нового приятеля Мартыном, и родом он был из Датской земли, которую господь в такую сторонушку закинул, что простой человек о той земле слыхом не слыхал и не вдруг поверит, что есть такая земля на свете.
Мартын турецкого говора не понимал, язык ему давался трудно, не то что Семёну, который себе на удивление всякую речь с лёту схватывал и говорить начинал прежде, чем сам о том догадывался. С датчанином Семён сидел вечерами, талдычил датские слова, а потом и просто беседовал, мешая датский и русский языки с турецким. Мартын рассказывал, что был мальчиком на корабле, по-ихнему – юнгой, а в плен попал к берберам возле Африки. Про Африку Семён уже слыхал, хотя и не верилось, что таковая земля на самом деле есть. Однако вот Мартын в Африке был.
Мартын Семёну крестик подарил нательный. Крест простой, не православный, однако по нужде и закону применение бывает – лучше с каким ни есть, но крестом. Семён осторожно выспрашивал знакомца и, выяснив, что римского попа Мартын не признаёт, называя злым еретиком и раскольником, успокоился. Что из того, что Мартын молитвы на своём языке читает, греки православные, как видим, тоже не по-русски молятся. Когда-то Семён тому дивовался, но потом рассудил, что не всем же по-русски разуметь, а бог всякую душу понимает. Так что зря Сёмка на грузин поклёп возводил – пусть их молятся, как умеют.
А в остальном датчанин был парень как парень – волосы льняные и нос в веснушках на манер кукушиного яйца. По деревне такой пройдёт – никто на него и не оглянется. Зато своей веры Мартын держался прочно. Из рассказов его выходило, что чуть не вся родня Мартынова пострадала от католического нечестия. На костёр люди шли, погибая в пламени, словно первые мученики от Нероновой руки. Когда Мартынка это рассказывал, то от волнения пунцовыми пятнами шёл и грозно морщил бесцветные бровки. Смешно было на такое смотреть и не больно верилось бы в датские байки, если бы Семён не видел, что Магометовых молитв Мартын не читает. Лицом закаменеет во время намаза и молчит. Мулла до поры терпит, поблажку даёт не знающему языка, но теперь вот велел всё строго выучить и день назначил, с которого будь ты хоть юрод сущеглупый, но молиться обязан в голос. Мартын, выслушав приказ, промолчал, но вечером сказал Семёну, что душа дороже.
– Не буду поганиться. Что они надо мной снасильничали, так в бою, бывает, отрубят воину руку, и креститься станет нечем, но греха в том нет никакого, вера хранит всех.
– Замучают тебя, – тревожно сказал Семён. – До смерти замучают.
– И слава богу, – по-русски ответил Мартын, улыбнувшись так, что веснушки с носа до самых ушей разъехались.
В пятницу, едва муэдзин, что петух на насесте, заголосил со своего минарета, мулла и коруджи вывели орт на улицу, построили во дворе на утреннюю молитву. С полувзгляда Семён увидел, что на этот раз во дворе не только свои теснятся, но и несколько ясакчи, пришедшие будто случайно, но палок из рук не выпустившие.
Мартын шёл, как всегда, в общей толпе, но нетрудно было приметить, что даже уши у парня светятся от гневной пунцовости. Значит, твёрдо решил Аллаху не молиться и султану не покорствовать.
Огланы шли нарядные и торжественные. Все были чисто вымыты, как велел Магомет. Коврики расстелили, опустились на колени. И тут Семён увидел, что Мартын стоит прямо, единственный среди коленопреклонённых, и коврик у него не расстелен, а брошен небрежно, словно какая тряпка.
Кто-то из ясакчи закричал, указывая на богохульника, однорукий Исмагил, придерживая высоченную шапку-кече, бросился меж рядами, мулла в ужасе вздел руки к небесам. Семёну не было слышно, ни что пролаял однорукий, ни что ответил Мартын, видел лишь, как датчанин смачно плюнул на коврик, а потом не то откинул его ногой, не то просто растёр подошвой башмака собственную харкотину. Прочее потонуло в криках, визге и яростной суматохе. Во мгновение ока богохульник был скручен и стащен в зиндан. А дозволь Исмагил, так и вовсе растерзали бы огланы бывшего товарища голыми руками. Помяни, господи, царя Давыда и всю кротость его.
* * *
Всякий знает, никто не смеет казнить живую душу, если нет приговора согласно шариату. Но уж когда закон говорит: «Смерть…»
У самых стен монастыря, там, где начиналось талимхане, вкопали в тяжёлую каменистую землю оточенный столб. Так казнят турки великих преступников. За малые провинности – вспарывают животы или, завязавши в мешок, мечут в воду. Опальным бекам султан повелевает самим удавиться на присланном в подарок снурке. А великим преступникам написана смерть на колу. Пронырливый турецкий ум и здесь отыскал предлог для чиноразделения. Колья бывают тонкими, а бывают и огромными, с целое бревно. Поначалу на тонкий кол глядеть страшнее – заострённую жердь молотом вбивают в неудобьсказуемое место, затем воздвигают жертву на всеобщее обозрение. Крик в ту минуту стоит такой, что уши закладывает. Но пройдёт час, много – два, заточенное жало проходит вглубь, раздирая чрево, и то, что прежде было человеком, обвисает, пробитое острым деревом, а через день, особенно если стоит жара, остриё успевает пронзить тело насквозь и выпирает почернелым концом из развороченного горла. Ничего не скажешь – лёгкая смерть, быстрая и милосердная.
Совсем иное, ежели заплечных дел мастера вкапывают в землю толстый столб. Тут, сколь ни будь душа зачерствелой, а содрогнётся при виде людского зверства. Страшный клин не рвёт, а раскалывает тело, иной раз три, а то и четыре дня пройдёт, прежде чем рассядутся кости, разорвутся связки и мученику позволено будет умереть. Христу на распятии висеть куда способней было. Пригвозди страху твоему плоти моя, от судеб бо твоих убояхся.
Поначалу Мартын крепился, не желал ронять веру перед погаными. Молился в голос, пел псалмы:
Херр, хёр ин ретфердиг саг
Лют, тиль мин клаг…
Через четверть часа молитвы сменились стонами, криком, звериным воем, и уже не господа звал Мартынка, а родимую мутер… плакал, помощи просил, молил о пощаде.
– О чём он орёт? – злорадно любопытствовали огланы, знавшие, что Семён разбирает Мартынову речь.
– Христу молится, – упорно врал Семён, – а Магомета проклинает отныне и во веки веков.
От таких слов ёжились бывшие христиане и спешили отойти туда, где не так слышны богохульные крики.
К ночи крик затих, сменился хрипом и глухой икотой, но и утром воскресного дня Мартынка был жив. Уже не кричал и не стонал, лишь судорога подёргивала разодранное тело, и слёзы текли по лиловому от боли лицу.
В воскресенье после молитвы огланы, как всегда, отправлялись на стрельбище. С утра каждый получил мушкет, кисет с порохом, круглые пули из вязкого свинца. Вокруг правой руки обмотал фитиль на тот случай, если откажет кремнёвый курок. В бою кремень менять не станешь, а без фитиля и вовсе пропадёшь. Строем прошли мимо казнимого Мартына. Каждый косил глазом в сторону столба. Малолетние кулоглу скакали вокруг, корчились, передразнивая судороги умирающего, пальцами указывали на сползающую по дереву кровавую слизь, кричали:
– Обосрался, гяур!
Увидав огланов, пацанва бросила изгаляться над Мартыном, побежала вслед войску, предвкушая радость от пальбы и надеясь набрать побольше свинца от пуль, не попавших в цель. Исмагил шуганул мальцов – им только позволь, так они прямо под пули полезут.
Сегодня будущие янычары палили в бегучую мишень. Сколоченную из досок фигуру джелями, в халате и высоком колпаке, ставили на тележку и пускали с пригорка. Надо было, пока тележка катится, пулей сбить фигуру. Расстояние до пригорка было отмерено изрядное – десятая часть пешего акче. В такую даль, ежели пыж неплотно заколотишь, то и пуля не вдруг достанет. Палили трижды. Кто первый раз промахнётся, должен пройти ближе на сорок шагов и снова палить. Так до трёх раз. Кто не мог попасть и на третий раз, того учитель Исмагил наказывал, говоря, что это уже не огненный бой, а перевод казённого зелья.
Обычно Семён сносил деревянного бунтовщика с первого выстрела, несмотря ни на ветер, ни на рытвины, на которых подпрыгивала тележка. Но сегодня то ли думалось о другом, то ли руки дрожали, но пуля ушла в никуда, позволив джелями съехать с горы.
– Плохо, Шамон, – произнёс Исмагил, кивком указывая Семёну, чтобы отсчитывал сорок шагов вперёд. – Целься лучше. Стрелять в воздух большой доблести не надо.
Семён прошёл ближе, снарядил ружьё, установил на подпоре. Тележка понеслась с горы, грубо сколоченный джелями подпрыгивал на ходу. А видать крепко насолил султану этот самый Джелями, если и через сто лет после смерти солдат приучают стрелять в его изображение.
Ружейная пуля быстрей стрелы, но и ей нужно упреждение, а то, пока пуля летит, цель успеет отъехать с её пути. Теперь – пора. Семён чуть вздёрнул ружейное дуло, и заряд ушёл в небо.
– Очень плохо, Шамон, – произнёс Исмагил ибн Рашид.
Семён молча перешёл на новую позицию. Отсюда ему был виден не только пригорок, на вершине которого коруджи снаряжали тележку, но и стены монастыря, ворота и страшный монумент, поставленный в честь кровавого мусульманского бога.
Тележка помчала вниз… Пора! Грохнул выстрел. Джелями, кивая головой, беспрепятственно катил по склону, а круглый свинец, пролетев едва ли не четверть акче, ударил в грудь ещё дышащему Мартыну. Последний раз вздрогнуло изувеченное тело, и свободная Мартынова душа унеслась в строгий лютеранский рай.
Исмагил, стоявший в десятке шагов позади, подошёл к Семёну, долго молчал, глядя под ноги. Потом произнёс:
– Ты лучший стрелок из всех, кого я учил. Скажешь ясакчи, что я велел дать тебе сорок палок.
Обычно за плохую стрельбу полагалось наказание вдвое меньшее.
* * *
Непосильный подвиг взвалил на Семёновы плечи святейший патриарх. Статочное ли дело – веру в душе хранить твёрдо, но даже креста на лоб положить не сметь. Что же это за вера, без креста и молитвы? Но с другой стороны, страшный пример Мартына тоже стоял перед глазами. Честно человек умер, малым не поступившись из того, что исповедовал. Что до слёз и жалостного крика, так это плоть немощная вопила. Кто мученика за стон осудит, пусть сам попробует на колу посидеть. И всё-таки ужас поселился в душе, и Семён ревностно исполнял волю святейшего, хоть и понимал в глубине души, что поступает так не для спасения души, а страха ради человечьего.
Бежать тоже больше не мечтал. Куда ты из Стамбула убежишь? Турки народ лютый, а греки и иной христианский люд, которого ещё немало оставалось в Анатолии, так Магометом припугнуты, что вперёд ясакчи побегут хватать беглеца. Ну да что их винить, ежели сам патриарх трясётся, как овечий хвост? Скорей бы стать настоящим янычаром и, получив ружьё, ятаган и кече с белым верхом, отправиться на войну. Лучше всего попасть в Валахию, оттуда, говорят, в Россию прямая дорога, да и Валашский господарь чать не кафолин, а православный вождь и за веру крепко стоит. Недаром турки с таким страхом поминают славное имя князя Дракулы.
Больше всего Семён опасался попасть в ясакчи. Ясакчи средь янычар за отребье считаются, хотя многие были бы не прочь устроиться на этакую позорную должность. Вместо ружья у ясакчи палка, и он не с врагом бьётся за правую веру, а по базару ходит, надзирая за торговлей, вроде как хожалые на Руси. Конечно, ясакчи и погибают реже, и кормят их гуще, но Семёну этого было не надо. А то зашлют куда-нибудь в Сирию – что тогда?
Потому и старался Семён все пять лет, которые промаялся на военной учёбе. И ружьецом владел, и саблей, и на коне мог, хотя янычары – войско пешее. Даже как пушку направить и бабахнуть чугунным ядром – и то знал. Случись что на войне с отрядом пушкарей, Исмагиловы выкормыши погибших топчи заменят, а Семёна хоть на место топчи-аги ставь.
Наконец дождались. Бывшие бостанжи получили по отрезу ткани, пряденной из козьего пуха, подшили к шапкам тифтики – для красы и сбережения шеи от сабельного удара – и отправились на службу. Перед выходом побывали стройной толпой в большой мечети Отра-джами, что у янычар вроде полковой церкви, помолились напоследок Аллаху, деведжи навьючили на верблюдов всякий припас и имущество, и поход начался. Куда двинулось войско, никто Семёну не сказал. Одно ясно – врагов бить. Оружия до времени выдано не было, казённые ружья и ятаганы молодым янычарам перед самым боем выдают. У ветеранов, ясное дело, весь приклад свой, добытый в сражениях или купленный, старики всегда при оружии ходят. А новичкам только и есть радости, что белый галун.
На второй день похода Семён забеспокоился. Солнце вставало по левую руку, а это значит, что отряд идёт на полудень. С кем там сражаться – в жарких странах? Там и христиан-то нет… неужто возлюбленный сын пророка Африку вздумал повоевать?
Потом сказали: началась война с португальским королём, посему султан осадил город Маскат, славный на весь мир дорогими белыми верблюдами и сладким вином. Лет тому сто сорок пришлые католики оттягали город у арабов, а теперь вот положил на эти места державный глаз султан Мухаммад Четвёртый, да будет доволен им Аллах.
Шли к месту войны ровным счётом тринадцать недель. Пешее войско неторопливо, верблюды шагают важно, но неспешно, выносливые мулы, волокущие артиллерию, тоже резвостью не отличаются. На берегах рек войско останавливалось, долго наводило переправу, а надзирающие за скотом деведжи кормили тягловых животных. Когда шли через Сирийскую пустыню – останавливались у биркетов, сначала поили людей, потом скот, оставляя колодец столь загаженным, что, кажется, никто уже из него пить не решится. Однако бывалые утверждали, что через недельку помёт и иная нечистота, оказавшиеся на берегу, – высохнут в пыль, а попавшие в воду – осядут на дно, и новые путешественники, приползшие к биркету, будут сначала пить сами, набирать воду в бурдюки, а потом допустят к водопою животину, и всё, по воле Аллаха, повторится заново.
* * *
Не весело думалось и Семёну. Вновь, в который уже раз, вышло так, что мечтал об одном, а получил вовсе иное. С отеческим благословением муки принимать сладко, а на миру и смерть красна. Тем более что за примером для подражания далеко ходить не придётся, и впрямь был рядом с Семёном человек, не желавший покоряться Аллаху.
Народ в школе огланов собрался разный, со всех краёв и весей. Далматинцы и болгары, поляки, грузины, православные абхазы, сербы и вовсе неведомые люди, доставшиеся султанскому войску от разбоя по всему миру. Из всех христиан только армян и венгров в янычарский полк не хватали. Одних за хитрость и пронырливось, а вторых за то, что народ они никчемный и, сколько их закону не учи, норовят бежать на родину и вернуться в христианскую веру. Воистину, не видящий прямого пути упорствует в заблуждениях!
Большинство огланов судьбу свою приняло и ждало перевода в булук, поскольку полноправного янычара начальство тяжкими работами не мучает. Языка своего почти никто не помнил или же притворялись, будто забыли. Аллаху молились истово, а чтобы выслужиться и поскорей получить тифтик из белоснежной ангорской шерсти, готовы были порешить кого угодно, и в первую руку бывших своих соплеменников.
Семён, горько жалевший, что его не сочли за никчёмного венгра, с товарищами дружбы не водил и во всём орте сошёлся с одним человеком, таким же случайным здесь, как и сам Семён. Звали нового приятеля Мартыном, и родом он был из Датской земли, которую господь в такую сторонушку закинул, что простой человек о той земле слыхом не слыхал и не вдруг поверит, что есть такая земля на свете.
Мартын турецкого говора не понимал, язык ему давался трудно, не то что Семёну, который себе на удивление всякую речь с лёту схватывал и говорить начинал прежде, чем сам о том догадывался. С датчанином Семён сидел вечерами, талдычил датские слова, а потом и просто беседовал, мешая датский и русский языки с турецким. Мартын рассказывал, что был мальчиком на корабле, по-ихнему – юнгой, а в плен попал к берберам возле Африки. Про Африку Семён уже слыхал, хотя и не верилось, что таковая земля на самом деле есть. Однако вот Мартын в Африке был.
Мартын Семёну крестик подарил нательный. Крест простой, не православный, однако по нужде и закону применение бывает – лучше с каким ни есть, но крестом. Семён осторожно выспрашивал знакомца и, выяснив, что римского попа Мартын не признаёт, называя злым еретиком и раскольником, успокоился. Что из того, что Мартын молитвы на своём языке читает, греки православные, как видим, тоже не по-русски молятся. Когда-то Семён тому дивовался, но потом рассудил, что не всем же по-русски разуметь, а бог всякую душу понимает. Так что зря Сёмка на грузин поклёп возводил – пусть их молятся, как умеют.
А в остальном датчанин был парень как парень – волосы льняные и нос в веснушках на манер кукушиного яйца. По деревне такой пройдёт – никто на него и не оглянется. Зато своей веры Мартын держался прочно. Из рассказов его выходило, что чуть не вся родня Мартынова пострадала от католического нечестия. На костёр люди шли, погибая в пламени, словно первые мученики от Нероновой руки. Когда Мартынка это рассказывал, то от волнения пунцовыми пятнами шёл и грозно морщил бесцветные бровки. Смешно было на такое смотреть и не больно верилось бы в датские байки, если бы Семён не видел, что Магометовых молитв Мартын не читает. Лицом закаменеет во время намаза и молчит. Мулла до поры терпит, поблажку даёт не знающему языка, но теперь вот велел всё строго выучить и день назначил, с которого будь ты хоть юрод сущеглупый, но молиться обязан в голос. Мартын, выслушав приказ, промолчал, но вечером сказал Семёну, что душа дороже.
– Не буду поганиться. Что они надо мной снасильничали, так в бою, бывает, отрубят воину руку, и креститься станет нечем, но греха в том нет никакого, вера хранит всех.
– Замучают тебя, – тревожно сказал Семён. – До смерти замучают.
– И слава богу, – по-русски ответил Мартын, улыбнувшись так, что веснушки с носа до самых ушей разъехались.
В пятницу, едва муэдзин, что петух на насесте, заголосил со своего минарета, мулла и коруджи вывели орт на улицу, построили во дворе на утреннюю молитву. С полувзгляда Семён увидел, что на этот раз во дворе не только свои теснятся, но и несколько ясакчи, пришедшие будто случайно, но палок из рук не выпустившие.
Мартын шёл, как всегда, в общей толпе, но нетрудно было приметить, что даже уши у парня светятся от гневной пунцовости. Значит, твёрдо решил Аллаху не молиться и султану не покорствовать.
Огланы шли нарядные и торжественные. Все были чисто вымыты, как велел Магомет. Коврики расстелили, опустились на колени. И тут Семён увидел, что Мартын стоит прямо, единственный среди коленопреклонённых, и коврик у него не расстелен, а брошен небрежно, словно какая тряпка.
Кто-то из ясакчи закричал, указывая на богохульника, однорукий Исмагил, придерживая высоченную шапку-кече, бросился меж рядами, мулла в ужасе вздел руки к небесам. Семёну не было слышно, ни что пролаял однорукий, ни что ответил Мартын, видел лишь, как датчанин смачно плюнул на коврик, а потом не то откинул его ногой, не то просто растёр подошвой башмака собственную харкотину. Прочее потонуло в криках, визге и яростной суматохе. Во мгновение ока богохульник был скручен и стащен в зиндан. А дозволь Исмагил, так и вовсе растерзали бы огланы бывшего товарища голыми руками. Помяни, господи, царя Давыда и всю кротость его.
* * *
Всякий знает, никто не смеет казнить живую душу, если нет приговора согласно шариату. Но уж когда закон говорит: «Смерть…»
У самых стен монастыря, там, где начиналось талимхане, вкопали в тяжёлую каменистую землю оточенный столб. Так казнят турки великих преступников. За малые провинности – вспарывают животы или, завязавши в мешок, мечут в воду. Опальным бекам султан повелевает самим удавиться на присланном в подарок снурке. А великим преступникам написана смерть на колу. Пронырливый турецкий ум и здесь отыскал предлог для чиноразделения. Колья бывают тонкими, а бывают и огромными, с целое бревно. Поначалу на тонкий кол глядеть страшнее – заострённую жердь молотом вбивают в неудобьсказуемое место, затем воздвигают жертву на всеобщее обозрение. Крик в ту минуту стоит такой, что уши закладывает. Но пройдёт час, много – два, заточенное жало проходит вглубь, раздирая чрево, и то, что прежде было человеком, обвисает, пробитое острым деревом, а через день, особенно если стоит жара, остриё успевает пронзить тело насквозь и выпирает почернелым концом из развороченного горла. Ничего не скажешь – лёгкая смерть, быстрая и милосердная.
Совсем иное, ежели заплечных дел мастера вкапывают в землю толстый столб. Тут, сколь ни будь душа зачерствелой, а содрогнётся при виде людского зверства. Страшный клин не рвёт, а раскалывает тело, иной раз три, а то и четыре дня пройдёт, прежде чем рассядутся кости, разорвутся связки и мученику позволено будет умереть. Христу на распятии висеть куда способней было. Пригвозди страху твоему плоти моя, от судеб бо твоих убояхся.
Поначалу Мартын крепился, не желал ронять веру перед погаными. Молился в голос, пел псалмы:
Херр, хёр ин ретфердиг саг
Лют, тиль мин клаг…
Через четверть часа молитвы сменились стонами, криком, звериным воем, и уже не господа звал Мартынка, а родимую мутер… плакал, помощи просил, молил о пощаде.
– О чём он орёт? – злорадно любопытствовали огланы, знавшие, что Семён разбирает Мартынову речь.
– Христу молится, – упорно врал Семён, – а Магомета проклинает отныне и во веки веков.
От таких слов ёжились бывшие христиане и спешили отойти туда, где не так слышны богохульные крики.
К ночи крик затих, сменился хрипом и глухой икотой, но и утром воскресного дня Мартынка был жив. Уже не кричал и не стонал, лишь судорога подёргивала разодранное тело, и слёзы текли по лиловому от боли лицу.
В воскресенье после молитвы огланы, как всегда, отправлялись на стрельбище. С утра каждый получил мушкет, кисет с порохом, круглые пули из вязкого свинца. Вокруг правой руки обмотал фитиль на тот случай, если откажет кремнёвый курок. В бою кремень менять не станешь, а без фитиля и вовсе пропадёшь. Строем прошли мимо казнимого Мартына. Каждый косил глазом в сторону столба. Малолетние кулоглу скакали вокруг, корчились, передразнивая судороги умирающего, пальцами указывали на сползающую по дереву кровавую слизь, кричали:
– Обосрался, гяур!
Увидав огланов, пацанва бросила изгаляться над Мартыном, побежала вслед войску, предвкушая радость от пальбы и надеясь набрать побольше свинца от пуль, не попавших в цель. Исмагил шуганул мальцов – им только позволь, так они прямо под пули полезут.
Сегодня будущие янычары палили в бегучую мишень. Сколоченную из досок фигуру джелями, в халате и высоком колпаке, ставили на тележку и пускали с пригорка. Надо было, пока тележка катится, пулей сбить фигуру. Расстояние до пригорка было отмерено изрядное – десятая часть пешего акче. В такую даль, ежели пыж неплотно заколотишь, то и пуля не вдруг достанет. Палили трижды. Кто первый раз промахнётся, должен пройти ближе на сорок шагов и снова палить. Так до трёх раз. Кто не мог попасть и на третий раз, того учитель Исмагил наказывал, говоря, что это уже не огненный бой, а перевод казённого зелья.
Обычно Семён сносил деревянного бунтовщика с первого выстрела, несмотря ни на ветер, ни на рытвины, на которых подпрыгивала тележка. Но сегодня то ли думалось о другом, то ли руки дрожали, но пуля ушла в никуда, позволив джелями съехать с горы.
– Плохо, Шамон, – произнёс Исмагил, кивком указывая Семёну, чтобы отсчитывал сорок шагов вперёд. – Целься лучше. Стрелять в воздух большой доблести не надо.
Семён прошёл ближе, снарядил ружьё, установил на подпоре. Тележка понеслась с горы, грубо сколоченный джелями подпрыгивал на ходу. А видать крепко насолил султану этот самый Джелями, если и через сто лет после смерти солдат приучают стрелять в его изображение.
Ружейная пуля быстрей стрелы, но и ей нужно упреждение, а то, пока пуля летит, цель успеет отъехать с её пути. Теперь – пора. Семён чуть вздёрнул ружейное дуло, и заряд ушёл в небо.
– Очень плохо, Шамон, – произнёс Исмагил ибн Рашид.
Семён молча перешёл на новую позицию. Отсюда ему был виден не только пригорок, на вершине которого коруджи снаряжали тележку, но и стены монастыря, ворота и страшный монумент, поставленный в честь кровавого мусульманского бога.
Тележка помчала вниз… Пора! Грохнул выстрел. Джелями, кивая головой, беспрепятственно катил по склону, а круглый свинец, пролетев едва ли не четверть акче, ударил в грудь ещё дышащему Мартыну. Последний раз вздрогнуло изувеченное тело, и свободная Мартынова душа унеслась в строгий лютеранский рай.
Исмагил, стоявший в десятке шагов позади, подошёл к Семёну, долго молчал, глядя под ноги. Потом произнёс:
– Ты лучший стрелок из всех, кого я учил. Скажешь ясакчи, что я велел дать тебе сорок палок.
Обычно за плохую стрельбу полагалось наказание вдвое меньшее.
* * *
Непосильный подвиг взвалил на Семёновы плечи святейший патриарх. Статочное ли дело – веру в душе хранить твёрдо, но даже креста на лоб положить не сметь. Что же это за вера, без креста и молитвы? Но с другой стороны, страшный пример Мартына тоже стоял перед глазами. Честно человек умер, малым не поступившись из того, что исповедовал. Что до слёз и жалостного крика, так это плоть немощная вопила. Кто мученика за стон осудит, пусть сам попробует на колу посидеть. И всё-таки ужас поселился в душе, и Семён ревностно исполнял волю святейшего, хоть и понимал в глубине души, что поступает так не для спасения души, а страха ради человечьего.
Бежать тоже больше не мечтал. Куда ты из Стамбула убежишь? Турки народ лютый, а греки и иной христианский люд, которого ещё немало оставалось в Анатолии, так Магометом припугнуты, что вперёд ясакчи побегут хватать беглеца. Ну да что их винить, ежели сам патриарх трясётся, как овечий хвост? Скорей бы стать настоящим янычаром и, получив ружьё, ятаган и кече с белым верхом, отправиться на войну. Лучше всего попасть в Валахию, оттуда, говорят, в Россию прямая дорога, да и Валашский господарь чать не кафолин, а православный вождь и за веру крепко стоит. Недаром турки с таким страхом поминают славное имя князя Дракулы.
Больше всего Семён опасался попасть в ясакчи. Ясакчи средь янычар за отребье считаются, хотя многие были бы не прочь устроиться на этакую позорную должность. Вместо ружья у ясакчи палка, и он не с врагом бьётся за правую веру, а по базару ходит, надзирая за торговлей, вроде как хожалые на Руси. Конечно, ясакчи и погибают реже, и кормят их гуще, но Семёну этого было не надо. А то зашлют куда-нибудь в Сирию – что тогда?
Потому и старался Семён все пять лет, которые промаялся на военной учёбе. И ружьецом владел, и саблей, и на коне мог, хотя янычары – войско пешее. Даже как пушку направить и бабахнуть чугунным ядром – и то знал. Случись что на войне с отрядом пушкарей, Исмагиловы выкормыши погибших топчи заменят, а Семёна хоть на место топчи-аги ставь.
Наконец дождались. Бывшие бостанжи получили по отрезу ткани, пряденной из козьего пуха, подшили к шапкам тифтики – для красы и сбережения шеи от сабельного удара – и отправились на службу. Перед выходом побывали стройной толпой в большой мечети Отра-джами, что у янычар вроде полковой церкви, помолились напоследок Аллаху, деведжи навьючили на верблюдов всякий припас и имущество, и поход начался. Куда двинулось войско, никто Семёну не сказал. Одно ясно – врагов бить. Оружия до времени выдано не было, казённые ружья и ятаганы молодым янычарам перед самым боем выдают. У ветеранов, ясное дело, весь приклад свой, добытый в сражениях или купленный, старики всегда при оружии ходят. А новичкам только и есть радости, что белый галун.
На второй день похода Семён забеспокоился. Солнце вставало по левую руку, а это значит, что отряд идёт на полудень. С кем там сражаться – в жарких странах? Там и христиан-то нет… неужто возлюбленный сын пророка Африку вздумал повоевать?
Потом сказали: началась война с португальским королём, посему султан осадил город Маскат, славный на весь мир дорогими белыми верблюдами и сладким вином. Лет тому сто сорок пришлые католики оттягали город у арабов, а теперь вот положил на эти места державный глаз султан Мухаммад Четвёртый, да будет доволен им Аллах.
Шли к месту войны ровным счётом тринадцать недель. Пешее войско неторопливо, верблюды шагают важно, но неспешно, выносливые мулы, волокущие артиллерию, тоже резвостью не отличаются. На берегах рек войско останавливалось, долго наводило переправу, а надзирающие за скотом деведжи кормили тягловых животных. Когда шли через Сирийскую пустыню – останавливались у биркетов, сначала поили людей, потом скот, оставляя колодец столь загаженным, что, кажется, никто уже из него пить не решится. Однако бывалые утверждали, что через недельку помёт и иная нечистота, оказавшиеся на берегу, – высохнут в пыль, а попавшие в воду – осядут на дно, и новые путешественники, приползшие к биркету, будут сначала пить сами, набирать воду в бурдюки, а потом допустят к водопою животину, и всё, по воле Аллаха, повторится заново.