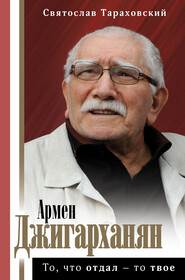По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Занятие для идиотов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Однажды дорожники, клавшие дорогу под Ржевом – нет на земле гаже дорог, господа, чем в Тверской области! – прикатили и раскинули вагончики на лесном кордоне, на опушке рослого шумного бора; огляделись и удивились, когда заметили, что неподалеку наполовину укрытый лапами сосен существует бревенчатый дом лесника.
Сам вышедший к ним с интересом лесник Андрей Андреич оказался мужиком без возраста, невысоким, немногословным и крепким, из тех немногих оставшихся русских, что живут только ради дела и за это дело болеют душой. Лицом он был обыкновенен, но его глаза, зеленые и глубокие, странным образом притягивали и отталкивали одновременно, смотреть в них Кириллу было жутковато, не смотреть невозможно.
Инженер и хранитель леса проявили друг к другу ненавязчивое, но взаимное уважение, и наконец настал день, когда Андреич, постучав ему в вагончик суковатой палкой, зазвал инженера по грибы.
Чудо, чудо, мистика – никакой мистики! Не согласись Натапов, отвяжись он от этих грибов, не треснула бы по швам и не скроилась бы по-новому его прежняя, нормальная, почти удачная жизнь – но он согласился, взял полиэтиленовый пакет с логотипом «Седьмой континент» и, не чуя беды, побрел следом за Андреичем.
Занятно вел себя лесник в бору: ноги на мягкую, в сосновых иглах землю ставил бережно, со знанием и разбором. Замирая возле деревьев, прилаживал к ним ладонь и через нее, будто через проводник, вслушивался в какие-то неведомые дальние звуки леса. Шевелил темными губами и улыбался, по-видимому, от того, что звуки эти слышал и смысл их разбирал. «А не трехнутый ли наш зеленоглазый? Или мне показалось?» – засомневался Натапов, но тотчас, заметив еще одну странность, совсем притих.
Они с Андреичем продирались сквозь густой орешник, как вдруг, вытянув в их сторону ветки, словно длинные руки, кустарник шелком листвы погладил лесника, а потом и его, Натапова, по лицу. «Что за черт?» – удивился Натапов, не бывает же так, чтобы лес ласкал человека?! Не бывает. Показалось, успокоил себя Натапов, примерещилось, привиделось, причудилось, но тут лес приветственно загудел, зашумел, захлопал, и с радостным выкриком, указывая путь, взлетела над их головами крупная серая, в крапинках птица.
От страха и восторга Натапов разом вспотел. Показалось, прошептал он себе, причудилось-привиделось, но не в этом же дело, а в том, в том… Он не сразу смог сформулировать, в чем, а потом сиреневой вспышкой сверкнуло в мозгу прозрение, и понял: да ведь это готовое кино! Кино про мыслящий лес, про то, что причудилось – не причудилось, про странного лесника и его зеленые завораживающие глаза. Кино о прекрасном, таинственном и высоком, кино, которое любят, кино, которого так не хватает. Мать моя! Да ведь это кино, которое в меня вернулось, сообразил Натапов. Вернулось, ожило, требует воли и воплощения.
Что делать?
Вскинуть кинокамеру, снять прямо сейчас было бы здорово, но он не сможет: нет камеры. Есть мобильник и в нем ограниченный видак, но разве снимешь на него полноценное кино или сериал? Не снимешь, не формат, и не умеешь, – утихомирил себя Натапов.
Зарисовать с лесника и леса эскизы для будущего фильма можно, но и это особого смысла не имеет, потому что на всех рисунках Андреич выйдет похожим на помесь табуретки с мусорным бачком. «Не берись, – определил для себя Натапов, – насмешишь, как на экзамене во ВГИКе…»
Запомнить Андреича таким, каков он есть, влезть в его характер и душу, перенять привычки, достоинства, и обязательно чтоб получился живым, недостатки, а потом полноценно сыграть лесного человека на сцене или в кино – можно! Только где его играть? на какой сцене? в каком кино? И кто его будет играть? Он, Натапов? Он, комик, пожалуй, сыграет, как же…
Идеи мгновенно прокрутились в быстрой натаповской голове и одна за другой были отброшены как абортивные.
Осталась единственная – неколебимая и железная киношная идея: сценарий. Ах, если бы он смог написать об Андреиче хороший сценарий, то сохранил бы лесника для вечности и, что неплохо, прославил бы себя! Потому что, догадывался Натапов, на хороший сценарий сделает стойку хороший продюсер, который притянет хорошего режиссера; на хороший сценарий и хорошего режиссера клюнут хороший оператор, хороший художник, хороший композитор и т. д. и т. п., и хорошие артисты тоже набегут ватагой; в результате будет снято хорошее кино. Но как написать хороший сценарий, если не знаешь толком, что это такое, как он пишется вообще? Не получится.
Они притащили много грибов, головастых душистых белых. Жена лесничего Валентина, добрая, но неразговорчивая и сухая, будто жердь, добавив в них лука и масла, смастерила огромную сковороду грибной жарехи, подтащила из погреба соленых огурцов и выставила на щербатый дощатый стол буханку черного и бутылку водки. Получилось не пьянство – вкуснейшая простая еда, распахнувшая души к разговору; застолье началось в обед, закончилось к включению звезд на небесном своде.
– Есть в жизни Непознанное, но нет Непознаваемого, – сформулировал тезис Андреич и поразил Натапова, можно сказать, потряс.
Житель заскорузлого тверского угла не верил в Бога, но всерьез интересовался проблемами Галактики, миллиардами лет, которые остались ей до финальной катастрофы, переселением человечества на другие экопланеты и невиданными скоростями, которые потребуются для этого новым поколениям. «Боже ты мой!» – только и вскрикивал про себя от изумления Натапов. Сидевший напротив зеленоглазый мужик в удовольствие рассуждал о проблемах, в которых столичный инженер Натапов беспомощно плавал; в эти минуты Кирилл завидовал верующим: им было легче, все вопросы для них открывались и закрывались Боженькой и Боженькиным словом, Натапов же, ставивший разум и понимание превыше всего, краснел от незнания – и перед кем?!
«Перед кем?» – переспросил он себя и себе же, интеллигентному недоучке, ответил, что перед мыслящей личностью! То есть перед той единственной человеческой структурой, что только и интересна другим, что заслуживает их восхищения и подражания.
Когда же Андреич, вопреки запретным жестам суровой Валентины, заговорил, как о боли, о любимом охраняемом боре и сыне своем, беспутном Пашке, что против воли и сути отца тайком, со товарищами своими бандитами этот бор рубит, ворует и вывозит на продажу, Натапов снова ахнул: вот она, драма, сама просится на экран. Главный герой – защитник и радетель леса с чудесными глазами, вспыхивающими, когда трудно, жгучими зелеными огнями, он один против сына и его дружков, схватка может стать фатальной, во всяком случае, ее исход неизвестен. Драму бы немного дофантазировать, обрастить деталями, напряжением и кровью, и вот он – отличный триллер и успех!
«Сделай это, сделай!» – твердил себе Натапов, бредя от лесника к своему вагончику. Луна и сизые облака быстро неслись по ночному небу, но разгоряченный водкой и воодушевлением Натапов думал еще быстрее. «Кино будет! – поклялся он себе, луне и небу. – Нужен сценарий. Вспомни великого артиста Габена, который утверждал, что для хорошего кино нужны только три вещи. Первое: сценарий, второе: сценарий и третье: сценарий. Натапов, ты должен научиться писать, ты должен научиться писать сценарии. Что значит – ты не умеешь? Научись. Ты хочешь, чтоб состоялось твое кино?»
6
Садиться за парту после тридцати – тяжко.
«И бессмысленно!» – добавил Натапову сомнений Левинсон, считавший, что научить кого-либо на писателя невозможно. «Или у тебя это есть, стагик, – солидно заявил он, – или нет. Кто учил писать Пушкина, Толстого, Достоевского или, ну, этого, который мешки на пристани таскал, Гогького? Жизнь, стагик, более никто. Один дгугого может научить гугаться матом, кугить и жгать водку, обтачивать болванки, доить когову или водить тачку – научить писать не может никто».
Натапов смотрел на Левинсона, понимал, что профессиональный футболист Сашка вряд ли читал Достоевского и наверняка не читал Горького, но допускал, что, возможно, друг прав. В то время Натапов во многом доверял Левинсону, потому что покойный Сашкин дед был раввином и слыл мудрецом. Ну, действительно, кто учил писать Горького?
«Но я-то, – возражал Левинсону Натапов, – не настоящим писателем собираюсь стать – всего-навсего сценаристом!» «Это, стагик, что в лоб, что по лбу, – парировал Левинсон, – и то и дгугое имеет дело со словом». «Зачем тогда существуют Институт кинематографии и сценарное отделение, где студентов учат на сценаристов?» – не успокаивался Натапов. «Глупость, – заканчивал спор Левинсон. – Госудагство совегшает глупости так же, как мы, обыкновенные человеки». Натапов смотрел на друга и думал о том, что если он, блин, такой умный, почему он стал только футболистом, бегает по полю со своей черной головой и больше всего любит, когда с трибун ему кричат: «Бей, Чернослив!»? Впрочем, спохватывался Натапов, может, именно в этом и заключена настоящая мудрость жизни?
Во ВГИК принимали до роковых тридцати пяти, на Высшие курсы сценаристов и режиссеров – в том же пределе. Натапову было тридцать шесть, пароход с образованием уже уплыл от него под черным дымом опоздания. Попробуй сам, вспомнив Левинсона, сказал себе тогда Натапов, стань хоть на малость Горьким, удостоверься в том, что это у тебя есть, что ты это можешь. А не сможешь – ковыряй дальше землю, вдыхай ароматы асфальта, люби кино как зритель и радуйся, что его видят глаза и слышат уши.
По ночам в его голове шевелились знакомые тени, слышались смех и плач, звучали голоса; люди, понял он, которых он знал и не знал, о чем-то его просили. Он долго откладывал, но однажды отважился. Что-то неосознанное, повелевающее, властное шевельнулось в нем на рассвете и скомандовало: «пора»; он открыл глаза и послушно таинственному приказу подчинился. Купил с утра пачку писчей бумаги, пару ручек и решил дождаться вечера, когда ни мама, ни Волик не смогут ему помешать. У него, конечно, был комп, но, помня о Горьком, он захотел пройти путем великого самоучки и поскрести пером по бумаге. Разве что не было у него чернильницы и чернил – не принципиально, сказал он себе, Горький простит.
День был долгий, осенний, дождливый, по оконному стеклу ползли капли, ранние московские сумерки, казалось, подталкивали к одухотворенному одиночеству, к плодотворному углублению в себя. Он вырубил все телефоны, зажег любимую старинную настольную лампу с бронзовым львом на постаменте, откинул крышку бюро, уселся перед ним в уютное бабушкино кресло, положил перед собой лист бумаги и взял в руки ручку.
Все было готово. Час творчества пробил.
Он решил написать рассказ. Он знал десятки поучительных историй, он был уверен, что первую новеллу закончит сегодня же к ночи, вторую завтра, а третью послезавтра. Он не был до такой степени недоумком, чтобы считать, что литература есть всего-навсего буквы родного языка, в правильном порядке выведенные на бумаге, но все же полагал, что дело это не слишком хитрое. Через две недели у меня будет готов сборник, думал он, надо будет поразмыслить, куда отдать его печатать.
Странности начали преследовать его сразу.
Он не понимал, что происходит, и не мог найти происходящему разумное объяснение. За свою инженерную жизнь он написал десятки докладных и заявлений, он умел орудовать ручкой, всегда делал это без усилий и борзо, но сейчас чистый белый лист, предназначенный для рассказа, действовал на него как магический тормоз.
Первые четверть часа он никак не мог решить, с чего начать, мял в пальцах стило, пил глотками припасенную «Колу» и сомневался до такой степени, что даже немного взмок и расстегнул пуговицы на рубашке.
Наконец написал первые три предложения, прочитал их, и они ему так не понравились, что следующие полчаса он потратил на то, чтобы их переиначить и начать рассказ по-другому. Он менял слова местами, добавлял новые и отнимал прежние, он поймал себя на том, что играет в слова, будто в «Лего», но это мало ему помогло.
За час он почти не сдвинулся с места; дождь за окном, усилившись, грузно придавливал землю – ему тоже стало тяжко и не по себе. Он решил, что проблема в проклятой бумаге, от которой давно отвык современный человек, он прикинул, что в компе дело пойдет резвее, и запустил свой HP.
Но и тонкий, легкий, сверхсовременный гаджет мало ему помог – рассказ спотыкался, не шел. Он был в отчаянии. Мысль о собственной бездарности мелькнула в его голове, наложившись почему-то на изображение ехидной физиономии Левинсона, что было обидно вдвойне.
Человек нормальный попытки писательства на этом бы завершил, рыжий Натапов набычился и уперся. Первая неудача только раззадорила его, она же заставила понять, сколь трудна и изнурительна борьба человека с его родным языком.
На второй день ровно в девять, запалив лампу со львом, он снова был замечен за компьютером, то же самое повторилось с ним на третий, четвертый, пятый день – добровольная пытка продолжалась в течение месяца, и он к ней даже привык. Он, к неудовольствию мамы, исхудал, позеленел, но рассказ понемногу встал на ноги и, прихрамывая, кривыми, кружными путями начал свой трудный путь к финальной точке.
Натапов изнемогал. На первые три рассказа он потратил четыре месяца. Он не знал, хороши ли они или никуда не годятся, но он их прикончил. Алексей Максимович Горький не был любимым его писателем, зато стал самым уважаемым.
Самоистязание по горьковскому примеру могло продолжаться довольно долго, если бы однажды по счастливому стечению Натапов не открыл дневники Пушкина и не прочитал буквально следующее: «…Вяземский не захотел учиться нашему ремеслу и писателем не стал…» Натапов мигом прозрел. Ему стало ясно, что Левинсон в дедушку раввина умом не пошел. Если уж сам Александр Сергеич брал уроки писательства, то для Натапова такой пример обозначил одну и единственную немедленную проблему: у кого можно подучиться?
И тут ему опять повезло.
Он помнил из истории, что великие вопросы политики частенько решаются, к примеру, в разговорах на теннисном корте; в теннис он, к несчастью, не играл, но сообразил, что совместное выгуливание собак – по степени взаимного душевного расположения песьих хозяев – теннисному корту уступать не должно. Собаки, как и теннисной ракетки, у него тоже не было, зато он знал, что в третьем подъезде его десятиподъездного панельного чуда живет действующий звукооператор с «Мосфильма» Юрка Рубин, у которого есть мини-пудель Чарли, с которым Юрка регулярно гуляет и при этом ароматно дымит, прерываясь исключительно на розжиг очередной трубки. Рубин наверняка знает сценаристов, решил Натапов, насчет курения он, Натапов, тоже обучен с дворового детства и всерьез, и почему бы, подумал Натапов, не составить Рубину компанию сперва по этой части, а уж там как повезет.
Тем же вечером под тенью дворовых лип соседи друг другу кивнули и дали прикурить; на второй день, после натаповских комплиментов в адрес психовато лаявшего на прохожих Чарли, можно сказать, сблизились и прониклись; на третий, узнав о натаповской проблеме, добрый звукооператор Рубин в передышке между куревом сказал, что познакомит Натапова с настоящим драматургом Семеном Лунгиным, с которым трудился на кинокартине про агонию проклятого царизма.
Судьба в образе Рубина коснулась Натапова волшебной палочкой.
– Здравствуйте, Семен Львович, – представился Натапов. – Моя фамилия Натапов.
– Так, – задумался Лунгин. – И что же?
– Я написал рассказы. И хотел бы…
– Тащите, – сказал Лунгин. – Потом поговорим.
Десять дней Натапов страдал и жил верой.
Через десять дней он перезвонил Лунгину, чтобы узнать судьбу своих рассказов и, через них, собственную, свою. «Забудьте об этих пробах пера, это литература среднеарифметическая, она отвратительна и никому не нужна», – сказал Лунгин. «Я понял. Спасибо. Извините», – ответил, проклиная себя, Натапов и почувствовал, как струйка холодного пота пробежала по его спинному желобку. Все было кончено; в ушах привычно зарокотал экскаватор, замаячил на обочине трудяга грейдер, остро пахнуло битумом и асфальтом… «Несмотря на это, – добавил Лунгин, – я приглашаю вас на занятия своей мастерской. Жду вас первого сентября у себя на квартире. Запомните адрес…»
Месяц носился Натапов со своим счастьем.