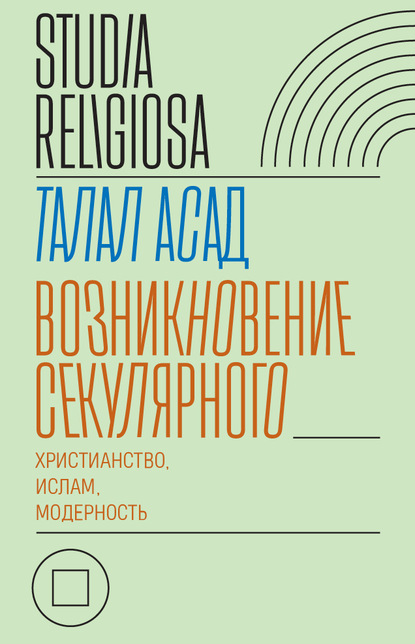По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Возникновение секулярного: христианство, ислам, модерность
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Социологи, политологи и историки написали великое множество работ о секуляризме. Он является частью бурных общественных дискуссий во многих частях света, особенно на Ближнем Востоке. Навязан ли секуляризм колониализмом в качестве целой мировоззренческой системы, которая отдает предпочтение материальному перед духовным, современной культурой отчуждения и неограниченного удовольствия? Или он является необходимым элементом общего гуманизма, рациональным принципом, который выступает за подавление – или во всяком случае за ограничение – религиозного чувства, чтобы таким образом контролировать опасный источник нетерпимости и заблуждения, охраняя тем самым политическое единение, мир и прогресс?[19 - Эти точки зрения представлены в недавнем споре между ‘Абд ал-Ваххабом ал-Мессири и Азизом ал-Азме: Ал-’алмaниййа
ал-маджхар («Секуляризм под микроскопом»). Дамаск, 2000. [Арабоязычные термины и названия передаются в книге в кириллической транслитерации Крачковского–Ромаскевича. – Примеч. ред.]. Я обращаюсь к теме секуляризма и права в Египте под управлением Британии в главе 7.] Здесь, очевидно, на карту поставлен вопрос о том, как секуляризм в виде политической доктрины связан с секулярным в онтологическом и эпистемологическом смыслах.
Несмотря на резкость этих споров, антропологи почти не обращали внимания на идею секулярного, хотя исследование религии было центральной темой дисциплины с XIX века. Собрание программ курсов по антропологии религии для университетов и колледжей, недавно подготовленное для Американской антропологической ассоциации[20 - Buckser A. comp. Course Syllabi in the Anthropology of Religion. Anthropology of Religion Section. American Anthropological Association. December, 1998.], указывает на неослабевающее внимание к темам мифа, магии, колдовства, использования галлюциногенов, ритуала как психотерапии, одержимости и табу. Вместе эти темы намекают, что «религия», объектом которой является священное, принадлежит области нерационального. Секулярное, в котором укоренены современная политика и наука, в этом сборнике не упоминается. К нему не обращаются ни в одном из известных пособий[21 - См., например: Morris B. Anthropological Studies of Religion. Cambridge, 1987, и Rappaport R. Ritual and Religion in the Making of Humanity. Cambridge, 1999. Ни в одной из работ «секулярное», «секуляризм» или «секуляризация» даже не упоминаются, но, естественно, обе работы постоянно обращаются к концепции «сакрального». Обзор Бенсона Салера (Saler B. Conceptualizing Religion. Leiden, 1993) обращается только к – что весьма симптоматично – «секулярному гуманизму как религии», то есть к секулярному, которое также является религиозным. Недавний интерес антропологов к секуляризму отчасти отражен в специальном разделе в журнале Social Anthropology (Vol. 9. 2001. № 3).]. При этом знание о том, что религия и секулярное близко связаны, остается общеизвестным фактом как с нашей точки зрения, так и с точки зрения истории их возникновения. Любая дисциплина, которая пытается осмыслить «религию», должна также осмыслять ее иное. Антропология – дисциплина, которая пыталась понять странности неевропейского мира, – также должна более полно осмыслить, чем по сути она является, будучи одновременно и модерной, и секулярной.
Большое число антропологов начали обращаться к секуляризму, стремясь к упрощенному пониманию современных политических институтов. Там, где другие исследователи видели связанный с терпимостью светский разум, эти разоблачители находили миф и насилие. Так, Майкл Тауссиг возмущается, что веберовское понимание рационально-правовой монополии государства на насилие оказывается неспособным обратиться к «мистическим по природе, таинственным, скручивающим, просто пугающим, мифическим и тайным культурным свойствам и могуществу насилия, когда насилие как таковое становится самоцелью, что является индикатором, как об этом писал Вальтер Беньямин, существования богов». С точки зрения Тауссига, «институциональное проникновение насилия в разум не только уменьшает запросы, отбрасывая его к идеологии, маскировке и влиянию силы, но и… именно встреча разума-и-насилия в Государстве создает в секулярном и современном мире значимость, выраженную заглавной „Г“ – не только очевидное единение функций воли и разума вдохновляется таким образом, но и тончайшие и квазисвященные качества самого вдохновения… сегодня формируют основание нашего бытия как граждан мира»[22 - Taussig M. The Nervous System. New York, 1992. P. 116. Фрагмент выделен курсивом в оригинальном тексте.]. Как только эта рационально-правовая маска исчезнет, как и предлагается, современное государство предстанет совсем не светским. Для критиков основная проблема выражается в вопросе, является ли оправданной наша вера в светский характер государства или общества. Сама по себе категория секулярного остается неисследованной.
Антропологи, которые фиксируют священный характер современного государства, обычно прибегают к рационалистическому пониманию мифа, чтобы заострить собственные критические атаки. Они заявляют, что миф – это «священный дискурс», и соглашаются с антропологами XIX века, которые считали мифы выражением верований в сверхъестественный мир, священные время, существа и места, верований, которые, следовательно, находились в оппозиции к разуму. В целом слово «миф» использовалось как синоним иррационального или нерационального, для обозначения связи с традицией в современном мире, для политических фантазий и опасной идеологии. В такой манере размышления миф представляет собой противоположность светскому даже для тех, кто применяет это понятие в позитивном смысле.
Далее я буду часто обращаться к понятию мифа, но мне неинтересно развивать теорию этого понятия. На этот счет существует несколько книг[23 - См., например: Strenski I. Four Theories of Myth in Twentieth-Century History. Iowa City, 1987; Segal R. Theorizing About Myth. Amherst, 1999; и Lincoln B. Theorizing Myth. Chicago, 2000.]. Здесь я хочу проследить практические результаты использования этого термина в XVIII, XIX и XX веках, чтобы рассмотреть некоторые варианты возникновения светского. Слово «миф», которое современность унаследовала от Античности, питает множество знакомых оппозиций: вера и знание, разум и фантазия, история и вымысел, символ и аллегория, естественное и сверхъестественное, священное и профанное – бинарные оппозиции, пронизывающие дискурс светского, особенно в его полемическом модусе. Поскольку мне интересна изменяющаяся сеть концептов, образующая светское, я обращусь к некоторым из этих оппозиций.
Термины «секуляризм» и «приверженец секуляризма»[24 - В оригинальном тексте использован термин secularist, однако в русском языке термина «секулярист» не существует. – Примеч. пер.] появились в английском языке благодаря свободомыслящим авторам середины XIX века, чтобы избежать обвинений в «атеизме» и «безбожии», что в обществе по большинству все еще христианском фактически было созвучно обвинению в безнравственности[25 - Слово «секуляризм» ввел в употребление Джордж Якоб Холиок в 1851 году. «Предполагалось, что секуляризм станет отличительной чертой антитеистической позиции самого Холиока по отношению к атеистическим заявлениям Ч. Брэдлоу. При этом, хотя Ч. Брэдлоу, Ч. Воттс и Дж. В. Фут и другие атеисты воспринимались как часть секуляристского движения, сам Холиок всегда стремился показать, что социальные, политические и этические цели секуляризма не обязательно подразумевают приверженность атеизму, надеясь этим привлечь на свою сторону либерально настроенных теистов, относящихся без предубеждений к собственному теизму, – этого взгляда Холиок придерживался очень жестко, хотя распространения эта позиция так и не получила. (Waterhouse E. S. Secularism // Encyclopedia of Religion and Ethics / Ed. James Hastings. Vol. II. P. 348).]. Эти эпитеты имеют значение не потому, что свободомыслящие беспокоились за свою личную безопасность, а потому, что они пытались придать направление зарождающейся политике массовых социальных реформ в быстро индустриализирующемся обществе[26 - Chadwick O. The Secularization of the European Mind in the 19th Century. Cambridge, 1975.]. Существовавшие долгое время индифферентность, неверие и враждебность по отношению к христианским ритуалам и учреждениям теперь начинали связываться с проектами полной реконструкции общества средствами законодательства. Начинался процесс критического переформирования отношений между государственной законодательной системой и личными моральными принципами[27 - Этот исторический момент представляет важную часть более длительного процесса. Стоит обратиться к описанию постепенного уменьшения – со Средних веков по XIX век – правовой регуляции отношений, которые теперь стали рассматриваться как часть личной морали, в книге Джеймса Стивена «История криминального права Англии» (Stephen J. F. A History of the Criminal Law of England. London, 1883. Vol. 2. Ch. 25. Offences Against Religion).]. Этот сдвиг стал предпосылкой нового понимания общества как совокупности индивидов, обладающих не только субъективными правами и привилегиями и наделенных чувством морали, но также обладающих способностью выбирать собственных политических представителей. Этот сдвиг совершился единовременно в революционной Франции (исключение составили женщины и прислуга) и постепенно происходил в Англии XIX века. Повсеместное распространение суфражистского движения было, в свою очередь, связано, как показал М. Фуко, с новыми методами управления, которые основывались на новых способах классификации и оценки и новых формах субъектности. Эти принципы управления были секулярными в том смысле, что имели дело исключительно с мирскими отношениями, что в корне отличалось от средневековой концепции социального организма, который составляют христианские души, наделенные равным достоинством, существующие одновременно и в Граде Божьем, и в сотворенном Богом человеческом обществе. Совершённый в XIX веке дискурсивный переход от идеи о неизменности «человеческой природы» к пониманию человека в терминах установленной «нормальности» содействовал развитию секулярной идеи морального прогресса, определяемого и направляемого самим человеком. Коротко говоря, секуляризм как политическая доктрина и доктрина управления рождается в либеральном обществе XIX века, что понять гораздо проще, нежели идею секулярного. При этом оба понятия являются взаимообусловливающими.
Далее будет представлена не социальная история секуляризации и даже не история идеи. Мы занимаемся исследованием эпистемологических гипотез секулярного, что поможет нам более ясно увидеть, что именно может войти в антропологию секуляризма. Я утверждаю, что секулярное не является неотделимым от религиозного, которое предположительно ему предшествовало (то есть не является позднейшей формой развития священного), и не представляет просто разрыв с религиозным (то есть не является противоположностью, сущностью, которая исключает священное). Мне представляется, что светское является концепцией, которая связывает определенные типы поведения, знания и эмоциональности, существующие в современном мире. Недостаточно показать, что кажущееся необходимым на самом деле случайно, что в некоторых аспектах «секулярное» очевидно пересекается с «религиозным». Задача состоит в том, чтобы показать, как случайность соотносится с изменением грамматики концептов, то есть, как изменение концепта формирует изменения в поведении[28 - Понятие «грамматика» здесь, безусловно, основывается на идее Л. Витгенштейна о грамматических исследованиях. Это понятие часто встречается в его поздних работах, особенно раздел 90 в: Витгенштейн Л. Философские исследования. М., 2018.]. Моей целью в этой главе, следовательно, является не обзор исторического нарратива, а проведение серии исследований аспектов явления, называемого нами «секулярное» (светское). С моей точки зрения, секулярное не едино с точки зрения происхождения и не стабильно с точки зрения исторической идентичности, хотя и функционирует в рамках целого ряда оппозиций.
Материал я почти полностью черпаю из истории Западной Европы, ведь именно она оказала определяющее влияние на способы осмысления и претворения в жизнь доктрины секуляризма по всему модернизирующемуся миру. Я пытаюсь понять секулярное, осмыслить, как именно оно возникло, стало реальным, было сопряжено и оторвано от конкретных исторических условий.
Предлагаемый мной анализ представляет собой противоположность триумфалистской истории секулярного. Я принимаю взгляд, как до меня делали и другие, что «религиозное» и «светское» по своей сути не являются фиксированными. Тем не менее, я не считаю, что если убрать все наносное, то можно увидеть, что некоторые очевидно светские институты на самом деле являются религиозными. Напротив, я предполагаю, что сущностно религиозного просто не существует, как не существует универсальной сущности, определяющей «священный язык» или «опыт священного». Я также предполагаю, что имели место разрывы между христианской и светской жизнью, когда слова и действия были реструктурированы, а новые дискурсивные грамматики сменили старые. Мне кажется, что необходимо предпринять более подробное исследование результатов этих сдвигов. Поэтому я рассматриваю фрагменты истории дискурса, о которых часто говорится, что они являются неотъемлемой частью «религии» – или по меньшей мере близко с ней связаны, – чтобы показать, как сакральное и светское зависят друг от друга. Я коротко останавливаюсь на вопросе о том, как именно религиозный миф содействовал формированию современного исторического знания и современной поэтической эмоциональности (вскользь также показывая, как эта эмоциональность была воспринята некоторыми современными арабскими поэтами), но, с моей точки зрения, это не сделало ни историю, ни поэзию по сути «религиозными».
Сказанное верно и в отношении недавних заявлений либеральных мыслителей, для которых либерализм – это своего рода искупительный миф. Я указываю на присущую ему жестокость, но необходимо быть очень осторожным, чтобы не спутать его с искупительным мифом христианства, несмотря на их сходство. Само собой разумеется, моей целью не является ни критика, ни поддержка этого мифа. В более широком смысле, я не намерен атаковать либерализм ни как политическую систему, ни как этическую доктрину. Здесь, как и в других случаях, я только хочу избавиться от идеи, что секулярное – это маска для религии, что секулярные политические действия часто имитируют религиозные. Я завершаю кратким обзором двух концепций «секулярного», которые, мне кажется, доступны антропологии сегодня, а делаю я это, дискутируя с текстами Поля де Мана и Вальтера Беньямина.
Чтение об истоках: миф, истина и власть
В западноевропейские языки слово «миф» пришло из древнегреческого, а истории о греческих богах были парадигматическими объектами критических размышлений, когда мифология стала академической дисциплиной в раннее Новое время. По этой причине необходимо привести короткую историю термина и концепции.
Брюс Линкольн открывает книгу «Теория мифа» замечательной историей греческих терминов «миф» (?????) и «логос» (?????). Мы читаем, что Гесиод в «Трудах и днях» связывает речь-миф с истиной (???????), а речь-логос с ложью и лицемерием. Речь-миф – это мощная речь, речь героев, привыкших побеждать. У Гомера, как указывает Линкольн, ????? обычно относится к речи, целью которой является или успокоить кого-либо, или отговорить воинов от поединка.
В контексте политических собраний ????? предстают в двух видах: «правильном» и «испорченном». ????? функционируют в контексте права так же, как ????? в контексте войны. ????? у Гомера «это обозначающее власть речь-действие, совершаемое обстоятельно, обычно на публике, с полным вниманием к каждой детали»[29 - Martin R. The Language of Heroes. Ithaca, 1989. P. 12; цит. по: Lincoln B. Theorizing Myth. Chicago, 2000.]. Оно никогда не обозначает символическую историю, которую необходимо расшифровывать, или, если уж на то пошло, ложную историю. В «Одиссее» Одиссей превозносит поэзию, утверждая, что она истинна, воздействует на эмоции слушателей, способна улаживать разногласия, и заканчивает он свой поэтический рассказ, заявляя, что он только что «изложил ?????»[30 - Бельгийский антиковед и антрополог Марсель Детьен замечает, что Геродот называет свои истории ????? или ?????, но никогда ?????. «Известные „священные речи“, которые в нашем обиходе очень просто интерпретируются как „мифы“, особенно принимая во внимание, что эти традиции часто связаны с ритуальными жестами и действиями, никогда не называются ?????» (Detienne M. Rethinking Mythology // Between Belief and Transgression / Ed. by M. Izard and P. Smith. Chicago, 1982. P. 49).].
Первоначально поэты приписывали собственные речи божественному вдохновению, называя их ????? (что современные люди называют на новый манер сверхъестественным миром), позже софисты учили, что любая речь рождается у человека (который живет в этом мире). «В то время как христианское мировоззрение совершенно отделяет Бога от мира, – пишет Ян Бреммер, – греческие боги не были трансцендентны и напрямую участвовали в природных и социальных процессах… Именно эти связи между человеческим и божественным мирами в недавнем исследовании греческого мировоззрения назывались „взаимосвязанными“ относительно нашей собственной „разделительной“ космологии»[31 - Bremmer J. Greek Religion. Oxford University Press, 1994. P. 5.]. Однако здесь поставлено на карту гораздо больше, чем вопрос об имманентности или трансцендентности божества относительно мира природы. Само понятие «природа» внутренне трансформируется[32 - О самых ранних трансформациях такого рода см.: Collingwood R. G. The Idea of Nature. Oxford, 1945. В этой книге греческая космология противопоставляется тому, как на природу смотрели в более позднее время.]. Представления о христианском Боге, помещенном в отдельный мир «сверхъестественного», указывают на возникновение светского пространства, которое начинает появляться в раннее Новое время. Это пространство позволяет переосмыслить «природу» в качестве поддающегося воздействию материала, детерминированного, гомогенного и подчиняющегося законам механики. Все за пределами этого пространства, следовательно, является «сверхъестественным» – местом, которое многие считают фантастическим продолжением реального мира, населенным бессмысленными событиями и воображаемыми существами[33 - См.: Funkenstein A. Theology and the Scientific Imagination: From the Middle Ages to the Seventeenth Century. Princeton, 1986. Книга прослеживает становление нового научного мировоззрения с присущими ему идеями соответствия знака и значения и гомогенности природы, а также математизации и механизации, появившимися в XVII веке. А. Функенштейн показывает, особенно в главе 2 «Вездесущность Бога, тело Бога и четыре идеала науки», как в связи с этим теологии потребовалось создать новую онтологию и эпистемологию божества.]. Эта трансформация оказала значительное влияние на значение слова «миф».
????? поэтов, как говорили софисты, не только негативно воздействуют на эмоции, но еще и лживы, поскольку говорят о богах, хотя даже в качестве лжи они могут оказывать благотворительный эффект на аудиторию. Эта мысль была развита Платоном, который придал ей новое звучание: с его точки зрения, прежде всего философы, а не поэты ответственны за моральное развитие. Атакуя поэзию, Платон изменил смысл слова «миф»: оно стало означать социально полезную ложь[34 - Lincoln B. Theorizing Myth. Chicago, 2000. Р. 42.].
Основатели мифологии как дисциплины в эпоху Просвещения, например Фонтенель, перенесли представления Античности на собственных богов. Как и для многих образованных людей своего времени, исследование мифа представлялось ему возможностью поразмышлять об ошибках человека. Он писал: «Хотя мы являемся несравненно более просвещенными, нежели те люди, грубый разум которых из лучших побуждений сочинил Мифы, мы легко понимаем то направление ума, которое делало Мифы настолько привлекательными. Люди поглощали Мифы, поскольку в них верили, мы поглощаем их с не меньшим удовольствием, хотя в них и не верим. Не существует лучшего доказательства того, что воображение и разум мало связаны и что вещи, относительно которых разум лишился всяких иллюзий, при этом не теряют привлекательности для воображения»[35 - Цит. по: Starobinski J. Blessings in Disguise; or, The Morality of Evil. Cambridge, 1993. P. 186.]. Фонтенель проделал большую работу, придя к выводу о возможности естественного, природного объяснения «сверхъестественных» явлений во время, когда «природа» возникла как отдельная сфера опыта и исследования[36 - Сделанные Фонтенелем разоблачения в «Истории оракулов» (Histoire des oracles (1686)) были вскоре опубликованы в Англии под названием «История оракулов, или Обман языческих жрецов» (The History of Oracles, and the Cheats of Pagan Priests. London, 1688).].
При этом в целом в эпоху Просвещения мифы не были исключительно объектами «веры» (belief) и «рационального исследования». В качестве элементов высокой культуры в раннее Новое время в Европе они были неотъемлемой частью характерной для этой культуры эмоциональности: культивируемой способности к тонким чувствам, особенно симпатии, и способности взволноваться от трогательного в изобразительном искусстве и литературе. Стихи, картины, театр, общественные памятники и убранство частных домов богатых людей впрямую изображали или намекали на качества или приключения греческих богов, богинь, чудовищ и героев. Знание этих историй и фигур было необходимой частью образования высшего класса. Мифы позволяли писателям и художникам представлять современные события и чувства, как мы бы сказали сегодня, в виде беллетристики. Мифологический стиль в равной степени способствовал идеализации земной любви и преувеличенному восхвалению суверена, что в свою очередь способствовало появлению сатиры, стремившейся к разоблачению или удалению символического смысла. Таким образом обходными путями можно было критиковать церковные власти, не опасаясь сразу же быть обвиненным в богохульстве. В целом резкая критика мифических фигур и событий в литературе продемонстрировала, что люди предпочли разумную жизнь счастья героическому идеалу, который с течением времени воспринимался все менее и менее приемлемым в буржуазном обществе. Однако, как нам напоминает Жан Старобинский, миф был больше чем декоративным или сатирическим языком, который использовался для отдаления от героического социального идеала. Для великих трагедий и опер XVII и XVIII веков мифы предоставляли материал, на основании которого можно было исследовать человеческие страсти[37 - Starobinski J. Blessings in Disguise. P. 182.].
По этой причине вопрос, верили ли люди в эти древние нарративы, или, как предполагает Фонтенель, воображение сделало их не-истины привлекательными, не вполне касается сферы, в которой мифический дискурс существовал в этой культуре. Миф был не просто представлением/искажением реальности. Он был материалом, формирующим возможности и границы действия. В целом можно сказать, что миф достиг этого, удовлетворяя желание людей обнаруживать реальное: желание, которое стало все сложнее удовлетворять с ростом числа эмпирических возможностей, предоставляемых модерностью.
Некоторые современные комментаторы заметили, что высказывания в духе Фонтенеля обозначили смену старой оппозиции между сакральным и профанным на оппозицию между воображением и разумом, то есть принципы, которые ознаменовали начало секулярного Просвещения[38 - Среди них и Старобинский.]. По их мнению, это изменение необходимо рассматривать как смену религиозной гегемонии секулярной. С моей точки зрения, здесь мы сталкиваемся с чем-то более сложным.
Прежде всего, в новой оппозиции Разум наделяется основными функциями по защите, оценке и регуляции воображения человека, к которому и был приписан «миф». Марсель Детьен пишет об этом так: «Процедуры исключения множатся в дискурсе науки о мифах, языке сплетен, который осуждает любое проявление инаковости. Мифология находится на стороне примитивных, низших рас, народов природы, языка начала, детства, первобытности, сумасшествия – всегда в качестве исключаемой фигуры представляет иное»[39 - Detienne M. Rethinking Mythology // Between Belief and Transgression / Ed. by M. Izard and P. Smith. Chicago, 1982. P. 46–47. Курсив оригинала.]. Однако священное не было наделено такими функциями в прошлом, и не существовало единой сферы социальной жизни и мысли, которую организовывала бы концепция «сакрального». Вместо этого были хаотичные места, объекты, время, каждое со своими качествами и требованиями определенного поведения и слов по отношению к нему. На этом необходимо остановиться подробнее, поэтому я обращусь к анализу оппозиции сакральное/профанное, а затем вернусь к теме мифа.
Отступление о «сакральном» и «профанном»
В латинском языке времен Римской республики слово sacer относилось к любому объекту в собственности божества, который был «изъят из сферы профанного действием Государства и переведен в сферу сакрального»[40 - Fowler W. W. The Original Meaning of the Word Sacer? // Roman Essays and Interpretations. Oxford, 1920. P. 15.]. Однако даже тогда существовало занимательное исключение: термин homo sacer использовался в отношении любого, кто в результате проклятия (sacer esto) становился вне закона и которого можно было безнаказанно убить. В то время, пока священность отданной богу собственности делала ее неприкосновенной, священность homo sacer неминуемо делала его жертвой насилия. Это противоречие классицисты (с благодарностью за помощь коллегам-антропологам) объясняют через «табу», которое представляется как примитивное понятие, смешивающее идеи сакрального с идеями нечистого, идеи, которые «духовная» религия позже должна была различить и использовать более последовательно[41 - «Если в выражении sacer esto значение слова sacer установлено верно, то, мне кажется, мы можем отследить его более древний пласт, когда оно означало просто „табу“ без отсылки к божеству; мы уже выяснили, что, по-видимому, оно именно так использовалось в одном или двух древних законах» (Fowler W. W. The Original Meaning of the Word Sacer? // Roman Essays and Interpretations. Oxford, 1920. P. 21). Предложенное здесь эволюционное объяснение на первый взгляд сомнительно и неуместно. Джорджо Агамбен высказал более интересную мысль, что «священный человек» как объект проклятия sacer esto должен рассматриваться через отношение с логикой суверенной власти, которую исследователь считает абсолютной властью над жизнью и смертью в книге «Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь» (Агамбен Д. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М., 2011).]. Концепция, что «табу» является первичным источником «сакрального», имеет долгую историю в антропологии, где ее позаимствовали не только антиковедение для понимания античной религии, но и христианская теология для реконструкции «истинной» религии. Антропологическая часть этой истории критически рассмотрена в работе Франца Штайнера, где он показывает, что понятие «табу» выстраивается на весьма шатких этнографических и лингвистических основаниях[42 - Штайнер, собственно, утверждает, что табу – это викторианское изобретение, вызванное к жизни идеологическими и социальными реалиями самого викторианского общества (см.: Steiner F. Taboo. London, 1956).].
Согласно Оксфордскому словарю английского языка, «священное» в английском языке раннего Нового времени относилось к индивидуальным вещам, людям и событиям, которые были отделены и получили право на почитание. При этом, если мы рассмотрим примеры из словаря, в строке «Как могла священный, заповедный плод сорвать кощунственно?»[43 - Строка «That sacred Fruit, sacred to abstinence» – строка из «Потерянного Рая» Д. Мильтона. Русский вариант дается по переводу А. Штейнберга. – Примеч. пер.], посвящении «священной памяти Самюэля Батлера» (sacred to the memory of Samuel Butler), формальном обращении «ваше святейшество» (your sacred majesty), фразе «концерт духовной музыки» (sacred concert) практически невозможно сказать, что отделение или почитание во всех этих случаях направлено на один и тот же акт. Субъект, по отношению к которому эти вещи, события или люди заявляются как священные, не находится в одном и том же отношении к ним. Именно в конце XIX века антропологическая и теологическая мысль свела множество пересекающихся контекстов использования понятия, укорененного в меняющихся и неоднородных формах жизни, в единую неизменную сущность и заявила, что она является универсальным объектом человеческого опыта, называемым «религиозное»[44 - Классическая формулировка принадлежит Э. Дюркгейму: «Все известные религиозные верования, простые или сложные, содержат одну и ту же общую черту: разделение всех реальных или идеальных вещей, которые могут представить себе люди, на два класса, два противоположных рода, обычно обозначаемые двумя различными терминами, которые достаточно хорошо передаются словами „профанное“ и „сакральное“. Разделение мира на две области, одна из которых включает в себя все то, что священно, а другая – все то, что является профанным, – вот отличительная черта религиозного мышления. Верования, мифы, догмы и легенды – это представления или системы представлений, выражающие природу священных вещей, свойств и способностей, которые им приписываются, их историю, отношения между собой и с профанными вещами. Но под священными вещами не следует понимать только те личностные существа, которые называются богами или духами; гора, дерево, источник, булыжник, кусок дерева, дом – словом, любая вещь может быть священной. Обряд также может обладать этой характеристикой. Фактически не существует обряда, которому она не была бы присуща хоть в какой-то степени. Есть слова, выражения и формулы, которые могут исходить только из уст посвященных лиц; есть жесты и действия, которые не могут совершаться всеми (Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии. М.: Элементарные формы, 2018. С. 80–81). Критики протестовали против идеи Э. Дюркгейма о том, что профанное и священное являются взаимоисключающими сферами, поскольку профанные вещи могут становиться священными и наоборот (см. статью, где автор защищает позицию Дюркгейма: Paden W. Before «The Secular» Became Theological: Rereading The Durkheimian Legacy // Method and Theory in the Study of Religion. 1991. Vol. 3. № 1). Позднее критики стали утверждать, что священное и профанное обычно «смешаны воедино». Тем не менее даже эти критики принимают тезис об универсальности сакрального, которое они представляют как особый тип власти. Идея, против которой они протестуют, состоит в утверждении жесткого отделения сакрального от «материальности повседневной жизни» (см.: McDannell C. Material Christianity. New Haven, 1995. Ch. 1).]. Представляемой как универсальной оппозиции «сакрального» и «профанного» не существует в книгах, написанных до начала Нового времени. В средневековой теологии превалирующие антиномии заключались в «божественном» (divine) и дьявольском (satanic) (оба представляют трансцендентные силы) или духовном (spiritual) и мирском (temporal) (оба представляют земные институты), а не в сверхъестественном священном и естественном профанном.
Во Франции, например, слово sacrе не использовалось в языке простых христиан в Средние века и раннее Новое время[45 - Despland M. The Sacred: The French Evidence // Method and Theory in the Study of Religion. 1991. Vol. 3. № 1. P. 43.]. Оно использовалось только в среде образованных людей и могло отсылать к определенным вещам (сосудам), институтам (Коллегии кардиналов) или людям (телу короля), однако никакого уникального опыта в отношении объектов, к которым это понятие отсылало, не предполагалось, а сами вещи не отделялись одинаковым способом. Saintetе – это слово и концепт, который был значим для народной религии всего исторического периода – как относительно практической, так и эмоциональной стороны – и который характеризует способность делать добро, присущую некоторым людям и их реликвиям, близко связанным с простым народом и их обыденным миром. Слово sacrе становится актуальным во время революции и приобретает пугающие отзвуки секулярной власти. Так, в преамбуле «Декларации прав человека» (1789) говорится о «естественных, неотчуждаемых и священных (sacrеs) правах человека». Право собственности также называется sacrе в статье 17. Фраза «священная любовь к отечеству» (L’amour sacrе de la patrie) имела всеобщее распространение в XIX веке[46 - См.: Ibid.]. Очевидно, личный опыт, на который указывают приведенные значения, и поведение, которое ожидается от гражданина, заявляющего, что он имеет этот опыт, являются совершенно отличными от того, что обозначал термин «священное» в Средние века. Теперь он стал частью дискурса, неотделимого от функций и стремлений модерного секулярного государства, в котором сакрализация отдельных граждан и коллективов выражает форму ассимилированной власти[47 - См. великолепно выполненную историю введения всеобщего избирательного права во Франции: Rosanvallon P. Le sacrе du citoyen. Paris, 1992.].
Французский социолог Франсуа Исамбер детально описал, как дюркгеймианская школа, основываясь на идее Робертсона Смита, что «табу» является типичной формой примитивной религии, пришла к концепции «священного» как всеобщей сущности[48 - Isambert F. Le sens du sacrе. F?te et religion populaire. Paris, 1982.]. Священное стало отсылкой ко всему, что вызывало интерес общества – коллективным состояниям, традициям, эмоциям, – которые последнее развивало как представления, было даже заявлено, что священное – это источник развития когнитивных категорий[49 - Исамбер указывает, что именно из?за этой изначальной инклюзивности поиск того, что определяет особенность религии, стал бессмысленным: «Итак, мы видим, что данное выражение сферы сакрального весьма удачно послужило обоснованию идеи эволюции различных областей мысли из религии. Однако это понятие в то же время стало непригодным для определения специфики религиозной сферы» (Op. cit. P. 221).]. Священное, первоначально сформированное антропологами и затем захваченное теологами, стало скрытым в вещах универсальным качеством и объективным пределом мирских действий. Священное сразу же стало трансцендентной силой, навязывающей себя субъекту, и пространством, которое ни при каких обстоятельствах и под страхом катастрофических последствий не могло быть нарушено, то есть подвергнуто профанации. Коротко говоря, «священное» было сформировано как таинственная, мистическая сущность[50 - «Таким образом сакральное стало представлять собой мифологический объект» (Op. cit. P. 256).], фокус моральной и административной дисциплин.
Именно в контексте новой рождающейся дисциплины – сравнительного религиоведения – антропология развивала понятие трансцендентного священного. Интересную версию этого процесса можно найти в работе Р. Маретта[51 - Маретт известен высказыванием, что «религия дикарей скорее не выдумывается, а вытанцовывается» (savage religion is something not so much thought out as danced out). См.: Marett R. R. The Threshold of Religion. Oxford, 1914. P. xxxi. Он также стал авторитетным источником для Э. Фаулера в его авантюре с эволюционной антропологией (см. прим. 2 на с. 49).], который предложил считать, что ритуал обладает функцией регулирования эмоций, особенно в критических для жизни ситуациях. Из этой идеи выросло его хорошо известное антропологическое определение таинств: «В антропологических целях определим таинство как любой обряд, конкретной целью которого является освящение или наделение священным статусом. Или более однозначно: подразумевается любой обряд, который посредством утверждения или положительного благословения наделяет природную функцию собственной сверхъестественной властью»[52 - Marett R. R. Sacraments of Simple Folk. Oxford, 1933. P. 4.].
Такое понятие о таинствах как об институте, призванном облечь жизненные кризисы («брак», «смерть» и т. д.) «сверхъестественной властью», которая, как пишет Маретт, фактически являясь «религиозной психотерапией», в целом может применяться для сравнения. Однако в обозначенной сфере оно совершенно контрастирует со средневековым христианским пониманием таинства. Теолог XII века Гуго Сен-Викторский, отвечая на вопрос, что такое таинство, первоначально предлагает обратиться к общепринятому определению: «Таинство – это знак священной вещи», но затем замечает, что это определение не хорошо, поскольку многие статуи и картины, а также слова Священного Писания являются по-своему знаками священного, не будучи священными. Далее он предлагает более качественное определение: «Таинство – это телесный или материальный элемент [звуки, жесты, облачения, инструменты], представленный нашим чувствам вовне, обозначающий по схожести, символизирующий через институцию и содержащий по освящению некоторую незримую и духовную благодать». Например, вода крещения обозначает очищение души от грехов по аналогии с очищением тела от грязи, имеет символическое значение для верующего, отсылая к жизни Христа, открывающей новые вехи, и передает – посредством слов и действий проводящего обряд крещения священника – духовную благодать. Все три функции не являются самоочевидными, но они должны быть установлены и истолкованы обладающими властью. (Христиане Средних веков понимали смысл используемых в мессе сложных аллегорий из авторизованных комментариев.) Таким образом, согласно Гуго, таинство с момента его освященного авторитетом возникновения представляло сложную сеть означаемых и означающих, которая, подобно иконе, работает как памятный знак. Икона одновременно является и самой собой, и представлением того, что уже присутствует в должным образом дисциплинированном сознании участников, она отсылает и назад, к воспоминаниям, и вперед, к ожиданиям христиан[53 - Подробнее вопрос о таинствах у Гуго Сен-Викторского я разбираю в книге «Генеалогии религии»: Asad T. Genealogies of Religion. Baltimore, 1993. Р. 153–158.]. Не имеет смысла высказывание с отсылкой на мнение Гуго, что в таинствах «естественные» функции наделены «сверхъестественной» силой (то есть трансцендентным даром); еще меньше смысла в утверждении, что таинства – это вид психотерапии, помогающей людям в периоды кризисов (полезный миф). Гуго настаивает, что в жизни существуют ситуации, когда таинства не считаются таковыми: «Именно поэтому безбожники видят только видимые вещи и гнушаются почитать таинства спасения, видя только низкое без невидимых образов, они не могут распознать невидимой добродетели внутри и плодов послушания»[54 - Hugh of St. Victor. On the Sacraments of the Christian Faith / Ed. by R. J. Defarrari. Cambridge, 1951. P. 156.]. Авторитет таинств уже сам по себе является соприкосновением христианина с тем, что он понимает как воплощение божественной благодати[55 - Согласно Джону Милбанку, в поздние Средние века произошел серьезный сдвиг в понимании того, что такое «таинство», оно стало восприниматься как внешнее проявление. Этот семантический сдвиг имел далеко идущие последствия для современной религиозности (личная переписка). См. также: de Certeau M. The Mystic Fable. Chicago, 1992. Особенно см. главу 3.]. Благодать воспринимается как состояние неосознанности в отношениях с богом, а не как плата за ритуальное усердие.
Что поспособствовало эссенциализации «священного» как внешней трансцендентной силы? Предварительно я бы сказал, что новые теоретические построения были связаны с фактами столкновений европейского и неевропейского миров, что в просвещенном времени и пространстве было засвидетельствовано созданием «религии» и «природы» как универсальных категорий. Начиная с раннего Нового времени, в течение периода, который затем ретроспективно стал называться эпохой Просвещения, и весь долгий XIX век как в самой христианской Европе, так и в ее владениях по всему миру вещи, слова и деятельность, отличающие и ставшие специфическими для «естественных народов», рассматривались европейцами как «фетиш» и «табу»[56 - Pietz W. The Problem of the Fetish, I // Res. No. 9, 1985; Steiner F. Taboo. London, 1956.]. Что называлось в XVI и XVII веках в теологических терминах «идолопоклонством» и «культом сатаны»[57 - Hodgen M. T. Early Anthropology in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Philadelphia, 1964.] (служением ложным богам), в рамках обращенной к эволюционизму мысли XVII–XVIII веков стало секулярной концепцией «суеверия» (бессмысленного выживания)[58 - См.: Belmont N. Superstition and Popular Religion in Western Societies // Between Belief and Transgression / Ed. by M. Izard and P. Smith. Chicago, 1982.], однако продолжило восприниматься как объекты и отношения, ошибочно наделенные статусом реальных и имеющих действенную силу. Перед тем как освободить людей от своего влияния, они должны были стать категориями иллюзии и угнетения, как это зафиксировал Фрейд, используя категории «фетиш» и «табу» для определения симптомов примитивного вытеснения в психопатологии современного человека.
Можно, таким образом, предположить, что «профанация» – это вид насильственной эмансипации от ошибок и деспотизма. Разум требует, чтобы ложные вещи были запрещены и уничтожены или же перефразированы и перемещены как объекты, которые нужно рассмотреть, увидеть или потрогать правильно сформированными органами чувств. Успешно срывая маски с мнимой власти (профанируя ее), универсальный разум демонстрирует собственный легитимный статус. При наделении властью новых вещей этот статус только укрепляется. Таким образом, «священное право собственности» стало универсальным после того, как церковная собственность и общинная земля потеряли особый статус. «Неприкосновенность совести» стала означать универсальный принцип в противовес церковной власти и казуистически получившим одобрение правилам. В тот самый момент, когда они могли стать секулярными, эти притязания стали восприниматься как трансцендентные и породили правовые и моральные дисциплины для защиты себя (с применением жестокости там, где это необходимо) в качестве универсальных понятий[59 - Дюркгейм о светской морали: «Так, сфера морали будто бы окружена таинственной преградой, удерживающей профанаторов, так же, как сфера религии избавлена от посягательств профанного. Эта сфера сакральна» (Ainsi le domaine de la morale est comme entourе d’une barri?re mystеrieuse qui en tient ? l’еcart les profanateurs, tout comme le domaine religieux est soustrait aux atteintes du profane. C’est un domaine sacrе). Цит. по: Isambert F. Le sens du sacrе. F?te et religion populaire. P. 234.]. Хотя и может казаться, что профанация смещает фокус с трансцендентального на повседневное, на самом деле она реконструирует барьеры между иллюзорным и реальным.
Развивая идеи Дюркгейма, Ричард Камсток выразил идею, что «священное как тип поведения – это не просто ряд внешних признаков, но и набор правил: предписаний, разного рода запретов, которые определяют форму поведения и решают вопрос, попадает ли ситуация под действие рассматриваемой категории»[60 - Comstock R. A Behavioral Approach to the Sacred: Category Formation in Religious Studies // The Journal of the American Academy of Religion. 1981. Vol. XLIX. № 4. P. 632.]. Это замечание полезно, хотя, мне кажется, также необходимо принимать во внимание следующие три момента: 1) любое управляемое правилами поведение несет в себе социальные санкции, однако 2) жесткость этих санкций варьируется в соответствии с той опасностью, которую нарушение правила представляет для определенного общественного порядка, при этом 3) оценка опасности не остается одинаковой и исторически изменяется. Это должно переключить нашу поглощенность определениями «священного» как объекта опыта на более широкие вопросы, каким образом формируется гетерогенный ландшафт власти (морали, политики, экономики), какие дисциплины (индивидуальные и коллективные) для этого необходимы. Сказанное не означает, что «священное» нужно рассматривать как маску власти, однако мы должны обратить внимание на то, что именно делает определенные практики концептуально возможными, желательными и обязательными, включая повседневные практики, которые упорядочивают опыт субъекта[61 - Интересно, что попытки ввести унифицированную концепцию «священного» в неевропейские языки столкнулось с показательными проблемами перевода. Так, хотя арабское слово
в английском обычно толкуется как «святость» (sacredness), дело состоит в том, что его нельзя использовать во всех контекстах, в которых используется английское слово. Перевести слово «священное» (the sacred) возможно несколькими способами (
,
,
би ал-‘ибaда и т. д.), и каждое из этих слов отсылает к разным типам поведения. (См. ниже мой комментарий о стремящемся произвести определенное впечатление обращении к мифу в арабской поэзии.)]. Я заявляю, что такой подход поможет нам лучше понять, как священное (и, следовательно, профанное) может стать объектом не только религиозной мысли, но и секулярного подхода.
Миф и священные писания
Выше я указал на некоторые функции мифа как секулярного дискурса в искусстве и нравах эпохи Просвещения. Роль, которую играл миф как в качестве дискурса о священном в религии и поэзии XIX и XX веков, является более сложной. Ниже мне неизбежно придется выбирать и упрощать.
Уже было указано, что немецкая библейская критика освободила Библию от «буквы божественного вдохновения» и дала ей возможность стать «системой человеческих смыслов»[62 - Shaffer E. S. «Kubla Khan» and The Fall of Jerusalem: The Mythological School in Biblical Criticism and Secular Literature, 1770–1880. Cambridge, 1975. P. 10.]. Тем не менее необходимо заметить, что освобождение знаменует кардинальное изменение в чувстве «вдохновения»: от разрешенной переориентации жизни к телосу, к психологии творчества, источник которой таинственен, – и, следовательно, становится объектом размышления (вера/знание)[63 - В середине XX века Т. С. Элиот попытался дать формулировку, которая бы объединила религиозный и светский смыслы термина: «Но если слово „вдохновение“ имеет хоть какое-то значение, то смысл его заключается именно в том, что от говорящего или пишущего исходит нечто такое, что сам он полностью не понимает и даже может неправильно интерпретировать, когда вдохновение его покинет. Все сказанное относится и к поэтическому вдохновению… [Поэту] не обязательно знать, чем отзовется его поэзия в душах других людей, пророку нет нужды понимать значения собственных пророчеств» (Элиот Т. С. Вергилий и христианский мир // Элиот Т. С. Избранное. Т. I–II. Религия, культура, литература. М., 2004. С. 283–284).]. Это была замечательная трансформация, поскольку в ранее существовавшем понимании божественное слово, как письменное, так и устное, также было по необходимости материальным. Вдохновленные слова сами по себе были объектом почитания определенных людей, средством практического почитания в определенном месте или времени. Тело, которое со временем обучили слушать, декламировать, двигаться, оставаться неподвижным, быть безмолвным, вступило в контакт с акустикой слов, с их звуками, чувствами и внешним видом. Практика почитания углубляла впечатления от звуков, зрительных образов и других ощущений в чувствах человека. Когда богомолец слышал, что Бог говорит, существовала чувственная связь между внутренним и внешним, происходило слияние означающего и означаемого. Надлежащее чтение писаний, которое позволило слышать, как говорит божество, основывалось на должной дисциплине чувств (особенно слуха, речи и зрения).
Напротив, мифологический метод, которым пользовалась немецкая библейская критика, превратил материальность звуков и знаков писания в духовную (spiritual) поэму, влияние которой рождалось внутри верующего субъекта независимо от чувств. Более раннее изменение содействовало этому сдвигу. Как писал теолог Джон Монтаг, понятие «откровение», обозначающее утверждение, которое исходит от сверхъестественного существа и тем самым требует разумного согласия со стороны верующего, возникает только в раннее Новое время. Он пишет, что для средневековых теологов «откровение прежде всего имело отношение к перспективе взгляда человека на объект в свете предельного смысла собственного существования. Оно не было дополнительным пакетом информации о, если угодно, сумасшедших с рациональной точки зрения или физического наблюдения „фактах“»[64 - Montag J. Revelation: The False Legacy of Suarez // Radical Orthodoxy / Ed. by J. Milbank, C. Pickstock, and G. Ward. New York, 1999. P. 43.]. Согласно Фоме Аквинскому, профетический дар откровения – это страсть, которую нужно пережить, а не возможность, которую нужно использовать, а среди слов, которые он использует для описания этого дара, встречается слово inspiratio[65 - Ibid. P. 46.]. Неоплатоническая система посредничества связывала божественное со всеми созданиями, позволяя посредством языка содействовать соединению божественного и человеческого.
Во время Реформации и Контрреформации божественное, у которого не было посредника, приобрело способность к раскрытию в духовном плане, и его откровения одновременно указывали и на его существование, и на его намерения. Таким образом, язык приобрел сверхреальный статус и способность «представлять» или «отражать» и, следовательно, также и «маскировать» реальное. Мишель де Серто указывает, что «эксперимент в современном смысле этого слова появился вместе с деонтологизацией языка, что также совпадает со временем появления лингвистики. У Бэкона и многих других эксперимент был чем-то противоположным языку, как система, которая язык гарантировала и проверяла. Этот разрыв между дейктическим языком (который показывает и/или организует) и использующим ссылки экспериментом (который освобождает и/или гарантирует) структурирует современную науку, включая „мистическую науку“»[66 - De Certeau M. The Mystic Fable; Volume One: The Sixteenth and Seventeenth Centuries. Chicago, 1992. P. 123.]. Там, где «вера» (faith) когда-то была добродетелью, теперь она приобрела эпистемологический смысл. Вера стала способом познания сверхъестественных объектов, существующих параллельно знанию природы (реального мира), которое обеспечивали разум и наблюдение. Это различие в организации «вдохновения» нуждается в более глубоком рассмотрении, однако можно предположить, что современная поэтическая концепция «вдохновения» – это субъективированное приспособление к изменениям, о которых здесь говорилось.
Конечно, я не хочу делать простое историческое обобщение, поскольку, с одной стороны, идея внутреннего диалога с Богом глубоко укоренена в христианской мистической традиции (как и в нехристианских традициях), а с другой – поскольку слияние звука как такового и звука, имеющего смысл, было частью евангелического опыта по крайней мере с XVIII века[67 - Однако для оппонентов евангелического движения (как христиан, так и деистов, и атеистов) существовала настоятельная необходимость идентифицировать ложные воздействия чувств. «Для оппонентов-либералов, таких как Чонси, речевая непосредственность евангелического благочестия не была по нраву отцам-пуританам и истинному благочестию реформатов; она нравилась квакерам и „французским пророкам“». [«Французские пророки» – милленаристская группа лангедокских гугенотов, которая, бежав в Англию в 1706 году после подавления Людовиком XIV протестантского восстания на юге Франции, заявила о собственном даре пророчества, совершении чудес и скором Втором пришествии. – Примеч. ред.]. «Духовность христиан не заключается в тайных шепотах или слышимых голосах», – с уверенностью провозглашает Чонси. Если у стойких приверженцев евангелизма не было такой совершенной ясности, у них рождались похожие сомнения. Всегда опасаясь угроз, исходящих от страстей и заявлений о прямых откровениях, многие евангелисты-священники могли бы согласиться с англиканским священником Бенджамином Бейли, который в 1708 году, взбешенный воодушевленными сектантами, развенчал «такой вид откровения через крики и голоса» как «наиболее низкий и наиболее сомнительный из всех». «Я полагаю, что признак ученого и благочестивого мужа… не в том, чтобы обосновывать свою веру (belief) на такой пустой вещи как простой голос или небольшой шум, исходящий из?за стены или вообще непонятно откуда». Принимая во внимание, что Бейли хотел защитить исключительную убедительность божественного голоса, который обращался к библейским пророкам, он сделал все, что мог, чтобы делегитимизировать эти не внушающие доверия бесплотные звуки среди современников» (Schmidt L. E. Hearing Things: Religion, Illusion, and the American Enlightenment. Cambridge, 2000. P. 71). Шмидт описывает, как стремление получить практические знания о звуке и слухе в эпоху Просвещения было связано с попытками раскрыть религиозный обман и как это стремление было связано с созданием искусных акустических приборов, при помощи которых (как об этом заявляли секулярные критики) жрецы древности производили «сверхъестественные» эффекты.]. Мой интерес лежит в области генеалогии. Я не утверждаю, что протестантская культура интересовалась исключительно внутренними душевными состояниями, а средневековое христианство с его богатой традицией мистического опыта вовсе ими не интересовалось. Мне интересен прежде всего концептуальный вопрос: в чем состояли эпистемологические следствия различных способов взаимодействия через чувства с писаниями различного толка христиан и свободомыслящих? (Отрицание, подавление, маргинализация одного или нескольких чувств – это, естественно, тоже способы взаимодействия с материальностью чувств). Каким образом Писание как посредник, через которого можно пережить опыт общения с божеством, стало рассматриваться как информация о сверхъестественном или информация, исходящая от него? Или же: каким образом недавно вышедшая на первый план оппозиция между простым «материальным» знаком и истинным «духовным» (spiritual) значением стала ключевой для реконструирования «вдохновения»?
Робертсон Смит – теолог, антрополог и приверженец библейской критики – приводит пример изменения направления и характера вдохновения в статье о Ветхом Завете как поэзии, где он различает поэзию как силу и поэзию как искусство. Это позволяет ему говорить о любой истинной поэзии (как секулярной, так и религиозной) как о «духовной» (spiritual). Когда поэзия идет «от сердца к сердцу»[68 - Противопоставляя Роберта Лоута, который одним из первых стал рассматривать Ветхий Завет как поэзию, Иоанну Готфриду Гердеру, Робертсон Смит пишет: «Пока Лоут занимается искусством еврейский поэзии, веймарский теолог открыто говорит об ее духе. Если последний занимался этим только чтобы порекомендовать избранную поэзию исследователям изящной литературы… первый стремился познакомить читателей через эстетическую форму с подлинным духом Ветхого Завета… Лоут предложил обозреть потоки священной поэзии, не поднимаясь к мистическому истоку. Сила Гердера заключалась в демонстрации того, как благородная поэзия Израиля фонтанирует неограниченной природной силой из глубин духа, которого коснулась вдохновленная божеством эмоция. Лоут находит в Библии целый массив поэтического материала и говорит: „Я желаю оценить величие и другие достоинства этой литературы, например, ее сила оказывать влияние на разум человека, сила, которая пропорциональна способности следовать истинным правилам поэтического искусства“. Нет, говорит Гердер, истинная сила поэзии в том, что она говорит из сердца к сердцу. Истинная критика – это не классификация поэтических средств в соответствии с принципами риторики, но открытие живой силы, которая движет душой поэта. Испытать удовольствие от стихотворения – это значит разделить эмоцию, которую испытал автор» (Smith W. R. Poetry of the Old Testament // Lectures and Essays. London, 1912. P. 405. Курсив оригинального текста). Все ранние поэты, пишет Робертсон Смит, соединяли внутреннее чувство с внешней природой, у древних греков и у неевреев-семитов это единение по-разному отразилось на религии. В последней «мы всегда обнаруживаем религию страстных эмоций, не поклонение внешним силам и природным феноменам в их чувственной красоте, а тем внутренним силам, устрашающим, ибо невидимым, внешние вещи для которых являются всего лишь их символами» (Smith W. R. Poetry of the Old Testament. P. 425). Эволюционный характер мысли здесь состоит в том, что поклонение семитов внутренним (духовным) (spiritual) силам в противовес внешним (материальным) формам позволило им стать обладателями божественного откровения (послание от божества), хотя это движение евреев от формальной к духовной религии постоянно сдерживалось отпадениями к идолопоклонству.], она становится манифестацией трансцендентной силы, которую секулярные литературные критики сегодня называют теологическим термином «богоявление» (epiphany)[69 - Слово «epiphany» в английском языке также означает «озарение» или «просветление». В русском языке игра слов утрачивается. – Прим. перев.].
Скептицизм относительно источника вдохновения – понимаемого как вид коммуникации – привел к сомнению в идее, что писания имеют божественное происхождение, и потому значительно возрос интерес к вопросу их исторической достоверности, их реального происхождения. Если Господь напрямую не является источником Евангелий, то христианская вера (belief) требует, чтобы хотя бы рассказ об Иисусе, который в них содержится, был «правдоподобным», поскольку только в этом случае они гарантированно описывают жизнь и смерть Христа в нашем мире и таким образом являют собой свидетельство об истине Воплощения[70 - «Если вопрос состоит в том, является ли христианство боговдохновенным, – писал теолог XVIII века Иоанн Давид Михаэлис, – то аутентичность Писания или отсутствие таковой становится более важным вопросом, чем можно было бы изначально предположить… Даже если предположить, что Бог не был вдохновителем ни одной книги Нового Завета, а только предоставил Матфею, Марку, Луке, Иоанну и Павлу свободу описать то, что они знали, с условием, что их труды будут аутентичными, достоверными и древними, христианство по-прежнему останется истинным» (цит. по: Bietenholz P. Historia and Fabula: Myths and Legends in Historical Thought from Antiquity to the Modern Age. Leiden, 1994. P. 315–316).].
Много было написано о том, как историки-протестанты помогли сформировать понимание истории как коллективного самобытного субъекта. По словам теолога Джона Строупа, «если новые взгляды на Историю и историков секуляризовали религию откровения, они также имеют тенденцию сакрализовать профанные события и фигуру вселенского историка… К концу века Просвещения священная и светская истории были настолько взаимосвязаны, что стало невозможно их разделить»[71 - Stroup J. Protestant Church Historians in the German Enlightenment // Aufkl?rung und Geschichte / Ed. by H. E. Bodeker et al. G?ttingen, 1986. S. 172.]. Продолжая эту мысль, Старобинский пишет о мифологизации современной истории как прогрессивного процесса: «Недостаточно указать, что уже было сделано многими, на существование „секуляризующего“ процесса в философии эпохи Просвещения, процесса, в котором человек заявляет права собственного разума, которые раньше принадлежали только божественному логосу. Одновременно существовала и обратная тенденция: миф, первоначально исключенный и объявленный абсурдным, теперь наделен глубоким смыслом и оценивается как данная в откровении истина»[72 - Starobinski J. Blessings in Disguise; or, The Morality of Evil. P. 192.].
Я не буду заниматься старыми темами исторической теологии и секуляризации истории, а сфокусируюсь на проекте исторической аутентичности. В связи с этим необходимо заметить, что не существовало отдельной дисциплины секулярной истории, которая была наделена священными характеристиками. Напротив, именно сомнение и беспокойство[73 - Существовали также и другие условия. Строуп пишет: «Возникновение централизованного государства предполагало возникновение группы грамотных людей, взгляды которых не определялись идеями партикуляристского общества. В соответствии с этим процессом в эпоху Просвещения возникало и христианство пиетистского толка, которое акцентировало внимание на терпимости в обществе и личной религиозности: институциональная церковь и ее догмы воспринимались как вторичные. Важным считалось придание христианству независимого от любых существующих в нем фракций облика: христианство, устойчивое к махинациям священнического сословия. Подобная атака на божественную легитимацию, апостольское основание и правовые привилегии существующей институциональной церкви, ее догмы и священников использовала апелляции к истории. Была сделана попытка переформатировать христианство, чтобы удалить острые углы, беспокоившие центральную власть и ее союзников в обществе» (Stroup J. Protestant Church Historians in the German Enlightenment // Aufkl?rung und Geschichte / Ed. by H. E. Bodeker et al. G?ttingen, 1986. S. 170). Тем не менее меня интересуют не мотивы теологов, а техники, которые они разработали, такие как «критика источников», и которые помогли создать современную светскую историю.] христиан – неоднородность жизни христианина – и привели библеистов к разработке техник исследования текста, которые заложили основу современной светской историографии[74 - В создании современной истории, конечно же, существовали и более ранние эпизоды, которые можно увидеть ретроспективно. Так, значительные шаги в этом направлении были предприняты во времена Контрреформации доминиканским теологом Мельхиором Кано, когда он пытался защитить от нападок традиционные учреждения (см.: Franklin J. Jean Bodin and the Sixteenth-Century Revolution in the Methodology of Law and History. New York, 1963. Ch. VII. Melchior Cano: The Foundations of Historical Belief). Меня, однако, здесь интересуют XVII и XVIII века, когда идея «секулярной» истории четко отделилась от «религиозной».]. Герберт Баттерфилд в работе о современной историографии говорит об этом следующим образом: «Истина религии была таким эпохальным вопросом, а полемика вокруг него была такой оживленной, что критические методы стали развиваться в церковных исследованиях еще до того, как кому-то пришла мысль применить их в сфере современной истории»[75 - Butterfield H. Man on His Past: The Study of the History of Historical Scholarship. Cambridge, 1955. P. 15–16. Баттерфилд резюмирует позицию лорда Актона.]. Это движение, строго говоря, не следует воспринимать как перенос методов. Светская критика фактически случайно развивалась благодаря озабоченности относительно очевидной нецелесообразности традиционных практик христианства, что само по себе помогло создать область письменной секулярной истории. Результатом стало четкое разграничение на «научную» историю (включая историю церкви)[76 - Скатывание церковной истории к общей истории человечества было ключевым моментом для возникновения сравнительного религиоведения (см.: Stroup J. Protestant Church Historians in the German Enlightenment // Aufkl?rung und Geschichte / Ed. by H. E. Bodeker et al. G?ttingen, 1986. P. 191).], которая полагалась на скептическое отношение в исследовании в погоне за аутентичностью, и «художественную» литературу (или в общем религию и искусство), которая перестала обращаться к вопросу об обоснованности сделанных суждений. Именно это растущее разграничение закрепило «секулярную историю» – историю как запись того, что «на самом деле произошло» в мире, – и в то же время оно придало форму современному пониманию «мифа», «священного дискурса» и «символизма». Как превращенная в текст память секулярная история, естественно, стала интегральной частью жизни в современном национальном государстве. Хотя она и подвержена, как и все время, о котором есть воспоминания, постоянному переформатированию, реинвестированию и воздействию повторных апелляций, линейность времени секулярной истории стала исключительной мерой любого времени. Перечитывание писаний через призму мифа не только отделило священное от светского, но и помогло создать секулярное как такую эпистемологическую область, в которой история существует как история и как антропология.
В мистическом перечитывании Писания страдания Христа, смерть и воскресение могли быть представлены как основополагающие, но в процессе этой реконструкции христианская вера искала возможности пересмотреть вопрос о вдохновении. Господь, может быть, буквально и не диктовал пророкам Ветхого Завета и апостолам Нового, но верующие христиане искали то, в каком смысле можно было бы сказать, что пророки были «вдохновлены», то есть буквально окутаны дыханием Святого Духа. Гердер начал строить ответ, приписывая пророкам Ветхого Завета дар выражать силу Духа, но именно его последователь Эйхгорн выразил эту идею систематически. Именно он, кроме того, смог по-новому примирить непримиримые заявления скептиков и верующих, что, с одной стороны, пророки являются шарлатанами, а с другой – что они говорили от лица божества. Эйхгорн выдвинул обезоруживающий аргумент, что пророки были вдохновленными художниками. Тем не менее обычно не обращают внимания на тот факт, что пророки были призваны, а художники нет. Художники могут общаться с созданиями Божьими, но не способны слышать его голос, по крайней мере не будучи поэтами.
Принимая во внимание, что вдохновение больше не рассматривалось как общение с божеством напрямую, поэты-романтики стали понимать его так, как его могли бы принять и скептики, и верующие. Элейн Шаффер замечает, что Кольридж использовал сон, галлюцинации и опиум (который он принимал для облегчения боли), чтобы выйти из нормального состояния и достичь того, которое можно было бы назвать просветленным трансом[77 - Существует интересная дискуссия об «анестезическом откровении» в «Многообразии религиозного опыта» У. Джеймса (Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М., 2017. С. 305–306), лекции XVI и XVII. Джеймс является агностиком в отношении вопроса источника мистического опыта, о котором сообщают многие люди, перенесшие анестезию во время операций. Относительно экстазов Терезы Авильской он пишет следующее: «Врачи видят в подобных состояниях экстаза не что иное, как гипнотическое состояние, вызванное внушением или подражанием, и считают, что интеллектуальное основание их возможности кроется в суеверии, физическое же – в вырождении и истерии. Возможно, что патологические условия играют немалую роль во многих, быть может, даже во всех случаях экстаза. Но этим еще не отнимается у состояния сознания, вызванного экстазом, та ценность, какую оно может иметь для нас, как расширение границ нашего познания. Чтобы судить об этих состояниях, мы должны, не довольствуясь поверхностными замечаниями медицины, рассмотреть внимательнее, какие плоды для жизни приносят подобные состояния» (Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М., 2017. С. 324). Религиозная философия Джеймса требует сохранения идеи руководящего сознания, чтобы иметь возможность оценивать все приписываемые единому субъекту действия, исходя из прагматики. В этой оценке единого субъекта Джеймс очень близок Фрейду (с его концепцией сознания, которое неверно понимает язык подавленного бессознательного, бессознательного, которое необходимо разоблачить посредством анализа), чем к идее децентрализованного «я», последовательность опыта которого не поддается восстановлению. Да, Фрейд серьезно усложнил свое прежнее представление о том, что «id» (оно) и «ego» (я) занимают соответственно сферы сознательного и бессознательного, так что со временем само «ego» стало рассматриваться как отчасти бессознательное. Однако проблема остается в том, что совершиться терапевтический анализ не может, если «я» воспринимается как горизонтально децентрализованное.]. Этот и другие случаи представляют более чем простую попытку убедить скептика: новый поворот еще более проблематизирует представление о едином обладающем самосознанием субъекте, утверждая, что фрагментированные части сознания имеют доступ к радикально иному опыту[78 - По-своему это уже начало отмечаться в сенсуалистской психологии Кондильяка и Хартли.].
Согласно теории воображения Кольриджа, поэтический образ допускает изменение обычного восприятия независимо от того, как оно достигается[79 - Shaffer E. S. «Kubla Khan» and The Fall of Jerusalem: The Mythological School in Biblical Criticism and Secular Literature, 1770–1880. Cambridge, 1975. P. 90.]. Не являясь больше оппозицией разуму, как для секулярного Просвещения, «воображение» теперь приобретает некоторые функции разума и выступает противоположностью «фантазии»[80 - Coleridge S. T. Biographia Literaria. 1817.]. Для Кольриджа, хорошо знавшего немецкую библейскую критику, пророки не были людьми, которые пытались предсказать будущее, но были творцами, выражавшими видение прошлого их обществом, прошлого и как обновления прошлого, и как обещания будущего. «Обновление», как гораздо позднее покажет дюркгеймианец Анри Юбер, – это повторение, участие в мифическом времени[81 - См.: Isambert F. At the Frontier of Folklore and Sociology: Hubert, Hertz and Czarnowski, Founders of a Sociology of Religion // The Sociological Domain: The Durkheimians and the Founding of French Sociology / Ed. by P. Besnard. Cambridge, 1983.].
Стало признаваться не только то, что пророки и апостолы не были сверхлюдьми, им даже приписывалось осознание собственной непригодности в качестве каналов откровения. Романтическое понимание поэта предполагает, что напряжение между подлинным вдохновением и человеческой слабостью возможно в моменты субъективных иллюзий, и таким образом объясняется возможность преувеличения и несоответствия. В этом отношении пророки и апостолы не отличаются от остальных. Важна не аутентичность фактов о прошлом, а сила духовной идеи, которую они пытались транслировать как одаренные люди[82 - Как писал гегельянец Давид Штраус в предисловии к эпохальному труду «Жизнь Иисуса» (1835): «И консерваторы, и рационалисты исходят из ложной посылки, что в Евангелиях мы всегда имеем дело со свидетельством о фактах, в некоторых случаях даже переданных очевидцами. Следовательно, у них все сводится к обращенному к себе же вопросу, в чем мог состоять реальный и естественный факт, который засвидетельствован здесь таким неординарным способом. Мы должны понять, что рассказчики иногда представляют (не по отношению к фактам, а по отношению к идеям) наиболее практичные и прекрасные идеи, конструкции, которые даже реальные свидетели бессознательно навязывают фактам, воображение о них, размышления о них, размышления, которые были естественными в то время и естественными для культурного уровня самих авторов. Здесь имеем дело не с ложью, а с неверной интерпретацией истины. Это пластичное, наивное и в то же время часто наиболее основательное понимание истины в сфере религиозного чувства и поэтической интуиции. Его результатом является нарратив, легендарный, мифический по природе, иллюстрирующий в большей степени духовную истину более совершенно, нежели любое тяжелое прозаическое утверждение» (цит. по: Neil W. The Criticism and Theological Use of the Bible, 1700–1950 // The Cambridge History of the Bible. Cambridge. Vol. 3. P. 276).].
ал-маджхар («Секуляризм под микроскопом»). Дамаск, 2000. [Арабоязычные термины и названия передаются в книге в кириллической транслитерации Крачковского–Ромаскевича. – Примеч. ред.]. Я обращаюсь к теме секуляризма и права в Египте под управлением Британии в главе 7.] Здесь, очевидно, на карту поставлен вопрос о том, как секуляризм в виде политической доктрины связан с секулярным в онтологическом и эпистемологическом смыслах.
Несмотря на резкость этих споров, антропологи почти не обращали внимания на идею секулярного, хотя исследование религии было центральной темой дисциплины с XIX века. Собрание программ курсов по антропологии религии для университетов и колледжей, недавно подготовленное для Американской антропологической ассоциации[20 - Buckser A. comp. Course Syllabi in the Anthropology of Religion. Anthropology of Religion Section. American Anthropological Association. December, 1998.], указывает на неослабевающее внимание к темам мифа, магии, колдовства, использования галлюциногенов, ритуала как психотерапии, одержимости и табу. Вместе эти темы намекают, что «религия», объектом которой является священное, принадлежит области нерационального. Секулярное, в котором укоренены современная политика и наука, в этом сборнике не упоминается. К нему не обращаются ни в одном из известных пособий[21 - См., например: Morris B. Anthropological Studies of Religion. Cambridge, 1987, и Rappaport R. Ritual and Religion in the Making of Humanity. Cambridge, 1999. Ни в одной из работ «секулярное», «секуляризм» или «секуляризация» даже не упоминаются, но, естественно, обе работы постоянно обращаются к концепции «сакрального». Обзор Бенсона Салера (Saler B. Conceptualizing Religion. Leiden, 1993) обращается только к – что весьма симптоматично – «секулярному гуманизму как религии», то есть к секулярному, которое также является религиозным. Недавний интерес антропологов к секуляризму отчасти отражен в специальном разделе в журнале Social Anthropology (Vol. 9. 2001. № 3).]. При этом знание о том, что религия и секулярное близко связаны, остается общеизвестным фактом как с нашей точки зрения, так и с точки зрения истории их возникновения. Любая дисциплина, которая пытается осмыслить «религию», должна также осмыслять ее иное. Антропология – дисциплина, которая пыталась понять странности неевропейского мира, – также должна более полно осмыслить, чем по сути она является, будучи одновременно и модерной, и секулярной.
Большое число антропологов начали обращаться к секуляризму, стремясь к упрощенному пониманию современных политических институтов. Там, где другие исследователи видели связанный с терпимостью светский разум, эти разоблачители находили миф и насилие. Так, Майкл Тауссиг возмущается, что веберовское понимание рационально-правовой монополии государства на насилие оказывается неспособным обратиться к «мистическим по природе, таинственным, скручивающим, просто пугающим, мифическим и тайным культурным свойствам и могуществу насилия, когда насилие как таковое становится самоцелью, что является индикатором, как об этом писал Вальтер Беньямин, существования богов». С точки зрения Тауссига, «институциональное проникновение насилия в разум не только уменьшает запросы, отбрасывая его к идеологии, маскировке и влиянию силы, но и… именно встреча разума-и-насилия в Государстве создает в секулярном и современном мире значимость, выраженную заглавной „Г“ – не только очевидное единение функций воли и разума вдохновляется таким образом, но и тончайшие и квазисвященные качества самого вдохновения… сегодня формируют основание нашего бытия как граждан мира»[22 - Taussig M. The Nervous System. New York, 1992. P. 116. Фрагмент выделен курсивом в оригинальном тексте.]. Как только эта рационально-правовая маска исчезнет, как и предлагается, современное государство предстанет совсем не светским. Для критиков основная проблема выражается в вопросе, является ли оправданной наша вера в светский характер государства или общества. Сама по себе категория секулярного остается неисследованной.
Антропологи, которые фиксируют священный характер современного государства, обычно прибегают к рационалистическому пониманию мифа, чтобы заострить собственные критические атаки. Они заявляют, что миф – это «священный дискурс», и соглашаются с антропологами XIX века, которые считали мифы выражением верований в сверхъестественный мир, священные время, существа и места, верований, которые, следовательно, находились в оппозиции к разуму. В целом слово «миф» использовалось как синоним иррационального или нерационального, для обозначения связи с традицией в современном мире, для политических фантазий и опасной идеологии. В такой манере размышления миф представляет собой противоположность светскому даже для тех, кто применяет это понятие в позитивном смысле.
Далее я буду часто обращаться к понятию мифа, но мне неинтересно развивать теорию этого понятия. На этот счет существует несколько книг[23 - См., например: Strenski I. Four Theories of Myth in Twentieth-Century History. Iowa City, 1987; Segal R. Theorizing About Myth. Amherst, 1999; и Lincoln B. Theorizing Myth. Chicago, 2000.]. Здесь я хочу проследить практические результаты использования этого термина в XVIII, XIX и XX веках, чтобы рассмотреть некоторые варианты возникновения светского. Слово «миф», которое современность унаследовала от Античности, питает множество знакомых оппозиций: вера и знание, разум и фантазия, история и вымысел, символ и аллегория, естественное и сверхъестественное, священное и профанное – бинарные оппозиции, пронизывающие дискурс светского, особенно в его полемическом модусе. Поскольку мне интересна изменяющаяся сеть концептов, образующая светское, я обращусь к некоторым из этих оппозиций.
Термины «секуляризм» и «приверженец секуляризма»[24 - В оригинальном тексте использован термин secularist, однако в русском языке термина «секулярист» не существует. – Примеч. пер.] появились в английском языке благодаря свободомыслящим авторам середины XIX века, чтобы избежать обвинений в «атеизме» и «безбожии», что в обществе по большинству все еще христианском фактически было созвучно обвинению в безнравственности[25 - Слово «секуляризм» ввел в употребление Джордж Якоб Холиок в 1851 году. «Предполагалось, что секуляризм станет отличительной чертой антитеистической позиции самого Холиока по отношению к атеистическим заявлениям Ч. Брэдлоу. При этом, хотя Ч. Брэдлоу, Ч. Воттс и Дж. В. Фут и другие атеисты воспринимались как часть секуляристского движения, сам Холиок всегда стремился показать, что социальные, политические и этические цели секуляризма не обязательно подразумевают приверженность атеизму, надеясь этим привлечь на свою сторону либерально настроенных теистов, относящихся без предубеждений к собственному теизму, – этого взгляда Холиок придерживался очень жестко, хотя распространения эта позиция так и не получила. (Waterhouse E. S. Secularism // Encyclopedia of Religion and Ethics / Ed. James Hastings. Vol. II. P. 348).]. Эти эпитеты имеют значение не потому, что свободомыслящие беспокоились за свою личную безопасность, а потому, что они пытались придать направление зарождающейся политике массовых социальных реформ в быстро индустриализирующемся обществе[26 - Chadwick O. The Secularization of the European Mind in the 19th Century. Cambridge, 1975.]. Существовавшие долгое время индифферентность, неверие и враждебность по отношению к христианским ритуалам и учреждениям теперь начинали связываться с проектами полной реконструкции общества средствами законодательства. Начинался процесс критического переформирования отношений между государственной законодательной системой и личными моральными принципами[27 - Этот исторический момент представляет важную часть более длительного процесса. Стоит обратиться к описанию постепенного уменьшения – со Средних веков по XIX век – правовой регуляции отношений, которые теперь стали рассматриваться как часть личной морали, в книге Джеймса Стивена «История криминального права Англии» (Stephen J. F. A History of the Criminal Law of England. London, 1883. Vol. 2. Ch. 25. Offences Against Religion).]. Этот сдвиг стал предпосылкой нового понимания общества как совокупности индивидов, обладающих не только субъективными правами и привилегиями и наделенных чувством морали, но также обладающих способностью выбирать собственных политических представителей. Этот сдвиг совершился единовременно в революционной Франции (исключение составили женщины и прислуга) и постепенно происходил в Англии XIX века. Повсеместное распространение суфражистского движения было, в свою очередь, связано, как показал М. Фуко, с новыми методами управления, которые основывались на новых способах классификации и оценки и новых формах субъектности. Эти принципы управления были секулярными в том смысле, что имели дело исключительно с мирскими отношениями, что в корне отличалось от средневековой концепции социального организма, который составляют христианские души, наделенные равным достоинством, существующие одновременно и в Граде Божьем, и в сотворенном Богом человеческом обществе. Совершённый в XIX веке дискурсивный переход от идеи о неизменности «человеческой природы» к пониманию человека в терминах установленной «нормальности» содействовал развитию секулярной идеи морального прогресса, определяемого и направляемого самим человеком. Коротко говоря, секуляризм как политическая доктрина и доктрина управления рождается в либеральном обществе XIX века, что понять гораздо проще, нежели идею секулярного. При этом оба понятия являются взаимообусловливающими.
Далее будет представлена не социальная история секуляризации и даже не история идеи. Мы занимаемся исследованием эпистемологических гипотез секулярного, что поможет нам более ясно увидеть, что именно может войти в антропологию секуляризма. Я утверждаю, что секулярное не является неотделимым от религиозного, которое предположительно ему предшествовало (то есть не является позднейшей формой развития священного), и не представляет просто разрыв с религиозным (то есть не является противоположностью, сущностью, которая исключает священное). Мне представляется, что светское является концепцией, которая связывает определенные типы поведения, знания и эмоциональности, существующие в современном мире. Недостаточно показать, что кажущееся необходимым на самом деле случайно, что в некоторых аспектах «секулярное» очевидно пересекается с «религиозным». Задача состоит в том, чтобы показать, как случайность соотносится с изменением грамматики концептов, то есть, как изменение концепта формирует изменения в поведении[28 - Понятие «грамматика» здесь, безусловно, основывается на идее Л. Витгенштейна о грамматических исследованиях. Это понятие часто встречается в его поздних работах, особенно раздел 90 в: Витгенштейн Л. Философские исследования. М., 2018.]. Моей целью в этой главе, следовательно, является не обзор исторического нарратива, а проведение серии исследований аспектов явления, называемого нами «секулярное» (светское). С моей точки зрения, секулярное не едино с точки зрения происхождения и не стабильно с точки зрения исторической идентичности, хотя и функционирует в рамках целого ряда оппозиций.
Материал я почти полностью черпаю из истории Западной Европы, ведь именно она оказала определяющее влияние на способы осмысления и претворения в жизнь доктрины секуляризма по всему модернизирующемуся миру. Я пытаюсь понять секулярное, осмыслить, как именно оно возникло, стало реальным, было сопряжено и оторвано от конкретных исторических условий.
Предлагаемый мной анализ представляет собой противоположность триумфалистской истории секулярного. Я принимаю взгляд, как до меня делали и другие, что «религиозное» и «светское» по своей сути не являются фиксированными. Тем не менее, я не считаю, что если убрать все наносное, то можно увидеть, что некоторые очевидно светские институты на самом деле являются религиозными. Напротив, я предполагаю, что сущностно религиозного просто не существует, как не существует универсальной сущности, определяющей «священный язык» или «опыт священного». Я также предполагаю, что имели место разрывы между христианской и светской жизнью, когда слова и действия были реструктурированы, а новые дискурсивные грамматики сменили старые. Мне кажется, что необходимо предпринять более подробное исследование результатов этих сдвигов. Поэтому я рассматриваю фрагменты истории дискурса, о которых часто говорится, что они являются неотъемлемой частью «религии» – или по меньшей мере близко с ней связаны, – чтобы показать, как сакральное и светское зависят друг от друга. Я коротко останавливаюсь на вопросе о том, как именно религиозный миф содействовал формированию современного исторического знания и современной поэтической эмоциональности (вскользь также показывая, как эта эмоциональность была воспринята некоторыми современными арабскими поэтами), но, с моей точки зрения, это не сделало ни историю, ни поэзию по сути «религиозными».
Сказанное верно и в отношении недавних заявлений либеральных мыслителей, для которых либерализм – это своего рода искупительный миф. Я указываю на присущую ему жестокость, но необходимо быть очень осторожным, чтобы не спутать его с искупительным мифом христианства, несмотря на их сходство. Само собой разумеется, моей целью не является ни критика, ни поддержка этого мифа. В более широком смысле, я не намерен атаковать либерализм ни как политическую систему, ни как этическую доктрину. Здесь, как и в других случаях, я только хочу избавиться от идеи, что секулярное – это маска для религии, что секулярные политические действия часто имитируют религиозные. Я завершаю кратким обзором двух концепций «секулярного», которые, мне кажется, доступны антропологии сегодня, а делаю я это, дискутируя с текстами Поля де Мана и Вальтера Беньямина.
Чтение об истоках: миф, истина и власть
В западноевропейские языки слово «миф» пришло из древнегреческого, а истории о греческих богах были парадигматическими объектами критических размышлений, когда мифология стала академической дисциплиной в раннее Новое время. По этой причине необходимо привести короткую историю термина и концепции.
Брюс Линкольн открывает книгу «Теория мифа» замечательной историей греческих терминов «миф» (?????) и «логос» (?????). Мы читаем, что Гесиод в «Трудах и днях» связывает речь-миф с истиной (???????), а речь-логос с ложью и лицемерием. Речь-миф – это мощная речь, речь героев, привыкших побеждать. У Гомера, как указывает Линкольн, ????? обычно относится к речи, целью которой является или успокоить кого-либо, или отговорить воинов от поединка.
В контексте политических собраний ????? предстают в двух видах: «правильном» и «испорченном». ????? функционируют в контексте права так же, как ????? в контексте войны. ????? у Гомера «это обозначающее власть речь-действие, совершаемое обстоятельно, обычно на публике, с полным вниманием к каждой детали»[29 - Martin R. The Language of Heroes. Ithaca, 1989. P. 12; цит. по: Lincoln B. Theorizing Myth. Chicago, 2000.]. Оно никогда не обозначает символическую историю, которую необходимо расшифровывать, или, если уж на то пошло, ложную историю. В «Одиссее» Одиссей превозносит поэзию, утверждая, что она истинна, воздействует на эмоции слушателей, способна улаживать разногласия, и заканчивает он свой поэтический рассказ, заявляя, что он только что «изложил ?????»[30 - Бельгийский антиковед и антрополог Марсель Детьен замечает, что Геродот называет свои истории ????? или ?????, но никогда ?????. «Известные „священные речи“, которые в нашем обиходе очень просто интерпретируются как „мифы“, особенно принимая во внимание, что эти традиции часто связаны с ритуальными жестами и действиями, никогда не называются ?????» (Detienne M. Rethinking Mythology // Between Belief and Transgression / Ed. by M. Izard and P. Smith. Chicago, 1982. P. 49).].
Первоначально поэты приписывали собственные речи божественному вдохновению, называя их ????? (что современные люди называют на новый манер сверхъестественным миром), позже софисты учили, что любая речь рождается у человека (который живет в этом мире). «В то время как христианское мировоззрение совершенно отделяет Бога от мира, – пишет Ян Бреммер, – греческие боги не были трансцендентны и напрямую участвовали в природных и социальных процессах… Именно эти связи между человеческим и божественным мирами в недавнем исследовании греческого мировоззрения назывались „взаимосвязанными“ относительно нашей собственной „разделительной“ космологии»[31 - Bremmer J. Greek Religion. Oxford University Press, 1994. P. 5.]. Однако здесь поставлено на карту гораздо больше, чем вопрос об имманентности или трансцендентности божества относительно мира природы. Само понятие «природа» внутренне трансформируется[32 - О самых ранних трансформациях такого рода см.: Collingwood R. G. The Idea of Nature. Oxford, 1945. В этой книге греческая космология противопоставляется тому, как на природу смотрели в более позднее время.]. Представления о христианском Боге, помещенном в отдельный мир «сверхъестественного», указывают на возникновение светского пространства, которое начинает появляться в раннее Новое время. Это пространство позволяет переосмыслить «природу» в качестве поддающегося воздействию материала, детерминированного, гомогенного и подчиняющегося законам механики. Все за пределами этого пространства, следовательно, является «сверхъестественным» – местом, которое многие считают фантастическим продолжением реального мира, населенным бессмысленными событиями и воображаемыми существами[33 - См.: Funkenstein A. Theology and the Scientific Imagination: From the Middle Ages to the Seventeenth Century. Princeton, 1986. Книга прослеживает становление нового научного мировоззрения с присущими ему идеями соответствия знака и значения и гомогенности природы, а также математизации и механизации, появившимися в XVII веке. А. Функенштейн показывает, особенно в главе 2 «Вездесущность Бога, тело Бога и четыре идеала науки», как в связи с этим теологии потребовалось создать новую онтологию и эпистемологию божества.]. Эта трансформация оказала значительное влияние на значение слова «миф».
????? поэтов, как говорили софисты, не только негативно воздействуют на эмоции, но еще и лживы, поскольку говорят о богах, хотя даже в качестве лжи они могут оказывать благотворительный эффект на аудиторию. Эта мысль была развита Платоном, который придал ей новое звучание: с его точки зрения, прежде всего философы, а не поэты ответственны за моральное развитие. Атакуя поэзию, Платон изменил смысл слова «миф»: оно стало означать социально полезную ложь[34 - Lincoln B. Theorizing Myth. Chicago, 2000. Р. 42.].
Основатели мифологии как дисциплины в эпоху Просвещения, например Фонтенель, перенесли представления Античности на собственных богов. Как и для многих образованных людей своего времени, исследование мифа представлялось ему возможностью поразмышлять об ошибках человека. Он писал: «Хотя мы являемся несравненно более просвещенными, нежели те люди, грубый разум которых из лучших побуждений сочинил Мифы, мы легко понимаем то направление ума, которое делало Мифы настолько привлекательными. Люди поглощали Мифы, поскольку в них верили, мы поглощаем их с не меньшим удовольствием, хотя в них и не верим. Не существует лучшего доказательства того, что воображение и разум мало связаны и что вещи, относительно которых разум лишился всяких иллюзий, при этом не теряют привлекательности для воображения»[35 - Цит. по: Starobinski J. Blessings in Disguise; or, The Morality of Evil. Cambridge, 1993. P. 186.]. Фонтенель проделал большую работу, придя к выводу о возможности естественного, природного объяснения «сверхъестественных» явлений во время, когда «природа» возникла как отдельная сфера опыта и исследования[36 - Сделанные Фонтенелем разоблачения в «Истории оракулов» (Histoire des oracles (1686)) были вскоре опубликованы в Англии под названием «История оракулов, или Обман языческих жрецов» (The History of Oracles, and the Cheats of Pagan Priests. London, 1688).].
При этом в целом в эпоху Просвещения мифы не были исключительно объектами «веры» (belief) и «рационального исследования». В качестве элементов высокой культуры в раннее Новое время в Европе они были неотъемлемой частью характерной для этой культуры эмоциональности: культивируемой способности к тонким чувствам, особенно симпатии, и способности взволноваться от трогательного в изобразительном искусстве и литературе. Стихи, картины, театр, общественные памятники и убранство частных домов богатых людей впрямую изображали или намекали на качества или приключения греческих богов, богинь, чудовищ и героев. Знание этих историй и фигур было необходимой частью образования высшего класса. Мифы позволяли писателям и художникам представлять современные события и чувства, как мы бы сказали сегодня, в виде беллетристики. Мифологический стиль в равной степени способствовал идеализации земной любви и преувеличенному восхвалению суверена, что в свою очередь способствовало появлению сатиры, стремившейся к разоблачению или удалению символического смысла. Таким образом обходными путями можно было критиковать церковные власти, не опасаясь сразу же быть обвиненным в богохульстве. В целом резкая критика мифических фигур и событий в литературе продемонстрировала, что люди предпочли разумную жизнь счастья героическому идеалу, который с течением времени воспринимался все менее и менее приемлемым в буржуазном обществе. Однако, как нам напоминает Жан Старобинский, миф был больше чем декоративным или сатирическим языком, который использовался для отдаления от героического социального идеала. Для великих трагедий и опер XVII и XVIII веков мифы предоставляли материал, на основании которого можно было исследовать человеческие страсти[37 - Starobinski J. Blessings in Disguise. P. 182.].
По этой причине вопрос, верили ли люди в эти древние нарративы, или, как предполагает Фонтенель, воображение сделало их не-истины привлекательными, не вполне касается сферы, в которой мифический дискурс существовал в этой культуре. Миф был не просто представлением/искажением реальности. Он был материалом, формирующим возможности и границы действия. В целом можно сказать, что миф достиг этого, удовлетворяя желание людей обнаруживать реальное: желание, которое стало все сложнее удовлетворять с ростом числа эмпирических возможностей, предоставляемых модерностью.
Некоторые современные комментаторы заметили, что высказывания в духе Фонтенеля обозначили смену старой оппозиции между сакральным и профанным на оппозицию между воображением и разумом, то есть принципы, которые ознаменовали начало секулярного Просвещения[38 - Среди них и Старобинский.]. По их мнению, это изменение необходимо рассматривать как смену религиозной гегемонии секулярной. С моей точки зрения, здесь мы сталкиваемся с чем-то более сложным.
Прежде всего, в новой оппозиции Разум наделяется основными функциями по защите, оценке и регуляции воображения человека, к которому и был приписан «миф». Марсель Детьен пишет об этом так: «Процедуры исключения множатся в дискурсе науки о мифах, языке сплетен, который осуждает любое проявление инаковости. Мифология находится на стороне примитивных, низших рас, народов природы, языка начала, детства, первобытности, сумасшествия – всегда в качестве исключаемой фигуры представляет иное»[39 - Detienne M. Rethinking Mythology // Between Belief and Transgression / Ed. by M. Izard and P. Smith. Chicago, 1982. P. 46–47. Курсив оригинала.]. Однако священное не было наделено такими функциями в прошлом, и не существовало единой сферы социальной жизни и мысли, которую организовывала бы концепция «сакрального». Вместо этого были хаотичные места, объекты, время, каждое со своими качествами и требованиями определенного поведения и слов по отношению к нему. На этом необходимо остановиться подробнее, поэтому я обращусь к анализу оппозиции сакральное/профанное, а затем вернусь к теме мифа.
Отступление о «сакральном» и «профанном»
В латинском языке времен Римской республики слово sacer относилось к любому объекту в собственности божества, который был «изъят из сферы профанного действием Государства и переведен в сферу сакрального»[40 - Fowler W. W. The Original Meaning of the Word Sacer? // Roman Essays and Interpretations. Oxford, 1920. P. 15.]. Однако даже тогда существовало занимательное исключение: термин homo sacer использовался в отношении любого, кто в результате проклятия (sacer esto) становился вне закона и которого можно было безнаказанно убить. В то время, пока священность отданной богу собственности делала ее неприкосновенной, священность homo sacer неминуемо делала его жертвой насилия. Это противоречие классицисты (с благодарностью за помощь коллегам-антропологам) объясняют через «табу», которое представляется как примитивное понятие, смешивающее идеи сакрального с идеями нечистого, идеи, которые «духовная» религия позже должна была различить и использовать более последовательно[41 - «Если в выражении sacer esto значение слова sacer установлено верно, то, мне кажется, мы можем отследить его более древний пласт, когда оно означало просто „табу“ без отсылки к божеству; мы уже выяснили, что, по-видимому, оно именно так использовалось в одном или двух древних законах» (Fowler W. W. The Original Meaning of the Word Sacer? // Roman Essays and Interpretations. Oxford, 1920. P. 21). Предложенное здесь эволюционное объяснение на первый взгляд сомнительно и неуместно. Джорджо Агамбен высказал более интересную мысль, что «священный человек» как объект проклятия sacer esto должен рассматриваться через отношение с логикой суверенной власти, которую исследователь считает абсолютной властью над жизнью и смертью в книге «Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь» (Агамбен Д. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М., 2011).]. Концепция, что «табу» является первичным источником «сакрального», имеет долгую историю в антропологии, где ее позаимствовали не только антиковедение для понимания античной религии, но и христианская теология для реконструкции «истинной» религии. Антропологическая часть этой истории критически рассмотрена в работе Франца Штайнера, где он показывает, что понятие «табу» выстраивается на весьма шатких этнографических и лингвистических основаниях[42 - Штайнер, собственно, утверждает, что табу – это викторианское изобретение, вызванное к жизни идеологическими и социальными реалиями самого викторианского общества (см.: Steiner F. Taboo. London, 1956).].
Согласно Оксфордскому словарю английского языка, «священное» в английском языке раннего Нового времени относилось к индивидуальным вещам, людям и событиям, которые были отделены и получили право на почитание. При этом, если мы рассмотрим примеры из словаря, в строке «Как могла священный, заповедный плод сорвать кощунственно?»[43 - Строка «That sacred Fruit, sacred to abstinence» – строка из «Потерянного Рая» Д. Мильтона. Русский вариант дается по переводу А. Штейнберга. – Примеч. пер.], посвящении «священной памяти Самюэля Батлера» (sacred to the memory of Samuel Butler), формальном обращении «ваше святейшество» (your sacred majesty), фразе «концерт духовной музыки» (sacred concert) практически невозможно сказать, что отделение или почитание во всех этих случаях направлено на один и тот же акт. Субъект, по отношению к которому эти вещи, события или люди заявляются как священные, не находится в одном и том же отношении к ним. Именно в конце XIX века антропологическая и теологическая мысль свела множество пересекающихся контекстов использования понятия, укорененного в меняющихся и неоднородных формах жизни, в единую неизменную сущность и заявила, что она является универсальным объектом человеческого опыта, называемым «религиозное»[44 - Классическая формулировка принадлежит Э. Дюркгейму: «Все известные религиозные верования, простые или сложные, содержат одну и ту же общую черту: разделение всех реальных или идеальных вещей, которые могут представить себе люди, на два класса, два противоположных рода, обычно обозначаемые двумя различными терминами, которые достаточно хорошо передаются словами „профанное“ и „сакральное“. Разделение мира на две области, одна из которых включает в себя все то, что священно, а другая – все то, что является профанным, – вот отличительная черта религиозного мышления. Верования, мифы, догмы и легенды – это представления или системы представлений, выражающие природу священных вещей, свойств и способностей, которые им приписываются, их историю, отношения между собой и с профанными вещами. Но под священными вещами не следует понимать только те личностные существа, которые называются богами или духами; гора, дерево, источник, булыжник, кусок дерева, дом – словом, любая вещь может быть священной. Обряд также может обладать этой характеристикой. Фактически не существует обряда, которому она не была бы присуща хоть в какой-то степени. Есть слова, выражения и формулы, которые могут исходить только из уст посвященных лиц; есть жесты и действия, которые не могут совершаться всеми (Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии. М.: Элементарные формы, 2018. С. 80–81). Критики протестовали против идеи Э. Дюркгейма о том, что профанное и священное являются взаимоисключающими сферами, поскольку профанные вещи могут становиться священными и наоборот (см. статью, где автор защищает позицию Дюркгейма: Paden W. Before «The Secular» Became Theological: Rereading The Durkheimian Legacy // Method and Theory in the Study of Religion. 1991. Vol. 3. № 1). Позднее критики стали утверждать, что священное и профанное обычно «смешаны воедино». Тем не менее даже эти критики принимают тезис об универсальности сакрального, которое они представляют как особый тип власти. Идея, против которой они протестуют, состоит в утверждении жесткого отделения сакрального от «материальности повседневной жизни» (см.: McDannell C. Material Christianity. New Haven, 1995. Ch. 1).]. Представляемой как универсальной оппозиции «сакрального» и «профанного» не существует в книгах, написанных до начала Нового времени. В средневековой теологии превалирующие антиномии заключались в «божественном» (divine) и дьявольском (satanic) (оба представляют трансцендентные силы) или духовном (spiritual) и мирском (temporal) (оба представляют земные институты), а не в сверхъестественном священном и естественном профанном.
Во Франции, например, слово sacrе не использовалось в языке простых христиан в Средние века и раннее Новое время[45 - Despland M. The Sacred: The French Evidence // Method and Theory in the Study of Religion. 1991. Vol. 3. № 1. P. 43.]. Оно использовалось только в среде образованных людей и могло отсылать к определенным вещам (сосудам), институтам (Коллегии кардиналов) или людям (телу короля), однако никакого уникального опыта в отношении объектов, к которым это понятие отсылало, не предполагалось, а сами вещи не отделялись одинаковым способом. Saintetе – это слово и концепт, который был значим для народной религии всего исторического периода – как относительно практической, так и эмоциональной стороны – и который характеризует способность делать добро, присущую некоторым людям и их реликвиям, близко связанным с простым народом и их обыденным миром. Слово sacrе становится актуальным во время революции и приобретает пугающие отзвуки секулярной власти. Так, в преамбуле «Декларации прав человека» (1789) говорится о «естественных, неотчуждаемых и священных (sacrеs) правах человека». Право собственности также называется sacrе в статье 17. Фраза «священная любовь к отечеству» (L’amour sacrе de la patrie) имела всеобщее распространение в XIX веке[46 - См.: Ibid.]. Очевидно, личный опыт, на который указывают приведенные значения, и поведение, которое ожидается от гражданина, заявляющего, что он имеет этот опыт, являются совершенно отличными от того, что обозначал термин «священное» в Средние века. Теперь он стал частью дискурса, неотделимого от функций и стремлений модерного секулярного государства, в котором сакрализация отдельных граждан и коллективов выражает форму ассимилированной власти[47 - См. великолепно выполненную историю введения всеобщего избирательного права во Франции: Rosanvallon P. Le sacrе du citoyen. Paris, 1992.].
Французский социолог Франсуа Исамбер детально описал, как дюркгеймианская школа, основываясь на идее Робертсона Смита, что «табу» является типичной формой примитивной религии, пришла к концепции «священного» как всеобщей сущности[48 - Isambert F. Le sens du sacrе. F?te et religion populaire. Paris, 1982.]. Священное стало отсылкой ко всему, что вызывало интерес общества – коллективным состояниям, традициям, эмоциям, – которые последнее развивало как представления, было даже заявлено, что священное – это источник развития когнитивных категорий[49 - Исамбер указывает, что именно из?за этой изначальной инклюзивности поиск того, что определяет особенность религии, стал бессмысленным: «Итак, мы видим, что данное выражение сферы сакрального весьма удачно послужило обоснованию идеи эволюции различных областей мысли из религии. Однако это понятие в то же время стало непригодным для определения специфики религиозной сферы» (Op. cit. P. 221).]. Священное, первоначально сформированное антропологами и затем захваченное теологами, стало скрытым в вещах универсальным качеством и объективным пределом мирских действий. Священное сразу же стало трансцендентной силой, навязывающей себя субъекту, и пространством, которое ни при каких обстоятельствах и под страхом катастрофических последствий не могло быть нарушено, то есть подвергнуто профанации. Коротко говоря, «священное» было сформировано как таинственная, мистическая сущность[50 - «Таким образом сакральное стало представлять собой мифологический объект» (Op. cit. P. 256).], фокус моральной и административной дисциплин.
Именно в контексте новой рождающейся дисциплины – сравнительного религиоведения – антропология развивала понятие трансцендентного священного. Интересную версию этого процесса можно найти в работе Р. Маретта[51 - Маретт известен высказыванием, что «религия дикарей скорее не выдумывается, а вытанцовывается» (savage religion is something not so much thought out as danced out). См.: Marett R. R. The Threshold of Religion. Oxford, 1914. P. xxxi. Он также стал авторитетным источником для Э. Фаулера в его авантюре с эволюционной антропологией (см. прим. 2 на с. 49).], который предложил считать, что ритуал обладает функцией регулирования эмоций, особенно в критических для жизни ситуациях. Из этой идеи выросло его хорошо известное антропологическое определение таинств: «В антропологических целях определим таинство как любой обряд, конкретной целью которого является освящение или наделение священным статусом. Или более однозначно: подразумевается любой обряд, который посредством утверждения или положительного благословения наделяет природную функцию собственной сверхъестественной властью»[52 - Marett R. R. Sacraments of Simple Folk. Oxford, 1933. P. 4.].
Такое понятие о таинствах как об институте, призванном облечь жизненные кризисы («брак», «смерть» и т. д.) «сверхъестественной властью», которая, как пишет Маретт, фактически являясь «религиозной психотерапией», в целом может применяться для сравнения. Однако в обозначенной сфере оно совершенно контрастирует со средневековым христианским пониманием таинства. Теолог XII века Гуго Сен-Викторский, отвечая на вопрос, что такое таинство, первоначально предлагает обратиться к общепринятому определению: «Таинство – это знак священной вещи», но затем замечает, что это определение не хорошо, поскольку многие статуи и картины, а также слова Священного Писания являются по-своему знаками священного, не будучи священными. Далее он предлагает более качественное определение: «Таинство – это телесный или материальный элемент [звуки, жесты, облачения, инструменты], представленный нашим чувствам вовне, обозначающий по схожести, символизирующий через институцию и содержащий по освящению некоторую незримую и духовную благодать». Например, вода крещения обозначает очищение души от грехов по аналогии с очищением тела от грязи, имеет символическое значение для верующего, отсылая к жизни Христа, открывающей новые вехи, и передает – посредством слов и действий проводящего обряд крещения священника – духовную благодать. Все три функции не являются самоочевидными, но они должны быть установлены и истолкованы обладающими властью. (Христиане Средних веков понимали смысл используемых в мессе сложных аллегорий из авторизованных комментариев.) Таким образом, согласно Гуго, таинство с момента его освященного авторитетом возникновения представляло сложную сеть означаемых и означающих, которая, подобно иконе, работает как памятный знак. Икона одновременно является и самой собой, и представлением того, что уже присутствует в должным образом дисциплинированном сознании участников, она отсылает и назад, к воспоминаниям, и вперед, к ожиданиям христиан[53 - Подробнее вопрос о таинствах у Гуго Сен-Викторского я разбираю в книге «Генеалогии религии»: Asad T. Genealogies of Religion. Baltimore, 1993. Р. 153–158.]. Не имеет смысла высказывание с отсылкой на мнение Гуго, что в таинствах «естественные» функции наделены «сверхъестественной» силой (то есть трансцендентным даром); еще меньше смысла в утверждении, что таинства – это вид психотерапии, помогающей людям в периоды кризисов (полезный миф). Гуго настаивает, что в жизни существуют ситуации, когда таинства не считаются таковыми: «Именно поэтому безбожники видят только видимые вещи и гнушаются почитать таинства спасения, видя только низкое без невидимых образов, они не могут распознать невидимой добродетели внутри и плодов послушания»[54 - Hugh of St. Victor. On the Sacraments of the Christian Faith / Ed. by R. J. Defarrari. Cambridge, 1951. P. 156.]. Авторитет таинств уже сам по себе является соприкосновением христианина с тем, что он понимает как воплощение божественной благодати[55 - Согласно Джону Милбанку, в поздние Средние века произошел серьезный сдвиг в понимании того, что такое «таинство», оно стало восприниматься как внешнее проявление. Этот семантический сдвиг имел далеко идущие последствия для современной религиозности (личная переписка). См. также: de Certeau M. The Mystic Fable. Chicago, 1992. Особенно см. главу 3.]. Благодать воспринимается как состояние неосознанности в отношениях с богом, а не как плата за ритуальное усердие.
Что поспособствовало эссенциализации «священного» как внешней трансцендентной силы? Предварительно я бы сказал, что новые теоретические построения были связаны с фактами столкновений европейского и неевропейского миров, что в просвещенном времени и пространстве было засвидетельствовано созданием «религии» и «природы» как универсальных категорий. Начиная с раннего Нового времени, в течение периода, который затем ретроспективно стал называться эпохой Просвещения, и весь долгий XIX век как в самой христианской Европе, так и в ее владениях по всему миру вещи, слова и деятельность, отличающие и ставшие специфическими для «естественных народов», рассматривались европейцами как «фетиш» и «табу»[56 - Pietz W. The Problem of the Fetish, I // Res. No. 9, 1985; Steiner F. Taboo. London, 1956.]. Что называлось в XVI и XVII веках в теологических терминах «идолопоклонством» и «культом сатаны»[57 - Hodgen M. T. Early Anthropology in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Philadelphia, 1964.] (служением ложным богам), в рамках обращенной к эволюционизму мысли XVII–XVIII веков стало секулярной концепцией «суеверия» (бессмысленного выживания)[58 - См.: Belmont N. Superstition and Popular Religion in Western Societies // Between Belief and Transgression / Ed. by M. Izard and P. Smith. Chicago, 1982.], однако продолжило восприниматься как объекты и отношения, ошибочно наделенные статусом реальных и имеющих действенную силу. Перед тем как освободить людей от своего влияния, они должны были стать категориями иллюзии и угнетения, как это зафиксировал Фрейд, используя категории «фетиш» и «табу» для определения симптомов примитивного вытеснения в психопатологии современного человека.
Можно, таким образом, предположить, что «профанация» – это вид насильственной эмансипации от ошибок и деспотизма. Разум требует, чтобы ложные вещи были запрещены и уничтожены или же перефразированы и перемещены как объекты, которые нужно рассмотреть, увидеть или потрогать правильно сформированными органами чувств. Успешно срывая маски с мнимой власти (профанируя ее), универсальный разум демонстрирует собственный легитимный статус. При наделении властью новых вещей этот статус только укрепляется. Таким образом, «священное право собственности» стало универсальным после того, как церковная собственность и общинная земля потеряли особый статус. «Неприкосновенность совести» стала означать универсальный принцип в противовес церковной власти и казуистически получившим одобрение правилам. В тот самый момент, когда они могли стать секулярными, эти притязания стали восприниматься как трансцендентные и породили правовые и моральные дисциплины для защиты себя (с применением жестокости там, где это необходимо) в качестве универсальных понятий[59 - Дюркгейм о светской морали: «Так, сфера морали будто бы окружена таинственной преградой, удерживающей профанаторов, так же, как сфера религии избавлена от посягательств профанного. Эта сфера сакральна» (Ainsi le domaine de la morale est comme entourе d’une barri?re mystеrieuse qui en tient ? l’еcart les profanateurs, tout comme le domaine religieux est soustrait aux atteintes du profane. C’est un domaine sacrе). Цит. по: Isambert F. Le sens du sacrе. F?te et religion populaire. P. 234.]. Хотя и может казаться, что профанация смещает фокус с трансцендентального на повседневное, на самом деле она реконструирует барьеры между иллюзорным и реальным.
Развивая идеи Дюркгейма, Ричард Камсток выразил идею, что «священное как тип поведения – это не просто ряд внешних признаков, но и набор правил: предписаний, разного рода запретов, которые определяют форму поведения и решают вопрос, попадает ли ситуация под действие рассматриваемой категории»[60 - Comstock R. A Behavioral Approach to the Sacred: Category Formation in Religious Studies // The Journal of the American Academy of Religion. 1981. Vol. XLIX. № 4. P. 632.]. Это замечание полезно, хотя, мне кажется, также необходимо принимать во внимание следующие три момента: 1) любое управляемое правилами поведение несет в себе социальные санкции, однако 2) жесткость этих санкций варьируется в соответствии с той опасностью, которую нарушение правила представляет для определенного общественного порядка, при этом 3) оценка опасности не остается одинаковой и исторически изменяется. Это должно переключить нашу поглощенность определениями «священного» как объекта опыта на более широкие вопросы, каким образом формируется гетерогенный ландшафт власти (морали, политики, экономики), какие дисциплины (индивидуальные и коллективные) для этого необходимы. Сказанное не означает, что «священное» нужно рассматривать как маску власти, однако мы должны обратить внимание на то, что именно делает определенные практики концептуально возможными, желательными и обязательными, включая повседневные практики, которые упорядочивают опыт субъекта[61 - Интересно, что попытки ввести унифицированную концепцию «священного» в неевропейские языки столкнулось с показательными проблемами перевода. Так, хотя арабское слово
в английском обычно толкуется как «святость» (sacredness), дело состоит в том, что его нельзя использовать во всех контекстах, в которых используется английское слово. Перевести слово «священное» (the sacred) возможно несколькими способами (
,
,
би ал-‘ибaда и т. д.), и каждое из этих слов отсылает к разным типам поведения. (См. ниже мой комментарий о стремящемся произвести определенное впечатление обращении к мифу в арабской поэзии.)]. Я заявляю, что такой подход поможет нам лучше понять, как священное (и, следовательно, профанное) может стать объектом не только религиозной мысли, но и секулярного подхода.
Миф и священные писания
Выше я указал на некоторые функции мифа как секулярного дискурса в искусстве и нравах эпохи Просвещения. Роль, которую играл миф как в качестве дискурса о священном в религии и поэзии XIX и XX веков, является более сложной. Ниже мне неизбежно придется выбирать и упрощать.
Уже было указано, что немецкая библейская критика освободила Библию от «буквы божественного вдохновения» и дала ей возможность стать «системой человеческих смыслов»[62 - Shaffer E. S. «Kubla Khan» and The Fall of Jerusalem: The Mythological School in Biblical Criticism and Secular Literature, 1770–1880. Cambridge, 1975. P. 10.]. Тем не менее необходимо заметить, что освобождение знаменует кардинальное изменение в чувстве «вдохновения»: от разрешенной переориентации жизни к телосу, к психологии творчества, источник которой таинственен, – и, следовательно, становится объектом размышления (вера/знание)[63 - В середине XX века Т. С. Элиот попытался дать формулировку, которая бы объединила религиозный и светский смыслы термина: «Но если слово „вдохновение“ имеет хоть какое-то значение, то смысл его заключается именно в том, что от говорящего или пишущего исходит нечто такое, что сам он полностью не понимает и даже может неправильно интерпретировать, когда вдохновение его покинет. Все сказанное относится и к поэтическому вдохновению… [Поэту] не обязательно знать, чем отзовется его поэзия в душах других людей, пророку нет нужды понимать значения собственных пророчеств» (Элиот Т. С. Вергилий и христианский мир // Элиот Т. С. Избранное. Т. I–II. Религия, культура, литература. М., 2004. С. 283–284).]. Это была замечательная трансформация, поскольку в ранее существовавшем понимании божественное слово, как письменное, так и устное, также было по необходимости материальным. Вдохновленные слова сами по себе были объектом почитания определенных людей, средством практического почитания в определенном месте или времени. Тело, которое со временем обучили слушать, декламировать, двигаться, оставаться неподвижным, быть безмолвным, вступило в контакт с акустикой слов, с их звуками, чувствами и внешним видом. Практика почитания углубляла впечатления от звуков, зрительных образов и других ощущений в чувствах человека. Когда богомолец слышал, что Бог говорит, существовала чувственная связь между внутренним и внешним, происходило слияние означающего и означаемого. Надлежащее чтение писаний, которое позволило слышать, как говорит божество, основывалось на должной дисциплине чувств (особенно слуха, речи и зрения).
Напротив, мифологический метод, которым пользовалась немецкая библейская критика, превратил материальность звуков и знаков писания в духовную (spiritual) поэму, влияние которой рождалось внутри верующего субъекта независимо от чувств. Более раннее изменение содействовало этому сдвигу. Как писал теолог Джон Монтаг, понятие «откровение», обозначающее утверждение, которое исходит от сверхъестественного существа и тем самым требует разумного согласия со стороны верующего, возникает только в раннее Новое время. Он пишет, что для средневековых теологов «откровение прежде всего имело отношение к перспективе взгляда человека на объект в свете предельного смысла собственного существования. Оно не было дополнительным пакетом информации о, если угодно, сумасшедших с рациональной точки зрения или физического наблюдения „фактах“»[64 - Montag J. Revelation: The False Legacy of Suarez // Radical Orthodoxy / Ed. by J. Milbank, C. Pickstock, and G. Ward. New York, 1999. P. 43.]. Согласно Фоме Аквинскому, профетический дар откровения – это страсть, которую нужно пережить, а не возможность, которую нужно использовать, а среди слов, которые он использует для описания этого дара, встречается слово inspiratio[65 - Ibid. P. 46.]. Неоплатоническая система посредничества связывала божественное со всеми созданиями, позволяя посредством языка содействовать соединению божественного и человеческого.
Во время Реформации и Контрреформации божественное, у которого не было посредника, приобрело способность к раскрытию в духовном плане, и его откровения одновременно указывали и на его существование, и на его намерения. Таким образом, язык приобрел сверхреальный статус и способность «представлять» или «отражать» и, следовательно, также и «маскировать» реальное. Мишель де Серто указывает, что «эксперимент в современном смысле этого слова появился вместе с деонтологизацией языка, что также совпадает со временем появления лингвистики. У Бэкона и многих других эксперимент был чем-то противоположным языку, как система, которая язык гарантировала и проверяла. Этот разрыв между дейктическим языком (который показывает и/или организует) и использующим ссылки экспериментом (который освобождает и/или гарантирует) структурирует современную науку, включая „мистическую науку“»[66 - De Certeau M. The Mystic Fable; Volume One: The Sixteenth and Seventeenth Centuries. Chicago, 1992. P. 123.]. Там, где «вера» (faith) когда-то была добродетелью, теперь она приобрела эпистемологический смысл. Вера стала способом познания сверхъестественных объектов, существующих параллельно знанию природы (реального мира), которое обеспечивали разум и наблюдение. Это различие в организации «вдохновения» нуждается в более глубоком рассмотрении, однако можно предположить, что современная поэтическая концепция «вдохновения» – это субъективированное приспособление к изменениям, о которых здесь говорилось.
Конечно, я не хочу делать простое историческое обобщение, поскольку, с одной стороны, идея внутреннего диалога с Богом глубоко укоренена в христианской мистической традиции (как и в нехристианских традициях), а с другой – поскольку слияние звука как такового и звука, имеющего смысл, было частью евангелического опыта по крайней мере с XVIII века[67 - Однако для оппонентов евангелического движения (как христиан, так и деистов, и атеистов) существовала настоятельная необходимость идентифицировать ложные воздействия чувств. «Для оппонентов-либералов, таких как Чонси, речевая непосредственность евангелического благочестия не была по нраву отцам-пуританам и истинному благочестию реформатов; она нравилась квакерам и „французским пророкам“». [«Французские пророки» – милленаристская группа лангедокских гугенотов, которая, бежав в Англию в 1706 году после подавления Людовиком XIV протестантского восстания на юге Франции, заявила о собственном даре пророчества, совершении чудес и скором Втором пришествии. – Примеч. ред.]. «Духовность христиан не заключается в тайных шепотах или слышимых голосах», – с уверенностью провозглашает Чонси. Если у стойких приверженцев евангелизма не было такой совершенной ясности, у них рождались похожие сомнения. Всегда опасаясь угроз, исходящих от страстей и заявлений о прямых откровениях, многие евангелисты-священники могли бы согласиться с англиканским священником Бенджамином Бейли, который в 1708 году, взбешенный воодушевленными сектантами, развенчал «такой вид откровения через крики и голоса» как «наиболее низкий и наиболее сомнительный из всех». «Я полагаю, что признак ученого и благочестивого мужа… не в том, чтобы обосновывать свою веру (belief) на такой пустой вещи как простой голос или небольшой шум, исходящий из?за стены или вообще непонятно откуда». Принимая во внимание, что Бейли хотел защитить исключительную убедительность божественного голоса, который обращался к библейским пророкам, он сделал все, что мог, чтобы делегитимизировать эти не внушающие доверия бесплотные звуки среди современников» (Schmidt L. E. Hearing Things: Religion, Illusion, and the American Enlightenment. Cambridge, 2000. P. 71). Шмидт описывает, как стремление получить практические знания о звуке и слухе в эпоху Просвещения было связано с попытками раскрыть религиозный обман и как это стремление было связано с созданием искусных акустических приборов, при помощи которых (как об этом заявляли секулярные критики) жрецы древности производили «сверхъестественные» эффекты.]. Мой интерес лежит в области генеалогии. Я не утверждаю, что протестантская культура интересовалась исключительно внутренними душевными состояниями, а средневековое христианство с его богатой традицией мистического опыта вовсе ими не интересовалось. Мне интересен прежде всего концептуальный вопрос: в чем состояли эпистемологические следствия различных способов взаимодействия через чувства с писаниями различного толка христиан и свободомыслящих? (Отрицание, подавление, маргинализация одного или нескольких чувств – это, естественно, тоже способы взаимодействия с материальностью чувств). Каким образом Писание как посредник, через которого можно пережить опыт общения с божеством, стало рассматриваться как информация о сверхъестественном или информация, исходящая от него? Или же: каким образом недавно вышедшая на первый план оппозиция между простым «материальным» знаком и истинным «духовным» (spiritual) значением стала ключевой для реконструирования «вдохновения»?
Робертсон Смит – теолог, антрополог и приверженец библейской критики – приводит пример изменения направления и характера вдохновения в статье о Ветхом Завете как поэзии, где он различает поэзию как силу и поэзию как искусство. Это позволяет ему говорить о любой истинной поэзии (как секулярной, так и религиозной) как о «духовной» (spiritual). Когда поэзия идет «от сердца к сердцу»[68 - Противопоставляя Роберта Лоута, который одним из первых стал рассматривать Ветхий Завет как поэзию, Иоанну Готфриду Гердеру, Робертсон Смит пишет: «Пока Лоут занимается искусством еврейский поэзии, веймарский теолог открыто говорит об ее духе. Если последний занимался этим только чтобы порекомендовать избранную поэзию исследователям изящной литературы… первый стремился познакомить читателей через эстетическую форму с подлинным духом Ветхого Завета… Лоут предложил обозреть потоки священной поэзии, не поднимаясь к мистическому истоку. Сила Гердера заключалась в демонстрации того, как благородная поэзия Израиля фонтанирует неограниченной природной силой из глубин духа, которого коснулась вдохновленная божеством эмоция. Лоут находит в Библии целый массив поэтического материала и говорит: „Я желаю оценить величие и другие достоинства этой литературы, например, ее сила оказывать влияние на разум человека, сила, которая пропорциональна способности следовать истинным правилам поэтического искусства“. Нет, говорит Гердер, истинная сила поэзии в том, что она говорит из сердца к сердцу. Истинная критика – это не классификация поэтических средств в соответствии с принципами риторики, но открытие живой силы, которая движет душой поэта. Испытать удовольствие от стихотворения – это значит разделить эмоцию, которую испытал автор» (Smith W. R. Poetry of the Old Testament // Lectures and Essays. London, 1912. P. 405. Курсив оригинального текста). Все ранние поэты, пишет Робертсон Смит, соединяли внутреннее чувство с внешней природой, у древних греков и у неевреев-семитов это единение по-разному отразилось на религии. В последней «мы всегда обнаруживаем религию страстных эмоций, не поклонение внешним силам и природным феноменам в их чувственной красоте, а тем внутренним силам, устрашающим, ибо невидимым, внешние вещи для которых являются всего лишь их символами» (Smith W. R. Poetry of the Old Testament. P. 425). Эволюционный характер мысли здесь состоит в том, что поклонение семитов внутренним (духовным) (spiritual) силам в противовес внешним (материальным) формам позволило им стать обладателями божественного откровения (послание от божества), хотя это движение евреев от формальной к духовной религии постоянно сдерживалось отпадениями к идолопоклонству.], она становится манифестацией трансцендентной силы, которую секулярные литературные критики сегодня называют теологическим термином «богоявление» (epiphany)[69 - Слово «epiphany» в английском языке также означает «озарение» или «просветление». В русском языке игра слов утрачивается. – Прим. перев.].
Скептицизм относительно источника вдохновения – понимаемого как вид коммуникации – привел к сомнению в идее, что писания имеют божественное происхождение, и потому значительно возрос интерес к вопросу их исторической достоверности, их реального происхождения. Если Господь напрямую не является источником Евангелий, то христианская вера (belief) требует, чтобы хотя бы рассказ об Иисусе, который в них содержится, был «правдоподобным», поскольку только в этом случае они гарантированно описывают жизнь и смерть Христа в нашем мире и таким образом являют собой свидетельство об истине Воплощения[70 - «Если вопрос состоит в том, является ли христианство боговдохновенным, – писал теолог XVIII века Иоанн Давид Михаэлис, – то аутентичность Писания или отсутствие таковой становится более важным вопросом, чем можно было бы изначально предположить… Даже если предположить, что Бог не был вдохновителем ни одной книги Нового Завета, а только предоставил Матфею, Марку, Луке, Иоанну и Павлу свободу описать то, что они знали, с условием, что их труды будут аутентичными, достоверными и древними, христианство по-прежнему останется истинным» (цит. по: Bietenholz P. Historia and Fabula: Myths and Legends in Historical Thought from Antiquity to the Modern Age. Leiden, 1994. P. 315–316).].
Много было написано о том, как историки-протестанты помогли сформировать понимание истории как коллективного самобытного субъекта. По словам теолога Джона Строупа, «если новые взгляды на Историю и историков секуляризовали религию откровения, они также имеют тенденцию сакрализовать профанные события и фигуру вселенского историка… К концу века Просвещения священная и светская истории были настолько взаимосвязаны, что стало невозможно их разделить»[71 - Stroup J. Protestant Church Historians in the German Enlightenment // Aufkl?rung und Geschichte / Ed. by H. E. Bodeker et al. G?ttingen, 1986. S. 172.]. Продолжая эту мысль, Старобинский пишет о мифологизации современной истории как прогрессивного процесса: «Недостаточно указать, что уже было сделано многими, на существование „секуляризующего“ процесса в философии эпохи Просвещения, процесса, в котором человек заявляет права собственного разума, которые раньше принадлежали только божественному логосу. Одновременно существовала и обратная тенденция: миф, первоначально исключенный и объявленный абсурдным, теперь наделен глубоким смыслом и оценивается как данная в откровении истина»[72 - Starobinski J. Blessings in Disguise; or, The Morality of Evil. P. 192.].
Я не буду заниматься старыми темами исторической теологии и секуляризации истории, а сфокусируюсь на проекте исторической аутентичности. В связи с этим необходимо заметить, что не существовало отдельной дисциплины секулярной истории, которая была наделена священными характеристиками. Напротив, именно сомнение и беспокойство[73 - Существовали также и другие условия. Строуп пишет: «Возникновение централизованного государства предполагало возникновение группы грамотных людей, взгляды которых не определялись идеями партикуляристского общества. В соответствии с этим процессом в эпоху Просвещения возникало и христианство пиетистского толка, которое акцентировало внимание на терпимости в обществе и личной религиозности: институциональная церковь и ее догмы воспринимались как вторичные. Важным считалось придание христианству независимого от любых существующих в нем фракций облика: христианство, устойчивое к махинациям священнического сословия. Подобная атака на божественную легитимацию, апостольское основание и правовые привилегии существующей институциональной церкви, ее догмы и священников использовала апелляции к истории. Была сделана попытка переформатировать христианство, чтобы удалить острые углы, беспокоившие центральную власть и ее союзников в обществе» (Stroup J. Protestant Church Historians in the German Enlightenment // Aufkl?rung und Geschichte / Ed. by H. E. Bodeker et al. G?ttingen, 1986. S. 170). Тем не менее меня интересуют не мотивы теологов, а техники, которые они разработали, такие как «критика источников», и которые помогли создать современную светскую историю.] христиан – неоднородность жизни христианина – и привели библеистов к разработке техник исследования текста, которые заложили основу современной светской историографии[74 - В создании современной истории, конечно же, существовали и более ранние эпизоды, которые можно увидеть ретроспективно. Так, значительные шаги в этом направлении были предприняты во времена Контрреформации доминиканским теологом Мельхиором Кано, когда он пытался защитить от нападок традиционные учреждения (см.: Franklin J. Jean Bodin and the Sixteenth-Century Revolution in the Methodology of Law and History. New York, 1963. Ch. VII. Melchior Cano: The Foundations of Historical Belief). Меня, однако, здесь интересуют XVII и XVIII века, когда идея «секулярной» истории четко отделилась от «религиозной».]. Герберт Баттерфилд в работе о современной историографии говорит об этом следующим образом: «Истина религии была таким эпохальным вопросом, а полемика вокруг него была такой оживленной, что критические методы стали развиваться в церковных исследованиях еще до того, как кому-то пришла мысль применить их в сфере современной истории»[75 - Butterfield H. Man on His Past: The Study of the History of Historical Scholarship. Cambridge, 1955. P. 15–16. Баттерфилд резюмирует позицию лорда Актона.]. Это движение, строго говоря, не следует воспринимать как перенос методов. Светская критика фактически случайно развивалась благодаря озабоченности относительно очевидной нецелесообразности традиционных практик христианства, что само по себе помогло создать область письменной секулярной истории. Результатом стало четкое разграничение на «научную» историю (включая историю церкви)[76 - Скатывание церковной истории к общей истории человечества было ключевым моментом для возникновения сравнительного религиоведения (см.: Stroup J. Protestant Church Historians in the German Enlightenment // Aufkl?rung und Geschichte / Ed. by H. E. Bodeker et al. G?ttingen, 1986. P. 191).], которая полагалась на скептическое отношение в исследовании в погоне за аутентичностью, и «художественную» литературу (или в общем религию и искусство), которая перестала обращаться к вопросу об обоснованности сделанных суждений. Именно это растущее разграничение закрепило «секулярную историю» – историю как запись того, что «на самом деле произошло» в мире, – и в то же время оно придало форму современному пониманию «мифа», «священного дискурса» и «символизма». Как превращенная в текст память секулярная история, естественно, стала интегральной частью жизни в современном национальном государстве. Хотя она и подвержена, как и все время, о котором есть воспоминания, постоянному переформатированию, реинвестированию и воздействию повторных апелляций, линейность времени секулярной истории стала исключительной мерой любого времени. Перечитывание писаний через призму мифа не только отделило священное от светского, но и помогло создать секулярное как такую эпистемологическую область, в которой история существует как история и как антропология.
В мистическом перечитывании Писания страдания Христа, смерть и воскресение могли быть представлены как основополагающие, но в процессе этой реконструкции христианская вера искала возможности пересмотреть вопрос о вдохновении. Господь, может быть, буквально и не диктовал пророкам Ветхого Завета и апостолам Нового, но верующие христиане искали то, в каком смысле можно было бы сказать, что пророки были «вдохновлены», то есть буквально окутаны дыханием Святого Духа. Гердер начал строить ответ, приписывая пророкам Ветхого Завета дар выражать силу Духа, но именно его последователь Эйхгорн выразил эту идею систематически. Именно он, кроме того, смог по-новому примирить непримиримые заявления скептиков и верующих, что, с одной стороны, пророки являются шарлатанами, а с другой – что они говорили от лица божества. Эйхгорн выдвинул обезоруживающий аргумент, что пророки были вдохновленными художниками. Тем не менее обычно не обращают внимания на тот факт, что пророки были призваны, а художники нет. Художники могут общаться с созданиями Божьими, но не способны слышать его голос, по крайней мере не будучи поэтами.
Принимая во внимание, что вдохновение больше не рассматривалось как общение с божеством напрямую, поэты-романтики стали понимать его так, как его могли бы принять и скептики, и верующие. Элейн Шаффер замечает, что Кольридж использовал сон, галлюцинации и опиум (который он принимал для облегчения боли), чтобы выйти из нормального состояния и достичь того, которое можно было бы назвать просветленным трансом[77 - Существует интересная дискуссия об «анестезическом откровении» в «Многообразии религиозного опыта» У. Джеймса (Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М., 2017. С. 305–306), лекции XVI и XVII. Джеймс является агностиком в отношении вопроса источника мистического опыта, о котором сообщают многие люди, перенесшие анестезию во время операций. Относительно экстазов Терезы Авильской он пишет следующее: «Врачи видят в подобных состояниях экстаза не что иное, как гипнотическое состояние, вызванное внушением или подражанием, и считают, что интеллектуальное основание их возможности кроется в суеверии, физическое же – в вырождении и истерии. Возможно, что патологические условия играют немалую роль во многих, быть может, даже во всех случаях экстаза. Но этим еще не отнимается у состояния сознания, вызванного экстазом, та ценность, какую оно может иметь для нас, как расширение границ нашего познания. Чтобы судить об этих состояниях, мы должны, не довольствуясь поверхностными замечаниями медицины, рассмотреть внимательнее, какие плоды для жизни приносят подобные состояния» (Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М., 2017. С. 324). Религиозная философия Джеймса требует сохранения идеи руководящего сознания, чтобы иметь возможность оценивать все приписываемые единому субъекту действия, исходя из прагматики. В этой оценке единого субъекта Джеймс очень близок Фрейду (с его концепцией сознания, которое неверно понимает язык подавленного бессознательного, бессознательного, которое необходимо разоблачить посредством анализа), чем к идее децентрализованного «я», последовательность опыта которого не поддается восстановлению. Да, Фрейд серьезно усложнил свое прежнее представление о том, что «id» (оно) и «ego» (я) занимают соответственно сферы сознательного и бессознательного, так что со временем само «ego» стало рассматриваться как отчасти бессознательное. Однако проблема остается в том, что совершиться терапевтический анализ не может, если «я» воспринимается как горизонтально децентрализованное.]. Этот и другие случаи представляют более чем простую попытку убедить скептика: новый поворот еще более проблематизирует представление о едином обладающем самосознанием субъекте, утверждая, что фрагментированные части сознания имеют доступ к радикально иному опыту[78 - По-своему это уже начало отмечаться в сенсуалистской психологии Кондильяка и Хартли.].
Согласно теории воображения Кольриджа, поэтический образ допускает изменение обычного восприятия независимо от того, как оно достигается[79 - Shaffer E. S. «Kubla Khan» and The Fall of Jerusalem: The Mythological School in Biblical Criticism and Secular Literature, 1770–1880. Cambridge, 1975. P. 90.]. Не являясь больше оппозицией разуму, как для секулярного Просвещения, «воображение» теперь приобретает некоторые функции разума и выступает противоположностью «фантазии»[80 - Coleridge S. T. Biographia Literaria. 1817.]. Для Кольриджа, хорошо знавшего немецкую библейскую критику, пророки не были людьми, которые пытались предсказать будущее, но были творцами, выражавшими видение прошлого их обществом, прошлого и как обновления прошлого, и как обещания будущего. «Обновление», как гораздо позднее покажет дюркгеймианец Анри Юбер, – это повторение, участие в мифическом времени[81 - См.: Isambert F. At the Frontier of Folklore and Sociology: Hubert, Hertz and Czarnowski, Founders of a Sociology of Religion // The Sociological Domain: The Durkheimians and the Founding of French Sociology / Ed. by P. Besnard. Cambridge, 1983.].
Стало признаваться не только то, что пророки и апостолы не были сверхлюдьми, им даже приписывалось осознание собственной непригодности в качестве каналов откровения. Романтическое понимание поэта предполагает, что напряжение между подлинным вдохновением и человеческой слабостью возможно в моменты субъективных иллюзий, и таким образом объясняется возможность преувеличения и несоответствия. В этом отношении пророки и апостолы не отличаются от остальных. Важна не аутентичность фактов о прошлом, а сила духовной идеи, которую они пытались транслировать как одаренные люди[82 - Как писал гегельянец Давид Штраус в предисловии к эпохальному труду «Жизнь Иисуса» (1835): «И консерваторы, и рационалисты исходят из ложной посылки, что в Евангелиях мы всегда имеем дело со свидетельством о фактах, в некоторых случаях даже переданных очевидцами. Следовательно, у них все сводится к обращенному к себе же вопросу, в чем мог состоять реальный и естественный факт, который засвидетельствован здесь таким неординарным способом. Мы должны понять, что рассказчики иногда представляют (не по отношению к фактам, а по отношению к идеям) наиболее практичные и прекрасные идеи, конструкции, которые даже реальные свидетели бессознательно навязывают фактам, воображение о них, размышления о них, размышления, которые были естественными в то время и естественными для культурного уровня самих авторов. Здесь имеем дело не с ложью, а с неверной интерпретацией истины. Это пластичное, наивное и в то же время часто наиболее основательное понимание истины в сфере религиозного чувства и поэтической интуиции. Его результатом является нарратив, легендарный, мифический по природе, иллюстрирующий в большей степени духовную истину более совершенно, нежели любое тяжелое прозаическое утверждение» (цит. по: Neil W. The Criticism and Theological Use of the Bible, 1700–1950 // The Cambridge History of the Bible. Cambridge. Vol. 3. P. 276).].