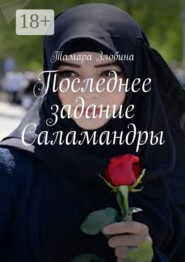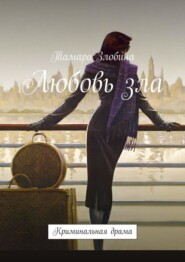По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Любовь на все времена. Часть 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В детстве Василисе снился один и тот же сон: молодая, красивая, нарядно одетая женщина, тянет к ней руки и говорит, словно поёт: – «Василисушка, радость моя, иди ко мне! Иди, родная, не бойся».
Просыпалась девочка всегда в слезах – сердечко её трепетало и рвалось к той женщине, которая ласкала её и взглядом, и голосом. А не во сне – наяву она была «графским выродком», которого шпыняли, обижали все, кому не лень.
Может потому она стала такой чёрствой, такой ощетинившейся, как ёж, что с самого детства не видела ничего доброго? Даже от собственного сына поначалу хотела отказаться, ведь он был не от любимого мужчины, а от бандита, взявшего её силой. Только после рождения Витюши её сердце немного оттаяло. Теперь она жизни не представляла без сына – ради него готова была на всё. Весь мужской род вместился для неё в сыне – больше она никого не видела, и видеть не хотела.
Ничего удивительного, что она всё же поехала в тот детский приют в Костроме, в котором прошли её детские годы. Воспитательницы, конечно, она не нашла – никто не знал где она.
– Уехала – и всё! – сказала ей новая заведующая. – А куда – невесть.
Старая заведующая уже к тому времени покоилась на городском кладбище. Заведующая новая даже сказала ей номер захоронения, но Василиса не собиралась навещать ту, о которой не могла сказать ни одного доброго слова.
Зато Василиса нашла бывшую повариху – Евдокию Воронову, доживающую век на окраине города в полуразвалившейся хибаре.
Вспоминала она Василису долго, но, когда услышала имя воспитательницы Шаблниной Нины Николаевны, её память словно разблокировало, особенно после того, как Василиса налила ей полстакана водки, купленной по случаю встречи.
– Нинку помню хорошо! – шамкая беззубым ртом заявила повариха. – Мы с ней товарками были… Та ещё сука была! Мого парня увела… Хотя за то Бог её наказал: бил её Ванька смертным боем! Печкой разе не бил, а о печь – так постоянно.
Воронова долго бы ещё жаловалась на свою бывшую товарку, но Василиса её перебила:
– Тётя Дуся, а вы о Бахниной Василисе ничего не помните?
– Плесни ка мне ещё водочки, – попросила старуха.
Василиса налила ещё полстакана, и бывшая повариха вылила напиток в рот, как воду – даже поморщиться забыла. Немного помолчала, потом переспросила:
– Как ты сказала: Бахнина? Василиса?… Как же, помню. Тебя ещё «графским выродком» Нинка окрестила.
– Почему так она меня называла? – спросила Бахнина.
– А чёрт его знает! – ответила тётя Дуся. – Нинка говорила, что тебя в приют привёз Бахнин Игнат… На него тебя и записали.
– Кто такой этот Игнат? – продолжала допытываться Василиса.
Повариху уже развезло и она просто послала бывшую воспитанницу подальше.
– Чё пристала?! – заявила она. – Кто да как?! Откуда я знаю? У Нинки-суки спроси… Она тебя называла – она и знает…
– Так уехала она, – ответила Василиса, жалея о том, что встретилась с этой опустившейся женщиной.
– Уехала? – словно что-то припоминая, отозвалась, Евдокия. – Нет, не уехала! Её Ванька прибил… Совсем.. За то его и посадили, горемыку… А я так и осталась по жизни одна… Ни одного мужика видеть больше не захотела… Нет, потом, конечно, у меня были мужики, но так – дерьмовые… Ваньке не чета.
Так и ушла Бахнина от бывшей поварихи, почти ни с чем. Даже выяснить, кто такой этот самый Игнат Бахнин на которого её записали, не смогла. Нужно было идти в городской архив. Но там сказали, что все документы того времени сгорели в пожаре и посоветовали обойти церкви: может там повезёт и найдётся запись о крещении – либо её, либо Бахнина Игната. Но времени у Василисы уже не было – нужно было возвращаться на работу.
Домой Василиса возвращалась весьма расстроенной. Интуиция подсказывала, что не так всё просто с её происхождением, но жизнь строила ей препоны даже в этом: тайна рождения была от неё скрыта за плотной шторкой, которую она не может раскрыть – пока не может. Всё та же интуиция подсказывала, что всё у неё получится. Если не сегодня – то завтра.
Глава 3. Голудины
Мать Любавы – Елена Никифоровна была просто помешана на родословных. Непонятно почему ей казалось, что самое главное в жизни: принадлежность к знатному роду. И тот, кто не принадлежал к такому роду – недостоин её внимания
Увлечение её, конечно, было скрытным: не настали ещё те времена, когда об этом можно было говорить в открытую и заслуженно гордиться своим происхождением. Но утончённая Елена была уверена, что такие времена настанут, и очень скоро. По её наивному мнению все несправедливости должны быть, рано или поздно, исправлены
Даже подруг себе Голудина выбирала только из числа семейств высокого ранга. «Плебеев» в их доме дальше передней, кухни и ванной не пускали. Ещё бы, ведь её род брал своё начало от второй ветви князей Бартеневых. Их родовое гнездо, разорённое в 20-ые годы, находилось в Костромской губернии. Бабушка Елены Никифоровны по материнской линии – Елизавета Антоновна, дочь знаменитого московского купца Антона Гизетти, была замужем за Дмитрием Ивановичем Бартеневым, чем Голудина очень гордилась.
Отец Любавы – Яков Михайлович, не понимал пристрастия жены и иногда подсмеивался над ней:
– Ты забываешь, дорогая, что род Бартеневых начался от Бартеня – холопа князя Юрия Дмитриевича Звенигородского.
Этого Елена Никифоровна слышать не хотела и всегда начинала сердиться на мужа.
Когда Любава сообщила матери, что хочет познакомить её со своим другом-сокурсником, Елена Никифоровна первым делом спросила:
– Как фамилия у твоего протеже и кто его родители?
– Его зовут Бахнин Виктор. У него только мать – отец погиб, видимо, во время войны… Мать – работник торговли.
– Слишком скудные сведения! – отреагировала Елена Никифоровна. – Я бы не хотела знакомится с молодым человеком, весьма сомнительного происхождения.
Но, немного подумав, поинтересовалась:
– Твой… сокурсник не из Костромской губернии?
– Области, мама, области! – поправила её дочь. – Нет, он из города Энска. А что?
– Фамилия у этого… Кажется ты называла его ВиктОром? Знакомая фамилия… Когда-то – ещё в детстве, я знавала семейство Бахниных.
И добавила, словно, делая милость:
– Ладно, дочь, приводи своего сокурсника. Посмотрим, что это за товарищ…
В тот же день Любава сообщила Виктору, что её мама хочет с ним познакомиться, и Бахнину впервые в жизни стало не по себе – он даже понятия не имел, как ведут себя в таких случаях и в таких семьях.
– Может не стоит? – робко попытался протестовать он. – Ведь я даже не знаю, как вести себя на таких приёмах… Вдруг опозорю тебя?
– Это не будет приёмом, – «обрадовала» его девушка. – Скорее так – беседа тет а тет.
Смысла последнего слова Виктор не понял, но спрашивать, что оно означает, не позволила гордость. На мгновение ему показалось, что девушка козыряет перед ним своими знаниями иностранных языков, и его это очень задело. Он не мог поверить, что девушка с такой ангельской внешностью – самая обычная с теми же пороками, как и её мать и, как, видимо, все её круга.
После расставания с Любавой Виктор подумал:
– Может мать права и мне не стоит рубить дерево не по себе? В таком обществе всю жизнь будешь вороной, но не белой, а как говорит Василиса Игнатьевна: сер-бур-малиновой в чёрную полоску.
Они уже знакомы полгода, но Любава так и не подпустила его к себе ближе, чем на расстояние вытянутой руки. Порой Виктору казалось, что он её просто развлекает, порой, что рядом с такой девушкой должен быть кто-то, чтобы другие знали: место занято, и не суетились. Но чаще парню казалось, что она его не понимает – он для неё, как существо с иной планеты.
– Может отказаться от этой «беседы тат а тет»? – подумал Бахнин, понимая, что ничего она не даст, ведь если маман Любушки скажет ему что-то обидное, уничижительное, он, непременно, сорвётся и наговорит ей кучу «любезностей». – И тогда «дружбе» конец… Если, конечно, это можно назвать дружбой.
И всё-таки встреча состоялась. Любава чуть ли не за руку тащила Виктора, подсмеиваясь над его нерешительностью.
– Да не съест тебя, маман, уверяю! – смеялась девушка. – Она хоть и всеядная, но людей не ест – даже молодых!