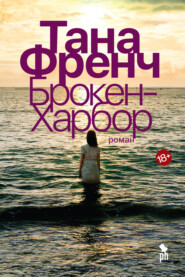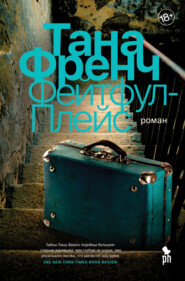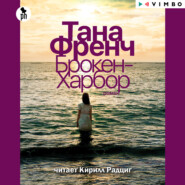По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Искатель
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кел лениво и щедро откусывает от сэндвича, запивает долгим глотком пива, утирает пену с усов. Затем кривится, срыгивая, подается вперед, чтобы поставить тарелку. Поднимается со стула, щелкает шеей и направляется к сортиру, попутно возясь с пряжкой ремня.
Окно в уборной открывается гладко и бесшумно, будто его обработали смазкой, – так и есть, обработали. Кел еще и потренировался влезать на бачок и выбираться в окно, и удается ему это куда ловчее, чем можно ожидать от человека его габаритов, что не отменяет факта: одна из причин, почему он ушел из дежурных полицейских, – в том, что с него хватит лазать черт-те где в погоне за балбесами, творящими всякую дурацкую хрень, и планов возвращаться к этому занятию у Кела нет. Он приземляется снаружи, сердце ускоряется до привычного охотничьего темпа, задница чиркает по оконной раме, досада нарастает.
Ничего лучше обрезка трубы в кустах, оставшегося после возни с туалетом, у него нет. Но, даже взявшись за трубу, он чувствует себя с пустыми руками, слишком легким – без ствола-то. Минуту стоит, замерев, дает глазам привыкнуть, прислушивается, однако ночь пронизана мелкими звуками, и какой из них больше относится к делу, не выбрать никак. Стемнело; взошла луна, острый ломтик, вдогонку ей – драные облака, от луны свет бледный, ненадежный и слишком много теней. Кел перехватывает трубу половчее и трогается с места, выдерживая старый выученный компромисс между скоростью и беззвучностью, к углу дома.
Под окном гостиной таится комок более густой тьмы, неподвижен, голова аккурат на той высоте, чтоб заглянуть через подоконник. Кел внимательно присматривается, изо всех сил, но в траве вокруг все чисто – вроде всего один. Во всплеске света от окна Кел видит стрижку под машинку и красное пятно.
Кел роняет трубу и бросается. Намерен зафиксировать полностью, повалить человека, а дальше разбираться, но ступня попадает на камень. За ту секунду, которую Кел ловит руками равновесие, человек подскакивает вверх и прочь. Кел кидается почти в полную темноту, хватает руку и дергает изо всех сил.
Человек летит на Кела слишком легко, а рука слишком тонкая, пальцы туго смыкаются вокруг нее. Ребенок. Это осознание ослабляет Келу хватку. Малявка выдирается, как камышовый кот, сопит с присвистом и впивается зубами Келу в руку.
Кел ревет. Малявка выпрастывается на волю и улепетывает по саду ракетой, ноги в траве почти беззвучны. Кел бросается следом, но ребенок в несколько секунд исчезает в путанице теней у придорожной изгороди, и когда Кел оказывается рядом, беглеца уже нет. Кел протискивается сквозь изгородь, высматривает на дороге, стиснутой до блеклой ленты лунными тенями от кустов, обступающих ее. Ни души. Кидает несколько камешков по зарослям, спугнуть ребенка, – ничего.
Вряд ли у мальца было подкрепление, он бы крикнул – позвал на помощь или предупредил бы, – но на всякий случай Кел обегает сад кругом. Грачи спят, не потревоженные. Новые отпечатки на земле под окном в гостиной – то же рифление, что и в прошлый раз; больше нигде. Кел отступает в густую тень сарая и ждет долго, пытается заглушить свое сопение, но ни в каких изгородях никакого шороха, никакая тень не крадется по полям. Всего один – и тот ребенок. И не возвращается – по крайней мере, сегодня.
Вернувшись в дом, Кел осматривает руку. Малявка тяпнул его будь здоров: три зуба прокусили кожу, в одном месте кровит. Кела уже разок кусали – при исполнении, что обернулось вихрем бумажек, собеседований, анализов крови, юридической возни, таблеток и судебных разбирательств, тянувшихся месяцами, пока Келу не надоело следить, что там к чему и зачем, и он просто показывал руку или ставил подпись, когда просили. Сейчас он находит аптечку, некоторое время вымачивает руку в антисептике, после чего заклеивает пластырем.
Еда остыла. Он заряжает ее в микроволновку, возвращается с ней к столу. Джонни Кэш все еще играет, оплакивая утраченную Роуз и сыночка[6 - Речь о песне Give My Love To Rose (1957).] глубокой надломленной трелью, будто и сам уже отлетевший дух.
Келу не так, как он предполагал. Дети, шпионящие за новеньким, – как раз на это он и надеялся, лучший расклад из возможных. Кел прикидывал, что проорет некие смутные угрозы им вслед, когда они будут удирать, вопя, хохоча и выкрикивая гадости через плечо, а затем покачает головой и уйдет в дом, говнясь, словно какой-нибудь старый хрыч, насчет современных детишек, и дело с концом. Может, время от времени они станут возвращаться, но Келу это, в общем, нипочем. Он бы продолжил заниматься ремонтом, слушать громкую музыку и обустраивать себе яйца в штанах в свое, черт бы драл, удовольствие, а легавое чутье свое отправил бы на покой, где ему самое место.
Да вот только чует он, что дело тут не с концом, а легавому чутью на покой не уйти. Дети, если им по приколу лезть на рожон, заявляются ватагой, и они наглые, накрученные своей же дерзостью, как кофеином. Кел думает о том, как тихо сидел тот малой под окном, о его безмолвии, когда Кел его схватил, о змеиной свирепости, с какой малолетка его тяпнул. Этот малой не развлекался. У малого тут была цель. Он еще вернется.
Кел доедает, моет посуду. Приколачивает кусок холстины к окну в уборной, быстро споласкивается. Затем укладывается на матрас в темноте, руки под голову, смотрит в окно на испятнанную облаками россыпь звезд и слушает, как где-то в полях дерутся лисы.
2
Развалина бюро, когда Кел выволакивает его наружу и хорошенько осматривает, оказывается древнее, чем казалось, и лучшего качества: мореный дуб, изысканные завитки вырезаны на бортике над крышкой и вдоль нижней кромки выдвижных ящиков, а под крышкой – десяток гнезд для бумаг. Кел сперва затолкал бюро в маленькую спальню, поскольку планировал заняться им не сразу, но, похоже, сегодня оно может пригодиться. Он притаскивает бюро в дальний конец сада – на тщательно прикинутом расстоянии и от изгороди, и от грачиного дерева, – сюда же приносит стол, чтоб получился верстак, и ящик с инструментами. Большинство их – от деда. Потертые, щербатые, заляпанные краской, но все равно служат лучше, чем фуфло, какое покупаешь в нынешних хозяйственных.
Главный урон, нанесенный бюро, – здоровенная щепастая брешь в боковине, будто тот, кто отправился в уборную с кувалдой, вмазал попутно и по бюро. Кел оставляет эту дыру на потом, когда рука заживет. Начать собирается с бегунков на ящиках. Двух попросту нет, а другие два погнуты и расщеплены так, что ящик не ходит – или ходит, но с боем. Кел вытаскивает оба ящика, кладет бюро на спину и принимается обводить остатки бегунков карандашом по контуру.
Погода на стороне Кела: приятный солнечный день с легчайшим ветром, птички на изгородях, пчелы в полевых цветах – в такие дни человеку вполне естественно хочется поработать на свежем воздухе. Разгар утра в школьный день, но, если судить по другим случаям, Кел считает, что время тратит совсем не обязательно попусту. Даже если ничего не случится сразу же, у него тут уйма дел вплоть до конца уроков. Насвистывает сквозь зубы дедовы народные песни и выпевает слово-другое, когда они вспоминаются.
Заслышав шелест шагов в траве, сильно поодаль, Кел продолжает насвистывать и голову от бюро не поднимает. Впрочем, через минуту слышит зверский треск в изгороди, и под локоть ему суется мокрый нос: Коджак[7 - Назван в честь Тео Коджака, главного героя одноименного американского полицейского телесериала (Kojak, 1973–1978) на канале Си-би-эс.], потрепанная черно-белая овчарка Марта. Кел выпрямляется, машет соседу.
– Как здоров на сто годов? – интересуется Март через боковой забор. Коджак вприпрыжку удаляется – проверить, не появилось ли чего новенького в Келовой изгороди с прошлого раза.
– Неплохо, – отвечает Кел. – Как сам?
– Как огурец-молодец, – говорит Март. Коренаст, примерно пять футов семь дюймов, жилист и морщинист; у него пушистые седины, нос, за жизнь сломанный разок-другой, и обширная коллекция головных уборов. Сегодня он в плоской твидовой кепке, вид у нее такой, будто ее пожевало какое-нибудь сельскохозяйственное животное. – Чего тебе с этой хренью?
– Починить вот хочу, – отвечает Кел. Пытается отбить второй бегунок, но тот держится крепко, это бюро сработали на славу невесть как давно.
– Трата времени, – говорит ему Март. – Глянь на каком-нибудь сайте с объявленьями. Полдесятка найдешь за так.
– Мне одного хватит, – говорит Кел. – И вот – есть.
Март явно собирается оспорить этот довод, но решает в пользу более благодарной темы.
– Хорошо выглядишь, – говорит он, озирая Кела с головы до пят. Март с самого начала был склонен одобрять Кела. Ему нравится беседовать, и за шестьдесят один год в этих краях он высосал сок из всех местных. Кел, с точки зрения Марта, – чисто Рождество.
– Спасибо, – говорит Кел. – Ты тоже.
– Я серьезно, друг ты мой ситный. Очень стройный. Пузо-то с тебя слезает. – Кел, терпеливо раскачивая бегунок ящика взад-вперед, не отвечает, и Март продолжает: – Знаешь, с чего оно так?
– Вот с этого, – говорит Кел, кивая на дом. – Не сижу на заднице за столом день-деньской.
Март энергично качает головой.
– Вообще нет. Я тебе скажу с чего. Это всё с мяса, которое ты йишь. С сосисок да со шкварок, какие у Норин берешь. Они здешние – такие свежие, что аж прыгают с тарелки и на тебя фырчат. С них тебе сплошная польза.
– Ты мне нравишься больше, чем мой прежний врач, – замечает Кел.
– Слухай меня. Американское-то мясо, какое ты йил дома, – в нем гормонов дохрена. Ими накачивают скотину, чтоб жирнела. И как ты думаешь, как с этого дела людям? – Ждет ответа.
– Вряд ли хорошо, – отвечает Кел.
– Тебя с них раздувает, как шарик, – и титьки, как у Долли Партон. Сдуреть какая хрень. Е-Эс все их позапретил тут. Вот откуда ты весу-то вообще набрал. А теперь йишь годное ирландское мясо, и все с тебя слезает. Будешь у нас по виду как Джин Келли[8 - Долли Ребекка Партон (р. 1946) – американская кантри-, блюграсс-, госпел-певица, музыкантша-мультиинструменталистка, киноактриса. Юджин Кёррэн Келли (1912–1996) – американский актер, режиссер, сценарист, продюсер, хореограф и певец ирландского происхождения.], глазом моргнуть не успеешь.
Март, очевидно, уловил, что у Кела сегодня что-то на уме, и решительно намеревается отговорить его – то ли из чувства соседского долга, то ли потому, что ему нравятся трудные задачки.
– Ты б двинул это на рынок, – говорит Кел. – Мартов Чудо-диет-бекон. Ешь больше – худей крепче.
Март хмыкает, явно довольный.
– Видал, ты вчера в город катался, – бросает он мимоходом. Прищуривается в сад, высматривает Коджака – тот не на шутку сосредоточивается на одном кусте, старается запихнуть в него себя едва ли не целиком.
– Ага, – говорит Кел, выпрямляясь. Известно, к чему Март клонит. – Погоди-ка. – Уходит в дом, возвращается с упаковкой печенья. – Сразу только всё не ешь, – говорит.
– Джентльмен ты, – говорит счастливый Март, принимая печенье через забор. – Сам-то их пробовал?
Печенье Марта – причудливые сооружения из розового пухлого зефира, повидла и кокоса, какими, по мнению Кела, хорошо подкупать пятилетку со здоровенным бантом в волосах, чтоб прекратила истерику.
– Пока нет.
– Ты макай их, друг ситный. В чаек. Зефир размокает, а повидла тает на языке. Лепота.
Март сует печенье в карман своей зеленой вощеной куртки. Заплатить за гостинец не предлагает. Сперва Март представил доставку печенья как одноразовую акцию, одолжение, какое украсит день бедному старому фермеру, да и Кел со своего новехонького соседа горсть мелочи требовать не собирался. Далее Март решил считать это давней традицией. Веселый взгляд искоса на Кела, когда тот протягивает печенье, сообщает, что Март проверяет соседа на вшивость.
– Я больше по кофе, – говорит Кел. – А это не то же самое.
– Норин не скажи про это, вот что, – предупреждает Март. – Ей только дай чем-нибудь меня обделить. Любит она думать, что ейная взяла.
– Кстати, о Норин, – говорит Кел. – Если собираешься в ту сторону, можешь мне ветчины прихватить? Я забыл.
Март протяжно присвистывает.
– Ты, что ль, к Норин в черные списки лезешь? Плохо дело, братец. Глянь, как оно теперь со мною. Что б ты ни натворил, дуй туда с букетом и извиняйся.