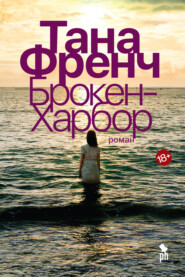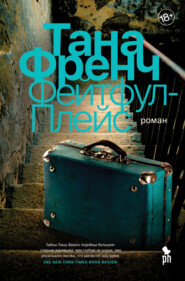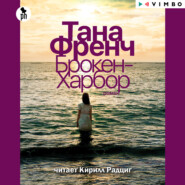По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ведьмин вяз
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Исключительно повезло. После нападения у вас случился так называемый светлый промежуток, при подобных травмах это бывает часто. По нашим прикидкам, вы пробыли без сознания чуть больше часа, из-за сотрясения мозга, но потом очнулись, сумели позвать на помощь и лишь после этого снова потеряли сознание, так? – вопросительно прищурился доктор.[5 - Состояние, характерное при эпидуральной гематоме: временное улучшение после потери сознания, но затем, как правило, наблюдается заметное ухудшение.]
– Наверное, – замявшись, повторил я. Не помню, чтобы звал на помощь. Я вообще ничего толком не помнил, лишь бурные темные вспышки, из-за которых и вспоминать не хотелось.
– Вам очень повезло. – Доктор подался ко мне, словно желал убедиться, что я осознаю серьезность происходящего. – Не позови вы на помощь, и без медицинского вмешательства такая гематома через час наверняка привела бы к летальному исходу. – Я недоуменно смотрел на него, не понимая, как реагировать, и врач пояснил: – Вы чуть не погибли.
– А… – спустя мгновение сказал я. – Как-то не подумал.
Мы так и смотрели друг на друга. Казалось, он чего-то ждет от меня, хотя я и не знал, чего именно. Женщина на соседней койке снова расплакалась.
– И что теперь? – произнес я, стараясь подавить испуганную дрожь в голосе. – В смысле, как быть с рукой. И с ногой. Они когда-нибудь… Когда они…
– Об этом пока говорить рано, – отрезал доктор, отводя взгляд, и снова принялся делать пометки в карте, отчего моя паника усилилась. – Вас осмотрит невропатолог…
– Я просто хочу знать… – Тут я снова сбился, не сумев подобрать слова, и испугался, что вот сейчас-то он и осадит меня, как малыша, мол, сколько можно спрашивать, веди себя как следует.
– Мы понимаем, что вы не можете дать гарантий, – негромко, но твердо проговорил отец. – Но хотелось бы в общих чертах представлять, чего ожидать.
Помедлив, доктор кивнул и сложил руки поверх моей карты.
– Подобные травмы чреваты последствиями. В вашем случае они незначительны, хотя на основе беглого осмотра я не могу сказать ничего определенного. Нередки осложнения в виде судорог, так что будьте бдительны, однако со временем они проходят сами собой. Мы направим вас к физиотерапевту разрабатывать левую сторону тела, если же у вас возникнут трудности с концентрацией внимания, поможет эрготерапия.
Врач говорил об этом так буднично и убедительно, что я даже кивал, словно все перечисленное – судороги, эрготерапия и прочая мелодраматическая чепуха из медицинских сериалов, не имеющих ни малейшего отношения к моей жизни, – было абсолютно нормально. Пока что лишь крохотная периферийная часть меня осознавала с головокружительной тошнотой, что теперь это и есть моя настоящая жизнь.
– Будем ожидать, что в течение полугода наступит значительное улучшение, но в целом процесс может занять и два года. Невропатолог непременно…
Он говорил и говорил, на меня же вдруг нахлынула усталость. Лицо доктора раздвоилось, расплылось перед глазами, голос превратился в далекое бессмысленное бормотание. Я хотел сказать, что мне нужно обезболивающее, и чем скорее, тем лучше, но не было сил произнести ни слова, и скоро боль утянула меня в мутный зыбкий сон.
Прошло почти две недели с того дня, как я очутился в больнице. Не так уж плохо, учитывая все обстоятельства. К счастью, после беседы с врачом меня (машинально пробормотав извинения – мол, больница переполнена) вечером перевели в отдельную палату, а то истеричка на соседней койке достала своими бесконечными рыданиями, мне ее вой уже сниться начал. Новая палата оказалась просторной, светлой и тихой, и я мысленно похлопал себя по плечу за то, что позаботился купить хорошую страховку, – правда, я думал, что она мне пригодится еще очень не скоро. Я много спал, а когда просыпался, рядом всегда кто-нибудь сидел; формально часы посещения были ограничены дневным временем да коротким отрезком вечером, но, похоже, медсестры закрывали глаза на внеурочных посетителей в отдельных палатах. Днем это обычно была мать, едва узнав о случившемся, она забросила работу и спихнула свою нагрузку на коллег с кафедры (мама преподает в Тринити-колледже историю XVIII века). Она постоянно что-нибудь мне приносила – то вентилятор, потому что в палате стояла адская жара, то воду в бутылках, то сок, то энергетики, чтобы у меня не было обезвоживания, открытки, букеты тюльпанов, кукурузные чипсы с сыром, которые я любил в детстве (и от которых теперь нестерпимо воняло блевотиной), записки от тетушек и дядюшек, горы самых разных книг, игральные карты и хипстерский кубик Рубика из “Лего”. Почти ни к чему из этого я не прикасался, за считаные дни палата обросла хламом, приняв неухоженный вид, – казалось, будто все эти разрозненные предметы в ней самозарождаются и в один прекрасный день медсестра обнаружит меня погребенным под кучей кексов, наверху которой торчит аккордеон.
С мамой мы всегда ладили. Она умная, резкая, с юмором, остро чувствует прекрасное, умеет быть счастливой и заражает своим жизнелюбием остальных, – словом, даже не будь мы родственниками, я все равно любил бы ее. Даже когда подростком на меня нападало желание побунтовать – нечасто, но такое все же случалось, – я, как правило, ругался с отцом (обычная фигня, типа, почему мне нельзя вернуться домой попозже и чего вы ко мне прицепились с этой домашкой), а с мамой почти никогда. Начав жить самостоятельно, я звонил ей пару раз в неделю, раз в месяц-два приглашал на обед в кафе, причем с искренней охотой и удовольствием, а не из чувства долга, покупал ей милые подарочки, делился забавными Ричардовыми ляпами – я знал, что она оценит. Даже вид ее согревал мне душу, то, как уверенно она вышагивает на длинных ногах, вокруг которых разлетаются полы пальто, изящные изгибы ее широких бровей, то взмывавших вверх, то хмурившихся согласно, когда я что-нибудь ей рассказывал. И то, что ее визиты в больницу так меня раздражали, неприятно удивило нас обоих.
Признаться, меня бесило, что она беспрестанно меня трогает – то погладит по голове, то по ноге, то пожмет лежащую на одеяле руку. Не то чтобы мне было больно, но совершенно не хотелось, чтобы ко мне прикасались, – не хотелось до такой степени, что порой я просто дергался. И еще ее постоянно тянуло поговорить о той ночи: как я себя чувствую? (Отлично.) Не хочу ли я об этом поговорить? (Нет.) Не догадываюсь ли я, кто те парни, не выследили ли они меня, может, заметили в баре, что у меня пальто дорогое, и… Я же тогда был почти уверен, что ко мне вломился Гопник с каким-нибудь криминальным дружком, решив отомстить за то, что я выкинул его картины из экспозиции, но поскольку сам еще толком в этом не разобрался, то и матери при всем желании не мог ничего объяснить. Я отделывался ворчанием, которое становилось с каждым разом резче и резче, в конце концов мать оставляла меня в покое, но через час, не в силах с собой совладать, принималась за старое: хорошо ли я спал? не снятся ли мне кошмары? помню ли я что-нибудь?
Беда в том, что случившееся ужасно ее перепугало. Мама изо всех сил старалась это скрыть, но я с детства помнил ее наигранную, чересчур спокойную жизнерадостность в трудную минуту (Так, сынок, давай смоем кровь и посмотрим, везти ли тебя к доктору Марейд заклеивать рану! Может, у нее даже остались те наклейки!), и эта манера набила мне оскомину. Порой маска сползала и за ней проглядывал жуткий животный страх, приводивший меня в ярость: безусловно, пару дней ей пришлось поволноваться, но теперь мне ничто не угрожает, ей не о чем беспокоиться, у нее обе руки здоровы, зрение не подводит, в глазах не двоится, никто не распинается перед ней об эрготерапии, так какого черта, спрашивается?
Стоило ей войти в палату, и меня тут же подмывало устроить скандал. И последствия травмы головы ничуть этому не мешали, даже напротив: обычно я не мог связать и двух слов, во время ссоры же меня было не заткнуть, гадости так и лились. Один-единственный мамин промах, фраза, взгляд, вызвавший раздражение, – я бы под дулом пистолета не сумел объяснить, почему именно эти вещи так меня задели, – и начиналось.
– Я персики принесла. Хочешь персик? Давай помою…
– Нет. Спасибо. Я не голоден.
– А еще, – настроясь на жизнерадостную волну, мама наклонилась и принялась рыться в стоявшем возле ее стула битком набитом пластиковом пакете, – я купила претцели. Будешь? Те маленькие, которые ты любил…
– Я же сказал. Я не голоден.
– Ладно. Хорошо. Я их оставлю тут, потом съешь.
Меня тошнило от сквозившего в ее взгляде смирения великомученицы.
– Что смотришь? Можно не смотреть на меня так?
– Как – так? – с каменным лицом уточнила мама. (Бедный Тоби не в себе, нужно проявить к нему снисхождение, бедняжка сам не знает, что говорит…) – Ты получил серьезную травму. Я читала, что в таком состоянии совершенно естественно…
– Я отдаю себе отчет в том, что говорю. Я же не овощ. Я не пускаю слюни в сливовое пюре. А ты, значит, оповестила всех, что я не в себе? Поэтому ко мне никто не заходит? Сюзанна с Леоном даже не позвонили…
Мама часто заморгала, уставясь поверх моего уха в окно, из которого лился свет. Я вдруг с отвращением понял, что она с трудом сдерживает слезы, и с не меньшим отвращением подумал: посмеет разреветься – выгоню нахрен из палаты.
– Я им сказала только, что ты пока неважно себя чувствуешь. Мне показалось, тебе не хочется ни с кем общаться.
– То есть ты даже не удосужилась поинтересоваться, что я об этом думаю? Просто взяла и решила, что я совершенно не в себе и неспособен самостоятельно принять столь серьезное решение?
На самом же деле я обрадовался, что можно обвинить маму. Общаться с кузенами мне не хотелось, но мы выросли вместе, и хотя давно уже не были неразлучны – с Сюзанной мы виделись несколько раз в год, на Рождество и дни рождения, с Леоном и вовсе один раз в год, когда он приезжал из Амстердама, Барселоны или другого временного места обитания, – все равно их равнодушие меня задело.
– Если ты кого-то хочешь видеть, я могу…
– Если я захочу их видеть, то сам им об этом сообщу. Или ты полагаешь, что я превратился в полного идиота и даже такого не осилю? И мамочке нужно звонить моим друзьям, чтобы зашли ко мне поиграть, как в детском саду?
– Хорошо, – с приводящим меня в исступление спокойствием и заботой ответила мама, сцепив руки, лежавшие на коленях, – тогда что прикажешь им отвечать, если спросят о тебе? Они все гуглят травмы мозга, поиск выдает огромное количество последствий, они не знают, что…
– Ничего им не говори. Ничего. – Я представил, как родственнички, точно муравьи, облепили и жрут мой труп – тетя Луиза корчит умильные гримасы сочувствия, тетя Мириам рассуждает о том, что у меня заблокированы чакры, дядя Оливер пересказывает чушь из Википедии, а дядя Фил глубокомысленно кивает, – и от такого зрелища захотелось кому-нибудь врезать. – Или вот что, скажи им, что я совершенно здоров и пусть не лезут не в свое дело. Ладно?
– Они беспокоятся о тебе. И всего лишь…
– Ах ты черт, прости, пожалуйста, то есть ты хочешь сказать, что это жестоко по отношению к ним? Они страдают?
И так далее и тому подобное. Я никогда никого не мучил, даже в школе, где ходил в любимчиках и где мне наверняка сошло бы с рук что угодно, я никогда ни над кем не издевался. Теперь же поймал себя на том, что, сознавая собственную низость, задыхаюсь от лютого восторга, вызванного тем, что я заполучил новое оружие, хотя пока и не понял, как именно оно мне поможет (разве что, когда в следующий раз ко мне ворвутся грабители, сражу их наповал сарказмом), и если прежде мне нравилось быть добрым человеком, теперь это ощущение испарилось и я никак не мог его отыскать, словно оно было погребено под черными дымящимися развалинами, так что к маминому уходу мы оба успевали измучиться.
Вечерами меня навещал отец. Он солиситор, вечно, сколько я его помню, в делах, консультирует барристеров по всяким запутанным финансовым вопросам; отец приходил прямо с работы, внося с собой невозмутимую, понятную лишь посвященным атмосферу дорогих костюмов и полусекретной информации, шлейф которой в моем детстве каждый вечер тянулся за ним через порог нашего дома. В отличие от мамы, он сразу замечал, что я не в настроении и не хочу разговаривать, меня же совершенно не тянуло затевать с ним ссоры, в которых не бывает победителей, – не то что с мамой. Обычно он задавал мне несколько вежливых вопросов – как себя чувствуешь, не нужно ли чего, – доставал из кармана пальто свернутую в трубочку потрепанную книгу в бумажной обложке (Вудхауса или Томаса Кенилли), усаживался в кресло для посетителей и молча читал несколько часов подряд. Если в той ситуации мне и удавалось отыскать что-то спокойное, умиротворяющее, то, пожалуй, это папины визиты: мерный шелест страниц, изредка тихий смешок, четкий абрис его профиля на фоне темнеющего окна. При нем я частенько засыпал и спал крепко, тогда как в другие дни спал беспокойно и чутко, а сон мой омрачали дурные воспоминания и страх не проснуться.
Мелисса наведывалась ко мне всякий раз, когда ей удавалось днем оставить на кого-нибудь магазин, пусть даже на часок, и обязательно приходила по вечерам. Если честно, первого ее визита я ждал с ужасом. От меня воняло потом, какой-то химией, на мне по-прежнему была больничная рубаха, – в общем, я и сам понимал, что выгляжу хреново. Дотащившись до ванной и взглянув на себя в зеркало, я вздрогнул от изумления. Я привык считать себя симпатичным и нравиться с первого взгляда практически всем – густые прямые светлые волосы, ярко-голубые глаза, открытое, чуть детское лицо сразу же вызывали симпатию как у девушек, так и у парней. Другое дело – этот чувак в засиженном мухами зеркале. Слева грязно-бурые свалявшиеся патлы, по обритой справа голове тянется уродливый красный шрам в толстых хирургических скобках. Одно веко набрякло, как у торчка, распухшая челюсть в синяках, от верхнего переднего зуба откололся большой кусок эмали, губа заплыла. Я даже похудел, при том что и так-то не был толстым, теперь же у меня запали щеки и я стал смахивать на какого-то жуткого заморыша, которого срочно требуется подкормить. Лицо с недельной щетиной казалось грязным, глаза покраснели, взгляд рассеянный, в пустоту, – не то дебил, не то психопат. В общем, выглядел я как бомж из фильмов о зомби, которого прикончат в первые же полчаса.
И тут входит Мелисса в воздушных золотистых кудрях и летящем цветастом платье, волшебное создание из горнего мира бабочек и росных трав. Я понимал: стоит ей только увидеть эту казенную палату и меня – кого методично, целенаправленно лишили всего мало-мальски ценного, кто сохранил лишь простейшие функции, жидкости и телесный смрад, бесстыдно выставленные напоказ, – и она никогда уже не посмотрит на меня прежними глазами. Я не боялся, что Мелисса развернется и убежит, – несмотря на всю свою нежность, она стойкая, надежная, верная, и не в ее правилах бросать парня с черепно-мозговой травмой, когда тот лежит под капельницей, – однако же я приготовился к гримасе ужаса на ее лице, к тому, что она, стиснув зубы, примется решительно выполнять свой долг.
Вместо этого Мелисса порхнула ко мне с порога, вытянув руки: Тоби, милый, и замерла у кровати, боясь причинить мне боль, не решаясь прикоснуться, бледная, с круглыми от изумления глазами, словно только что узнала о случившемся, Твое бедное лицо, Тоби…
Я облегченно расхохотался.
– Иди ко мне, – позвал я, стараясь, чтобы язык не заплетался, – я не рассыплюсь.
Я обнял Мелиссу (ребра пронзила адская боль, но мне было всё равно), прижал к себе. Ее слезы обжигали мне шею, она рассмеялась, всхлипывая:
– Глупость какая, на самом деле я так рада…
– Тш-ш. – Я погладил ее по мягким волосам, по спине. Почувствовал исходивший от нее запах жимолости, ее нежную шею под моей ладонью и едва не задохнулся от любви к Мелиссе, от того, что она пришла и расплакалась вот так, а я утешаю ее, как сильный. – Не плачь, родная. Все в порядке. Все будет хорошо.
Мы лежали вместе, свежий весенний ветерок шевелил жалюзи, сквозь бесчисленные бутылки с водой сочились овалы дрожащего солнечного света, копчик ломило, но я не обращал на это внимания, а потом Мелисса ушла: пора было открывать магазин.
Так проходили почти все ее визиты, лучшие из них; мы молча лежали на узкой койке, не шевелясь, только грудь мерно поднималась и опускалась в ритм дыханию да моя рука скользила по Мелиссиным волосам. Впрочем, иногда бывало и по-другому. Порой одна лишь мысль о том, что ко мне кто-нибудь прикоснется, вызывала содрогание, Мелиссе я, разумеется, в этом не признавался (говорил, мол, все тело болит, причем, если честно, так оно и было), но видел, как ее задевает, что я отстраняюсь после краткого объятия, поцелуя: Ну что, как дела, удалось сегодня что-нибудь продать? Она, конечно, старалась не подавать виду, пододвигала кресло, рассказывала о забавных случаях на работе, об очередных личных драмах соседки (высокомерная зануда Меган управляла модным кафе органической кухни – блюда из сырой капусты, вот это все – и вечно недоумевала, почему ей попадаются одни мудаки; ужиться с ней сколь-нибудь долго могла разве что Мелисса) – донесения из внешнего мира, чтобы я знал, что он никуда не делся и ждет меня. Я был благодарен Мелиссе за все, что она для меня делает, старался слушать и смеяться в правильных местах, но надолго меня не хватало, внимание рассеивалось, от беспрестанной болтовни раскалывалась голова, к тому же – я корил себя за неблагодарность и раздражительность, но ничего не мог с собой поделать – эти ее истории казались мне ничтожными, мелочными, лишенными всякого смысла по сравнению с огромной темной массой, наполнявшей мое тело, мозг и воздух вокруг меня. В конце концов я отвлекался, разглядывал узоры из складок на одеяле, лихорадочно рылся в памяти, пытаясь отыскать новые картины той ночи, или попросту засыпал. Чуть погодя Мелисса осекалась, бормотала, что ей пора на работу или домой, наклонялась, нежно целовала меня в распухшие губы и тихонько уходила.