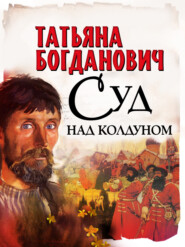По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Холоп-ополченец
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Подь к лешему и с Индринкой да и с боярином с твоим, с Шереметевым! Не самое он нам дорог, хоть бы и боярин твой!
– Это кто ж боярина так честит? – спросил Михалка Дорофея.
– А то Баим, стрелецкий сотник. Ишь волю им дал воевода, Олексей Ондреич князь.
Стрельцы вырвали у мужика зипун и, избив его, прогнали пинками и пошли в город. Мужик с ревом бросился за ними. Но шедшие за ним мужики схватили его и не пускали, крича:
– Вот дурень! Ну куда ты? Ведь посадят, а то и вовсе убьют. Радуйся, что пустили.
– Ишь, Домна-то Терентьевна в город хочет, за стрельцами де не опасно, – сказал Дорофей. – Они еще допрежь мордвы пограбят.
– Идем скорей на Верхний базар, – торопил Михайла, – подьячего поищем.
Толпа медленно расходилась из-под ворот, давая дорогу телегам.
Дорофей с Михайлой вышли на базарную площадь.
Между рядами лавок, расталкивая покупателей, продирались лотошники, выкрикивая на разные голоса:
– Вот сбитень горячий, пьет приказный, пьет подьячий!
– Пироги подовые, пряженые, с яйцами, с сыром, с бараньим сердцем!
– Хороши калачи, горячие, крупичатые!
– Эй, купец, черева курячьи больно хороши!
Михайлу хватали за полы и совали в руки калачи.
– Пирог арзамасский, с рыбой астраханской!
– Эй, молодец, возьми калач, угости любезную! Эй, махни, не далече до Балахни!
В стороне безместные попы, оборванные, грязные, хватали за полы прохожих и предлагали требы – за деньгу панихиду отслужить, за две деньги младенца окрестить. В церкви дороже возьмут.
В конце ряда у прилавка сидел писец и что-то строчил. Мужик, наклонившись к его уху, старался перекричать гомон и галдеж толпы. Рядом стоял другой писец – в рваном кафтане, с висящей у пояса чернильницей и заткнутым за ухо гусиным пером.
Дорофей с Михайлой остановились около него, и Михайла объяснил, какое у них дело.
Подьячий сейчас же достал из-за пазухи сверток бумаги, загнул и оторвал от него небольшой листок и, присев на обрубок у прилавка, приготовился писать.
– Смотри, хорошо пиши, – сказал Дорофей, – чтоб он потом не отперся.
– Две деньги дашь, так напишу, что никуда не уйдет, хоть на Москве в Володимерскую четверть представь, дьяк его тотчас велит разыскать. И послухов не надо.
– Ну, пиши, коли так, все по ряду, как он мне 125 четвертей ржи продал по 155 денег за четверть.
Подьячий поднял голову.
– По 155 денег? Дорого дал, борода! 125 ноне цена.
– Дорого дал, борода! – сказал подьячий.
– Ну, ну, пиши, знай, – перебил его Дорофей. – Он мне, может, такое слово сказал, что не жаль 30 денег лишку дать.
Дорофей засмеялся, и у Михайлы все лицо засветилось. «Чувствует, стало быть», подумал он про себя с радостью.
Подьячий окинул их любопытным взглядом и заскрипел пером по бумаге.
Через пять минут расписка была готова, Михайла поставил крест, и подьячий подписал за него: «Площадной подьячий города Нижнего Новаграда Юшка Плесунов руку приложил».
Дорофей велел еще раз прочитать ему все, вынул кошель, уплатил две деньги и, сложив вчетверо, уложил расписку в кошель.
На обратном пути Михайла купил в кожевенном ряду долгий кнут для Степки, и они торопливо пошли в обратный путь.
Вернувшись домой, Михайла велел обозчикам развязывать возы и таскать тяжелые кули в амбар. Сам он с Дорофеем стоял около и считал мешки. Мешков оказалось по счету верно – сто двадцать пять.
Теперь все дела были кончены, и можно было уезжать. Но когда Михайла велел запрягать, обозчики подняли настоящий бунт.
– Ты что это, Михалка! – кричал Савёлка, размахивая неравными по длине руками, из-за этого девки на селе браковали его. – Не люди мы, что ль! Чай, надо какие ни то гостинцы с городу девкам привезть.
– Бога побойся, Михалка! – бормотал Ерема, – хошь в собор Благовещенский зайтить, заступнице поклон положить.
Даже мрачный, ко всему равнодушный Нефёд, и тот возроптал.
– Нет такого положения, Михалка, чтоб в Новегороде алтына не выдать, – бурчал он.
Лычка хоть и поглядывал опасливо на Михайлу, а все-таки ворчал:
– Баба – однова? дыхнуть! – на порог не пустит, коли без гостинцу.
Все напоминали, что и у Семейки такое заведение было, чтоб в Новегороде по алтыну да по две деньги вперед выдавать.
– Не жалей, Михайла Потапыч, алтына, – крикнул Невежка, – отдашь полтину! – Он протискался вперед и дружески похлопал Михалку по спине, ласково заглядывая ему в глаза.
Михайле и самому не очень хотелось выезжать под вечер с такими деньгами. Да и с Марфушей надеялся хоть словечком перемолвиться. Он еще немного поспорил, но когда и Дорофей стал уговаривать его переночевать еще ночку, он будто нехотя согласился и выдал обозчикам казны двести пятьдесят денег.
Повеселевшие обозчики забрали деньги и повалили гурьбой за ворота.
Но надежды Михайлы не сбылись. Домна весь вечер ворчала на Дорофея, что он не хочет перебираться в верх к Козьме Минычу. Марфуша рано ушла к себе в светелку, кивнув на прощанье Михайле. Степка рад был кнуту и по себе готов удружить Михайле. Он несколько раз выбегал в сени, возвращался, но от сестры ничего не передал.
Наконец, отужинав, хозяева собрались спать, и Михайле пришлось прямо итти на сеновал.
– Прощай, Дорофей Миныч, – проговорил Михайла, кланяясь, – прощай и ты, Домна Терентьевна, спасибо на угощеньи. Завтра чем свет выедем. Может, не увидимся, так до будущего года. Разживайся с моей легкой руки, Дорофей Миныч. Может, на тот год и говорить со мной не будешь, как богатеем станешь.
– Дай-то бог, – подхватила Домна. – Вот как казна надобна. Марфуша-то у нас невеста, надо приданое готовить. Вон Козьма Миныч хороших женихов сулит.
– Ну, чего ты, – прервал Дорофей, – рано еще Марфуше замуж. Не хочет она, боится. Чего ее неволить? Пущай годок с нами поживет. Вот на тот год, как приедешь, может, к свадьбе и угодишь, попируешь, а ноне не стану неволить.