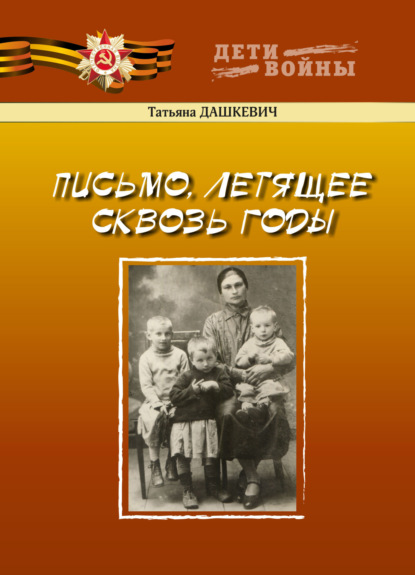По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Письмо, летящее сквозь годы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну что, принесли?
Мы – в восторге! Сейчас увидим представление! Как он их разворачивал, набивал козью ножку и дымил во всю ширь улыбчивого рта! Чисто пушкинские моменты – настоящий леший! Пока дикий турок Мустафа дымил на заднем крыльце флигеля, с парадного выходил в пиджачной паре типичный аристократ. В нашем доме жила семья профессора-гинеколога Павла Федоровича Тимофеева. Глава семьи полностью соответствовал типажу профессора Преображенского из «Собачьего сердца». У него подрастал сын Юра. И мы уже понимали, Юра – это не то, что мы. Он не так одет, живет с родителями в отдельной квартире, его опекает прислуга, которая открывает форточку:
– Юра! Пришла учительница французского! Или:
– Юра! Пришел художник!
Они жили дореволюционным укладом. Жена – в отдельной комнате, зашторенной, в полной темноте. Говорили, она больная, помешанная. У Юры была своя комната. Нам, жителям коммуналок, которых в комнате набивалось до десяти при больших семьях, их жизнь казалась сказкой, а квартира – дворцом. И воспитания мальчик Юра был самого что ни на есть правильного – ушел добровольцем на фронт, сражался за Родину, вернулся героем.
Мира Наумовна Озерская – замечательная женщина, в московском городском Доме пионеров какой она могла вести кружок? Шахматы. Сын Миры Аркадий нам казался взрослым, поэт, он учился в Литинституте. Совсем юного и возвышенного, его забрали в тюрьму. В среде студентов образовалось общество «необарокко». Туда входил Кадик (Аркадий), попал и Левка Тоом, который стал известным писателем и переводчиком. К сожалению, аресты близких, соседей тоже сопровождали наши детские будни.
Полдвора у Миры Наумовны играли в шахматы, а я – пела в хоровом кружке про товарища Сталина и даже в одной песне запевала. Наш хор все время выступал по радио. Культура была доступна детям. Стоит ли говорить, что тогда казалось обычным: все детские и взрослые кружки работали бесплатно.
В конце декабря в Большом театре для нашей элиты давали правительственный новогодний концерт. Его открывали дети. Мы пели песню Мурадели. В правительственной ложе сидели Калинин, Ворошилов и, конечно же, герой всех песен – Сталин. Организовывал концерт Александров – знаменитый руководитель военного ансамбля песни и пляски. Наш хоровик, Владислав Геннадиевич Соколов, перед выходом стращал детей:
– Чтоб направо никто не смотрел!
А я вышла с бантами и так перекрывающими обзор, в белом школьном фартуке, и чуть не окосела – так хотелось Сталина увидеть!
В самый разгар моей деятельности в кружке мама вдруг сообщила:
– Я устроила тебя в консерваторский хор.
– Мама! – воскликнула я, еще не понимая, радостно мне от этого или грустно.
– Да, ты больше не будешь петь в этом пионерском хоре. Завтра идем в консерваторию.
Идем так идем – идти-то недалеко. Трудно я привыкала… Владислав Геннадиевич, руководитель детского хора, как-то встретил меня в коридоре консерватории и загородил мне дорогу руками:
– Ах, вот она где! А я думаю, куда эта девочка делась? А почему такая унылая?
Тут уж я ему пожаловалась, что мне здесь тоскливо, я привыкла к другому, а мама…
– Это все мама! – сообщила я с укоризной.
– Умная у тебя мама! – почему-то обрадовался Соколов. – Все правильно придумала!
Благодаря маме я получила прекрасное развитие… И как эта женщина без образования поняла, что нужно для музыкально одаренного ребенка? Как она без мощной руки смогла все это провернуть?
С самых ранних лет, сколько себя помню, мы с мамой возделывали огород. Сейчас трудно поверить, что везде по Москве были огороды, рядом с бульварами увивался горох, а во дворах красовались подсолнечники и тыквы. Нам выдали единственную сотку на месте нынешнего университета. В свое время там была и того хуже – свалка. На многолетнем перегное вырастали необыкновенные овощи. На нашей делянке родились чудесные капуста, брюква, картошка – все, что душе угодно! Я ужасно не любила туда ездить, мама меня отрывала от дворовых занятий. Мы гоняли в «казаки-разбойники», только начиналась настоящая увлекательная игра – и тут звал строгий голос мамы:
– Вера, едем на огород!
Я проклинала этот огород. Мы доезжали на троллейбусе от Киевского вокзала, выходили на остановке «Зюзино». Там кукарекала и мычала деревня с таким именем, а дальше мы плелись пешком, груженые инвентарем… Сейчас это – часть Москвы. И на этих огородах мы пахали всю войну.
Не отдадим Москву!
16-го сентября 1941 года очень многие уходили пешком прямо из Москвы. Мама купила все продукты, какие только смогла достать. Что такое достать продукты в сентябрьской Москве 1941-го, я попробовала на собственной шкуре, когда мама меня отправила за табаком. На улице Горького стоял красивый табачный магазин, оформленный под хохломскую шкатулку. Мама меня попросила:
– Верочка, сходи в «шкатулку». Скоро немцы будут, а мы, чего доброго, останемся без табака.
И я побежала с авоськой на нынешнюю Тверскую, заняла очередь и через некоторое время стала первой. И тут дверь закрыли, а в спину начали напирать. Я уперлась руками, сзади меня давили, дверь ходила ходуном. Не знаю, чем бы все это закончилось для меня, если бы от напора не рухнули красивые резные двери. И с ними упала я, а на меня – вся толпа. Вернулась домой без табака, зато живая.
В 1941–1942-м учебном году мы не учились, потому что почти всех детей эвакуировали. Меня тоже хотели с хором отправить в эвакуацию, но я подняла такой вой, крик, уцепилась за маму… И родители меня не отдали. Макарыч воздел руку, словно великий полководец, и пафосно заявил:
– Не отдадим Москву! Мы будем защищать Москву! Я поставлю на окне свой пулемет!
С благодарностью посмотрела на него и про себя решила, несмотря на то, что он по обыкновению пьян, я с ним солидарна. И подумала, что я – настоящая дочь комбрига – буду защищать Москву, как смогу. Даже ценой крови и жизни. И мы все время шатались по крышам, гасили зажигалки, чувствовали себя героями, искали дезертиров. И находили много интересного: книжки, старинные вещи, птичьи гнезда и выводки котят… Наша комната была на углу, иногда к нам приходили военные и присматривались, где пулеметы ставить. Сердце тогда замирало от счастья причастности к фронту.
Итак, в сентябре все бежали из Москвы. В суматохе и кутерьме случались нежданные радости. Вдруг кто-то крикнул:
– Ребята! На «Большевике» печенье выбрасывают!
Мы все тут же мчимся за Белорусский вокзал, где уже толпится народ, набивает карманы и торбы… И прибегаешь домой с полным подолом печенья!
Помню и другой клич. Почти ночью, весной, в темноте, кто-то истошно орет:
– Айда-а! Братцы! Айда смотре-еть! По Москве-реке мертвые немцы плывут!
Мы – бегом туда. Ничего не разглядеть, темно, льдины стукаются друг о дружку, и мерещится: вот один поплыл, там – другой… Мерзлые, страшные фрицы… Тихо возвращались домой.
У нас была ненависть к врагу. Бомбежки начались быстро. И часто: бомбежки, бомбежки… Нам страшно было, что у родителей вмиг лица перекашивались от ужаса, они из самого ценного хватали только нас и бежали по улицам кто куда: в метро, подвалы, подворотни… Иногда даже «воздушная тревога» не успевала – среди ничего не предвещающей тишины и благодати летели с ревом самолеты.
Однажды утром бросили бомбу у Никитских ворот – такая волна пошла, что чуть наша кровля не свалилась. По дороге в школу трамвайные рельсы жутко стояли дыбом, словно ребра скелета, а голова Тимирязева от взрыва улетела на крышу Литинститута. Долго же не могли найти эту голову! Сразу после этого страшного взрыва я встретила подругу в опустевшей от детей Москве. Мы пошли в метро «Маяковская», там на рельсах лежали доски, на которых спали люди. Все брали в бомбоубежище вещи – не знали, останется ли дом. Я расположилась на полу, сижу, жду окончания «тревоги», и вдруг слышу с досок знакомый голосок:
– Вера!
Смотрю, моя Олечка, подружка дорогая, одноклассница. Сколько было радости! Мы наговориться не могли. От «Маяковки» вдвоем по рельсам дошли до «Площади Революции». Говорили обо всем сразу! А утром – снова бомбили, и мы прятались под нашим домом. Иногда мы хоронились в бывшей бумажной артели по производству тетрадок, блокнотов и других бумажных вещей, которая располагалась в подвале нашего дома. Там стояли машины, станки, а я играла с куклами, делала им комнатку на холодных промасленных станках. Иногда начинались налеты без объявления. Но это было недолго – когда от Москвы немца отогнали, прекратилось. А поначалу бомбили каждый вечер! А мы были такие дурачки: переживали, что налеты прекратились, и нам больше не нужно героизм проявлять. Детей в Москве после эвакуации осталось мало. Играть не с кем. И я начала читать.
Я читала все, что видела. Мне было одиннадцать лет, когда мама в книге Мопассана оставила очки, как закладку. Я следом за мамой, придерживая очки на старом месте, принялась за изучение французской литературы. У нашего соседа дяди Леши, милиционера, в углу лежали горы книжек, когда кого-то арестовывали, он себе забирал книги, любил их. Мы к нему ходили как в библиотеку. В бомбоубежище при тусклом свете метро я начала читать прихваченную набегу «Марию Магдалину» Густава Даниловского. Тетя Шура протяжно на меня посмотрела и подозвала маму:
– Посмотри, что она читает.
Мама вторила ей шепотом:
– Шура, если она читает и понимает, то уже поздно, а если не понимает – то пусть читает.
И я читала все подряд, невзирая на то, понимаю или нет, а также – во что одета и обута.
Когда наладилось обучение в школе, я носила рваные ботинки сына тети Кати. А девочки кричали учителям:
– Спросите ее с места! Она все знает!
Они боялись моего позора больше, чем я сама. К первому мая подружки решили достать мне ордер на школьные туфельки. Они собрались и купили мне черные туфельки, так называемые школьные, на маленьком каблучке. Макарыч их пропил.
Господь сира и вдову приимет… Он меня не оставлял. Он дал мне подруг и друзей, дал хороший веселый характер, и я не могу сказать, что у меня было несчастное детство.
Смерть поэта. И – жизнь