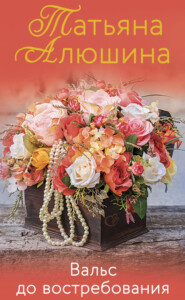По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Двое на краю света
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я поговорила еще с Лидочкой, позвонила Ольге, рассказала о своих новостях и планах и побрела в гостиницу, решив пройтись немного, чтобы упорядочить мысли.
На фига я полезла в эту аферу?! Ну вот зачем мне какая-то там далекая Арктика у черта на куличках, на нулевой широте, вся во льдах и проблемах?
А?! Ну на черта?!
И оставить сына больше чем на месяц?! Да я никогда еще не расставалась с ним так надолго, да какое надолго!! Один раз по работе на два дня уехала, и все! Я даже представить себе не могу, как я проживу это время без него, я ж с ума сойду!
И ведь уперлась – вот надо мне, и все! Вот же зараза! Может, отступиться? Ну действительно, ну на фига мне это? Что я, других цивилизованных мест не найду, куда можно с сыном поехать, если уж снимать приспичит? Да еще с этим Красниным зацепилась, мы же явно с ним диалог провели в русле «кто кого переиграет». И зачем мне все это? И Краснин этот… Ну посмотрела ты на него, послушала, оценила – и хватит! Домой, к сыну и своим ВИП-клиентам!
Я не могу… отступить не могу. Твою ж дивизию!!
Я сидела с ногами на широком подоконнике высокого окна в гостиничном номере, привалившись к стенке спиной, обхватив руками коленки, смотрела на поток машин на набережной, на Неву и, разумеется, крутила в голове, как заезженную пластинку, сомнения-размышления.
Гостиница располагалась в старинном здании на набережной, и номера в ней были стилизованы под позапрошлый век, немного вычурно, но лично для меня любой стиль, который бы они ни придумали и ни наворотили, компенсировали высоченные потолки, большие высокие окна и вид на Неву. Я люблю высокие потолки, чем выше, тем лучше, у меня создается впечатление воздуха, свободы дыхания и какого-то умиротворения от отсутствия сжатости пространства. А еще я люблю размышлять, стоя у окна или сидя на подоконнике и глядя на улицу.
Я поеду в эту замороченную экспедицию!
Я уже поняла, что поеду. Я бы все равно поехала, пусть не в эту, а в другую, в которую так настойчиво и радостно предлагал мне отправиться господин Краснин.
Но мне припекло именно в эту!
Может, потому, что она такая важная, долгая, интересная и труднодоступная? А может, из-за него… из-за Краснина? А вот о нем я сейчас думать не буду, у меня есть проблемы поважней.
Архип. Я, наверное, в две тысячи неизвестно который раз убеждала себя и повторяла мысленно и вслух, что я все замечательно придумала на время моего отъезда и он будет в надежных и любящих руках, окружен заботой и вниманием, но… Вы понимаете.
У меня странноватая семья.
Не так чтобы совсем уж беспредел какой с пьяной перетусовкой родственных отношений и бытовым криминалом, нет, конечно, боже упаси! Но странноватая.
Мой папа Александр Платонович Шротт женился на моей маме, Виктории Владимировне, когда ему было сорок четыре года, когда ему исполнилось сорок пять, родилась Глория, а в сорок восемь – появилась на свет я. Он уже был женат один раз, но развелся задолго да того, как встретил маму. Почему развелся, так и осталось для нас с сестрой тайной, ведь тетя Надя, как мы с Глорией всегда называли бывшую жену папы, стала для нас как родная. Она самый близкий и любимый друг нашей семьи и много помогала и делала для нас.
Это странно, но так и есть. Может, она нас так любила, потому что у них с отцом не было детей, а может, она его так любила всю жизнь, что не хотела расставаться и стремилась присутствовать в его жизни хотя бы в таком качестве?
Я не знаю и не берусь судить.
Отец – известный потомственный архитектор, не настолько, как его отец, наш дедушка, но весьма востребованный и очень даже успешный.
Когда он встретил маму, она только что закончила Суриковское, вся такая молодая, гоношистая и бесшабашная новоявленная московская художница. Что именно его в ней так зацепило, что он в первый же день их знакомства предложил ей выйти за него замуж, до сих пор не понятно никому из родных и близких. Но самое трагическое в этой истории то, что она сразу же согласилась на его предложение.
Ну да, она была красоткой такой своеобразной, совершенно безбашенной, постоянно крутилась в компании известных артистов, режиссеров, художников и писателей, бомонда того времени, кто-то из знакомых ввел ее в этот мир, и она там задержалась насовсем, даже пару раз присутствовала в компании, куда приходил Высоцкий.
И одевалась с большой претензией, похожая на раскрепощенную западную художницу, так что люди оборачивались, когда она дефилировала по улице Горького, нынче исторически восстановленной Тверской, в ярко-оранжевых брюках, бирюзовой блузке-разлетайке, в большой красной шляпе, вся увешанная украшениями, как елка новогодняя, и театрально выверенным жестом курила сигарету в длинном мундштуке.
Она на двадцать два года младше отца и настолько же далека от образа его жизни и понимания его. Они представляют собой двух совершенно не сочетаемых ни в каких ипостасях, запрещенных к совместимости людей, словно живут на разных планетах и пытаются разговаривать друг с другом, одновременно крича в рупор. А когда они встретились, там такие страсти разгорелись, что как Москва не вспыхнула – большая загадка!
Любовь выше Останкинской телебашни с безбашенными же поступками, на грани экстрима – и расставаниями, с криками и обвинениями не пойми в чем, сами потом удивлялись, что они там инкриминировали друг другу. Но неизменно и в эту их бесшабашную любовь и в расставания-примирения втягивали пол-Москвы свидетелей и участников.
То они любились в общественных местах, так что их арестовывала милиция, то отец засыпал ее цветами и подарками, громко читал стихи, пел песни, становился на колено в тех же общественных местах с купеческой удалью и размахом. То она танцевала ему под окном полуголая под луной, не обращая внимания на такую мелочь, как соседи отца по дому, выступавшие в качестве зрителей этого балета, в конечном итоге вместо оваций вызвавшие милицию. Да черт-те что творили!
То отец уезжал с вещами после бурной ссоры, и вслед ему летели из окна ватманы с его эскизами и работами, то мама «отбывала» под фанфары разборок на весь дом. Через день-два, максимум неделю они так же громко и страстно мирились, и весь дом теперь прослушивал пьесу про их бурное воссоединение. И всегда на публике, и всегда присутствовали при этих постановках родные, друзья, близкие и незнакомые люди. Вот такая почти публичная любовь.
Отец признавался мне как-то, что он тогда, в тот год, словно не был самим собой, каким-то образом мама умудрялась доводить его до такого состояния, что он из собственного спокойного и рассудительного разума вылетал, не узнавая себя и поражаясь и себе, и своим поступкам. Словно человек, который пришел в себя после тяжелой пьянки и вспоминает все, что натворил вчера, и не знает, куда деться от стыда.
Лет в пять я уже четко понимала, что мама постоянно «в роли». Вернее, большую часть времени «в роли». Я очень точно могла определить, когда она искренняя, настоящая, что ли, а когда играет, изображает жизнь. Что играет, почему? А бог знает, это ее воздух, смысл и суть жизни – всегда что-то изображать. Папа говорит, что это театральная бацилла.
Несколько лет мама пыталась доказать всему миру, что она гениальная художница, мир не оценил по достоинству этих попыток, и в результате она нашла применение своему таланту как театральный художник и по сей день работает в одном известном театре Москвы. Кстати, она на самом деле талантливый художник и несколько раз получала премии за выдающиеся декорации к спектаклям, что только усугубляло ее «диагноз» актрисы в жизни.
О господи, если бы вы только знали, какой это иногда бывал кошмар!
Остановить ее невозможно, если она что-то играет, то все – трындец, играет!
Роль заботливой матери ей как-то не пошла. Оказалось, не ее амплуа. Она ее и так и эдак пробовала и примеряла – но не то, не то: страстей маловато, а самоотдачи требует много. И нами с сестрой в основном занимался папа и, как ни странно, тетя Надя, его первая жена, и бабушка Лена, мамина мама, но она умерла, когда мне было шесть лет, а Глории девять. Но «занимались» – это громко сказано: не забывали, что есть дети и их надо кормить, одевать-обувать и в садик-школу отправлять.
Папе заниматься маленькими детьми было тяжело, и возраст, и он очень много работал, так что для нас постоянно нанимали каких-то теток, домработниц и нянек в одном лице, но это дорого стоило, и тетки то появлялись, то пропадали, в зависимости от того, как папа зарабатывал в какой момент.
А еще с нами жил дедушка Платон, вернее, это мы с ним жили, потому что квартира принадлежала ему. Дедушка был совсем старенький, но заслуженный сильно, за ним ухаживала его личная индивидуальная сиделка, хотя он и был не лежачим или немощным, а вполне бодрым, в полном разуме и жизненном тонусе.
Дедушка обитал на своей половине квартиры, в которую имелся отдельный вход со двора, активного участия в быте семьи он не принимал, но едко и точно комментировал все происходящее и маму нашу не то чтобы не любил, но очень четко понимал ее суть, характер и претензии к жизни. Мы с Глорией его обожали, и это чувство было глубоко взаимным. Мы частенько сбегали на его половину от родительских страстей и их вечных компанейских кухонных посиделок с друзьями и отсиживались с дедом в его кабинете или в гостиной. Евгения Борисовна, его неизменная помощница, подкармливала нас вкусностями, а дед Платон рассказывал нам необыкновенные истории и показывал старинные художественные альбомы.
Дед умер, когда мне было семь лет, и мне казалось, что рядом со мной рухнул и исчез целый мир, провалившись в бездонную черноту. И я несколько дней так сильно плакала и никак не могла остановиться, что совсем разболелась, а по ночам мне снилась пропасть, куда рухнул этот мир, и я все звала и звала деда и страшно боялась этих снов. А потом как-то они исчезли сами собой.
И все это – и мама вечно в роли, и папа в работе, и их постоянные разборки и выяснения, и тетя Надя, и вереница меняющихся нянек-домработниц, и друзья родителей, и старенький дедушка Платон – крутилось бесконечно и варилось у нас дома, и мы с сестрой в этом жили и росли.
Зато родителям и их друзьям у нас было весело!
Гости не переводились. Мы жили в центре, в старой квартире, наша часть которой состояла из двух больших комнат и крошечного закуточка, где стояла моя кровать, и просторных кухни, ванной и туалетной комнат.
Но не в метраже дело!
Восьмидесятые годы, ни тебе Интернета, ни тебе иной доступной широкой информации – люди общались! Это классно! Собирались компаниями, обсуждали новые книги, фильмы, театральные постановки, выставки, спорили – здорово!
Кроме одного момента.
Собирались эти компании у тех, кто жил в центре, – удобнее всего, зашел как бы мимоходом, вот «вспомнил» и зашел, чайку попить, поболтать, и метро рядом! Место нашей прописки как раз попадало под эту удобную дислокацию, и гости стали какой-то постоянной величиной у нас в доме, менялось только их количество, так что маме повезло – у нее всегда имелись зрители!
Утром, чтобы нам с Глорией собраться – мне в садик, ей в школу – и позавтракать, приходилось переступать через спящих на разложенных матрацах на полу в кухне. Взрослым, наверное, это было и на самом деле очень здорово, такое общение, между прочим, как правило, с бутылочкой и табачным дымом коромыслом, гитарой и магнитофоном. А вот нам, детям, ничего не понятно было из их обсуждений и громких разговоров, да и неинтересно, и достали они нас до не знаю чего – ни поесть толком, ни в туалет попасть, когда хочется и приспичило, ни позаниматься спокойно.
Глория стала самостоятельной лет в двенадцать, когда переменилась жизнь не только в стране, но и в нашей семье, а я повзрослела годам к тринадцати. И мы справлялись с собственной жизнью и ответственностью за нее. Нет, разумеется, мы не были брошенными и забытыми детьми – нас любили, заботились, как умели, баловали и даже потакали редким капризам. Но помнить и следить за тем, что надо пообедать или поужинать, что нужна новая одежда, или обувь, или тетрадки и учебники, или надо сходить в поликлинику… и за всеми остальными бытовыми делами и вопросами теперь приходилось нам с сестрой самостоятельно.
Жизнь изменилась. Пришли девяностые.
Вот как раз в девяносто втором году, когда Глории было двенадцать, отец ушел жить отдельно.
Нет, не развелся с мамой и не бросил нас, а просто переехал в мастерскую мамы, которой она не пользовалась, но которая ей полагалась как художнику. А позже, где-то через годик, тетя Надя выхлопотала для него вполне приятную однокомнатную квартирку рядом с мастерской. Уж как у нее это получилось, никому не известно, если учесть, что наша-то квартира досталась отцу от деда. Ну, вот получилось. А нам с сестрой по малолетству такие подробности были неинтересны, да и непонятны.
Почему ушел? От перебора эмоций люди умирают. В какой-то момент у отца так прихватило сердце во время их с мамой очередного классического «разговора», что он испугался и вполне реально понял, что может умереть.
Они до сих пор так и живут – он у себя, она у себя, встречаются каждые выходные или реже, страсти немного поутихли, но запала им пока хватает, так что регулярные ссоры и примирения еще не исчезли из их жизни. Теперь к ним добавились мамины сцены ревности и ее же внезапные «инспекторские» проверки отцовской квартиры на предмет выявления в ней посторонних женщин.