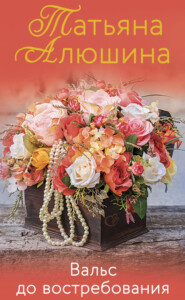По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вынужденное знакомство
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да все за тем же! – раздражился Василий. – Включи логику, мам. За тем, что этим сволочам требуется захапать все, до чего они могут дотянуться! Потому что они используют любые возможности и шансы для укреп-ления своей организации! – как-то резко, в один миг захлестнуло его негодованием. – Потому что она все еще молодая женщина и может родить много славянских детей, которых воспитают бойцами-диверсантами, а девок продадут задорого, чтобы те, в свою очередь, рожали белобрысых детей. Потому что эта квартира так и принадлежит только Насте, а захватив еще и Савку и шантажируя, обещая насилие, пытки-издевательства и убийство ребенка и Насти, они еще и стрясут с меня, по ходу, все, что только возможно! Потому что я буду исполнять все их требования, все! – прокричал он придушенно, вынужденно сдерживая рвущийся из него дикий, бессильный крик, чтобы не разбудить, не растревожить Саввушку. – Буду исполнять! – повторил Василий, захлебываясь бессильной яростью. – До последнего надеясь спасти их обоих! Ее спасти!
Резко подскочив со стула, так, что тот отлетел в сторону и грохнулся спинкой на пол, в два стремительных шага он подскочил к окну, дернул ручку стеклопакета, распахивая створку на всю ширь. Нервно-судорожно вдохнув-втянув в себя морозный воздух, положил ладонь на глаза, с силой вдавив большим и средним пальцами виски, и пообещал, наверное, самому себе:
– Я этих сук достану… достану… Я им Настьку не отдам…
Обескураженные, захваченные врасплох внезапным и настолько страстным взрывом эмоций обычно всегда спокойного, рассудительного, где-то даже флегматичного Василия, Полина с мамой, замерев, смотрели на него оторопело-испуганно, только в этот момент осознав всю глубину и ужас пришедшей в их семью трагедии.
– Как, сынок? Как достанешь… если тут такое?.. – прошептала потрясенно Елизавета Егоровна, снова прижав пальцы к губам, и расплакалась.
Он повернулся, посмотрел на нее каким-то бездонным взглядом, словно за пару этих минут прогорел внутри в пепел, присел, оперся на край подоконника, не замечая, как поток ледяного ветерка раздувает рукава его рубашки, и объяснил уставшим, потухшим тоном:
– Мы договорились о плотном сотрудничестве с контрразведчиками в поиске Насти. Поскольку у меня весьма востребованная специфика деятельности и самая серьезная мотивация в этом деле, то, возможно, наше сотрудничество и будет плодотворным.
– Почему возможно? – спросила мама как-то беспомощно-потерянно, с тревогой посмотрев на сына.
– Да потому, что меня не посвятили в детали этого дела по ее бывшему мужу, и понятно, что и не посвятят, поскольку это напрочь закрытая инфа. И как можно что-то делать и копать, когда ни фига не знаешь?! Как слепой и глухой биться башкой в стену! – возмутился Василий.
– Так, – произнесла деловито Полина. – Давайте-ка оставим эмоции и попробуем спокойно подытожить и систематизировать имеющиеся факты.
– Ну, давайте, – резко вздохнув-выдохнув, остужая себя, измученно усмехнулся Василий.
– Первое, – начала перечислять Полина, разжимая пальцы, – Настю похитил ее бывший муж, оказавшийся террористом. Второе… – И запнулась, посмотрев вопросительно на брата. – Уточни один момент. Если я правильно поняла, этот хрен не какой-то рядовой там солдат, а боевик-управленец среднего руководящего звена или, скорее всего, за десять-то лет уже приподнявшийся до высоких позиций в организации.
– Как всегда, схватываешь самую суть, сестренка, – похвалил Вася совсем уж утомленным голосом опустошенного от моральной, да и физической заодно усталости человека. – Да, как объяснили мне парни, он занимает высокий статус в организации.
– Вот, – удовлетворенно кивнула Поля. – Из чего я делаю вывод, что в Москве он объявился не ради Насти, внезапно, вдруг, аж через десять лет вспомнив о бывшей жене, а за каким-то совсем иным интересом. А она так, легкий побочный заработок по ходу какой-то иной, гораздо более серьезной операции террористов. А посему, думаю, искать его станут с особым тщанием и рвением. А это значит, что у нас есть вполне обоснованная и реальная надежда, что Настеньку удастся найти.
– Найти-то да, только… – Не договорив фразу, Василий осекся и, выпрямившись, резко развернулся к распахнутому окну.
В кухне повисла гнетущая, настороженная тишина. Они отлично понимали, что стоит за этим его «только» – что сделают с Настей к тому моменту, когда ее найдут, если найдут, и будет ли она вообще к тому моменту… оставят ли ее в живых…
– Слушайте! – осенило вдруг Полину неприятно-пугающей мыслью. – Савва сказал, что пришел незнакомый дядя и мама спросила, кто он такой. То есть Настя его не узнала, видимо, он сильно изменился. Получается, что мужик этот ужасно прокололся, потому что уж я-то его очень хорошо разглядела и запомнила, да и соседи тоже. И даже если он весь из себя такой крутой диверсант и конспиратор, что прямо остался незамеченным на всех видеокамерах наблюдения в городе, мы-то сможем дать его подробное описание и составить его точный портрет.
– Обязательно, – захлопнув и закрыв створку, подтвердил Василий, повернулся и посмотрел на сестру. – Непременно дадите в ближайшее же время, поскольку вас уже завтра вызовут в Комитет. И подпишете бумаги о неразглашении сведений. Думаю, не надо повторять еще раз и объяснять, что теперь за нами всеми установлено наблюдение, а все наши гаджеты поставлены на прослушивание. Будет отслеживаться и проверяться каждый человек, вступающий с нами в контакт, даже продавщицы вашего любимого магазина здорового питания. И твой Александр в том числе, – произнес он с доступной ему при столь измотанном состоянии легкой иронией, посмотрев на сестру.
– Ему не понравится, – расстраиваясь заранее, констатировала Поля, тяжко вздохнув.
– Это вряд ли, – усомнился братец. – Оповещать Александра о происшествии никто не намерен, более того – прошу тебя ничего ему не рассказывать, даже намеком, – предупредил Василий, акцентируя голосом свою просьбу, скорее похожую на требование.
– Но почему? – без всякого энтузиазма довольно вяло возразила Полина. – Его надо предупредить или хотя бы намекнуть. При том положении и должности, которые он занимает, Александру необходимо знать, что за ним установлена слежка, пусть и из самых наилучших намерений поиска террориста. Через него же проходят серьезные сделки, а люди, с которыми Александру приходится общаться по бизнесу, сплошь властно-богатые господа, исключительно вип-уровня, в том числе и олигархи, и чиновники высшего звена. Ты представляешь, если кому-то из них станет известно о прослушке, проверке и слежке, которой они подвергаются из-за него и из-за нас. Фигово станет всем.
Сама тут же красочно представив и оценив возможные последствия такого развития событий и мысленно содрогнувшись, Полина подчеркнула:
– Очень-очень фигово. Еще, не дай бог, начнут мешать следствию. К тому же, если ты помнишь, Александр мой жених и уже практически твой родственник и член семьи.
– Да как тут не помнить, – криво-нерадостно, явно делая над собой усилие, чтобы выразить мимикой эмоцию, ухмыльнулся Василий, – ты ж не дашь забыть о наступающем на всех нас «счастье». – И, посмотрев в глаза сестре, произнес с нажимом: – И все же, Поля, ставить в известность Александра о том, что у нас произошло, нельзя. Да и компетентные ребята запретят тебе это делать. А что касается его клиентов-партнеров и прочих «крутышей» безмерных, то для ребят из «контртеррора» любые регалии глубоко пофиг, все это знают и вступать с ними в диспуты-противостояния боятся до оторопи. Ничего, походит твой любезный под наблюдением, может, еще сильно подивишься, узнав много чего нового про будущего мужа. И, кстати, мам, – напомнил он Елизавете Егоровне с сожалением, – Юрия Александровича посвящать в ситуацию тоже нельзя, поскольку он пока не член семьи.
– Да поняла уже, – расстроенно махнула рукой мама и вздохнула. – Получается, что вовремя Юра уехал детей навестить, не придется ни о чем умалчивать. Хотя Юра не Александр Полинин, ему я могу правду сказать, что запрещено обсуждать и распространяться о Настином деле. Он поймет.
– Да, – поддержал маму Вася, – дядь Юра мужчина грамотный и серьезный, он поймет. – И, со всей очевидностью окончательно исчерпав остатки сил и любые возможные морально-волевые резервы, Василий протяжно выдохнул и объявил закрытие «кухонного совета»: – Все, женщины, на сегодня мы обсуждения закончили. Что мог, рассказал и объяснил, даже сверх того, что полагалось и разрешили вам донести. Но завтра утречком вас обеих «подпишут» на предмет сохранности гостайны, так что не страшно. А теперь отбой. Мне надо хоть немного поспать. Я зверски вымотан и просто вырубаюсь.
Полина была оглушена ясным осознанием реальности, какой-то неправдоподобной, дикой ситуации и беды, в которой они оказались. Да еще – пропади оно все пропадом! – во всю ширь присущего ей красочного, творческого воображения представляла себе, как может издеваться над Настюшкой эта сволочь. А еще того пуще, с замирающим от одного только предположения сердцем, что мог бы он сотворить с Саввушкой, окажись ребенок в его руках… И не могла не то что заснуть, а хотя бы немного успокоиться, перестать дрожать телом, мыслями и расслабиться – ну не могла, и все.
Она и валерьянки с мамой на пару хлопнула-приняла перед тем, как отправиться в постель, и то прикрикивала мысленно на себя и запрещала, то уговаривала выкинуть из головы пугающе-яркие страшилки, вызывающие поток неконтролируемых, текущих безостановочно слез, когда представляла, какой ужас, унижение, а возможно, и боль испытывает сейчас Настюшка. Полина все повторяла и повторяла, что ей потребуются физические силы и чистый, холодный разум, для того чтобы с полной отдачей принимать участие в поиске Насти, а для этого требуется отдых телу и уму, поэтому немедленно спать, спать, спать…
Да сейчас! Какое там спать. Стоило хоть немного уговорить-успокоить себя, «выключить» и выкинуть наконец «ужастик» про Настю и Саввушку с мысленного «экрана», как, без всякого ее разрешения на то, нагло и своевольно влезли в разум и принялись донимать тревожные мысли об Александре и о запрете брата посвящать того в случившееся с ними бедовое происшествие. И тут же с таким трудом освободившуюся от предыдущих страшилок голову заполонили новые тревоги, красочно рисуя варианты всяческих возможных последствий, когда Александр все-таки прознает об установленном за ним контроле фээсбэшников.
Но больше любых возможных неприятных разборок с женихом, случись-таки конфуз обнаружения Александром слежки, Полину пугала необходимость вообще что-то ему говорить при встрече. А ведь рассказывать придется, невразумительным мычанием и ссылкой на какую-то ерундовую причину и форс-бог-знает-какой-мажор, вынудившие Полину не прийти на запланированное свидание, она не отделается. И поскольку ничего объяснить невозможно даже приблизительно, то придется что-то сочинять и выдумывать.
А вот это сплошная засада и чистое попадалово!
Ибо врать Полина Павловна Мирская не умела напрочь. Ну не предусмотрела природа-мама такого навыка и хотя бы малого умения житейской изворотливости для этой девочки, посчитав, видимо, что и тех достоинств, которыми она ее наградила-одарила, вполне достаточно.
Нет, привирать или придумывать какие-нибудь оправдания-отговорки сотворенных ею неблаговидных деяний Полина пробовала, разумеется, ну а как без этого, и не раз.
Такое вообще реально в жизни – не врать вообще?
Особенно в детстве и особенно когда у тебя имеется старший на десять лет брат, идеальный кандидат, на которого можно легко и радостно сваливать любую вину за большинство проступков и проказ, с учетом того, насколько сильно тот любил младшенькую сестрицу, баловал ужасно, всегда и везде защищал от всех напастей и готов был прикрывать любые ее проделки.
Красота, правда? Не всем так везет. Ага, щаз-з-з-з…
Нет, готов-то он был готов – и принимал на свою головушку вину и ответственность за сестренку Поленьку в любой ситуации, тут уж ничего не предъявишь, что было, то было, но иногда родители уточняли у дочери:
– Поля, Вася на самом деле разбил вазу?..
…Или обрезал ножницами все листья и цветы на бабушкином каланхоэ? Отобрал у девочки Лизы лошадку во дворе? Испортил мамину косметику? Разрисовал стены в родительской спальне? Засунул в унитаз рукавички, чтобы проверить, смоет ли их вода? И так далее, так далее по широкому списку «деяний» очень неугомонной девочки с весьма ярким и буйным – как нынче принято называть, креативным – воображением…
После такого вопроса Полина тут же заливалась тяжелым болезненным румянцем, дико как-то, до самых ушей и корней волос, до наворачивающихся мгновенно слез, прятала-отводила взгляд, смотря куда угодно, только не на вопрошающего родителя, и принималась лепетать нечто настолько невразумительное и откровенно фальшивое, что дальнейший допрос-опрос не имел уже ровно никакого значения за очевидным и неоспоримым уличением в свершенном деянии истинной «преступницы».
Сколько неприятнейших и ужасных ситуаций, между прочим, должных бы сильно негативно повлиять на неустойчивую детскую психику, пришлось пережить Полине из-за этой своей гадской неприспособленности ко всякого рода вранью и изворотливости в подростковом возрасте! Да не перечесть. Вы себе представляете жизнь девочки в пубертатный период с неспособностью юлить и привирать хоть немного?
Хоть немного! Ну хоть чуточку? Даже не врать, а не говорить правду, когда спрашивают? Жесть полная.
Однозначный кандидат в вечные изгои и отверженные. Очевидно же, что никаких друзей-подруг при такой оригинальной способности, или скорее неспособности, у этого ребенка быть не должно, это ж «находка» для взрослых – бесплатный стукач из разряда «укажи на зачинщика».
Но нет, как ни удивительно, но ничего подобного с ней не произошло и отвергнутым «лебедем» в среде ровесников Полина не стала. Может, потому что училась в хорошей гимназии с гуманитарно-художественным уклоном, где у нее сложились прекрасные отношения с одноклассниками. Объединенные одинаковой тягой и интересом к литературе и разным направлениям искусства, ребята, будущие художники и литераторы, стали довольно близкими друзьями.
Поля решила эту проблему просто: когда будущие одноклассники впервые встретились и знакомились друг с другом в новом классе первого сентября, она сразу же предупредила всех о своей нестандартной своеобразной особенности. И месяц подряд, практически каждый день, покатываясь от смеха, ребята ставили над ней эксперименты на тему: «Полина, соври».
Ничего. Отсмеялись, привыкли и приспособились как-то коммуницировать. Впрочем, большинство ее одноклассников, помимо основного, школьного образования, занимались дополнительно еще и в других школах. Некоторые, как Полина, сразу в двух: в музыкальной и художественной, кто-то в литературных классах при университете, а кто в танцевальных студиях, так что не до особых злодейских проказ этим детям было, да и до простых, бытовых и мелких обманов тоже: пойдите попробуйте поучиться по десять часов в день, обалдеете гарантированно.
В Художественном институте имени Василия Ивановича Сурикова, куда Полина поступила после школы, неумение девушки прибрехивать и изворачиваться вообще перестало быть для нее такой острой проблемой. Во-первых, потому, что, немного повзрослев, Полина как-то незаметно переросла неприятную особенность настолько сильно заливаться болезненно-мучительным стыдливым огнем, и если уж доводилось ей попасть в подобную ситуацию, то теперь, обдавая внутренним жаром, вспыхивали румянцем лишь ее щечки да наворачивались слезы на глаза, и то ненадолго.
Надо сказать, что за всю учебу случилась с ней такая «румяная» незадача всего единожды, и то не потому, что она неосмотрительно что-то наврала или оправдывалась, а по той лишь причине, что стало Полине ужасно стыдно за откровенную брехню другого человека – парня, с которым она находилась в тот момент в близких, романтических отношениях. Кстати, именно после этого случая они и расстались.
Училась Поля на факультете теории и истории искусств с большим удовольствием и рвением. Нравилось ей все, чем она занималась, до невозможности, так нравилось, что за всю институтскую учебу она не пропустила ни одного занятия, даже если болела простудой или гриппом, то, укутываясь в шаль и шарф, прихватив с собой лекарства и термос с горячим напитком из шиповника и травок, притаскивалась на лекции.
Ну и вторая причина того, что все пять лет Полину не беспокоила нестандартная особенность ее организма: из-за столь серьезного увлечения учебой и погружения в предмет ни в каких шпаргалках и подсказках на экзаменах она не нуждалась и, как следствие, необходимости в чем-либо оправдываться и изворачиваться не испытывала.
Резко подскочив со стула, так, что тот отлетел в сторону и грохнулся спинкой на пол, в два стремительных шага он подскочил к окну, дернул ручку стеклопакета, распахивая створку на всю ширь. Нервно-судорожно вдохнув-втянув в себя морозный воздух, положил ладонь на глаза, с силой вдавив большим и средним пальцами виски, и пообещал, наверное, самому себе:
– Я этих сук достану… достану… Я им Настьку не отдам…
Обескураженные, захваченные врасплох внезапным и настолько страстным взрывом эмоций обычно всегда спокойного, рассудительного, где-то даже флегматичного Василия, Полина с мамой, замерев, смотрели на него оторопело-испуганно, только в этот момент осознав всю глубину и ужас пришедшей в их семью трагедии.
– Как, сынок? Как достанешь… если тут такое?.. – прошептала потрясенно Елизавета Егоровна, снова прижав пальцы к губам, и расплакалась.
Он повернулся, посмотрел на нее каким-то бездонным взглядом, словно за пару этих минут прогорел внутри в пепел, присел, оперся на край подоконника, не замечая, как поток ледяного ветерка раздувает рукава его рубашки, и объяснил уставшим, потухшим тоном:
– Мы договорились о плотном сотрудничестве с контрразведчиками в поиске Насти. Поскольку у меня весьма востребованная специфика деятельности и самая серьезная мотивация в этом деле, то, возможно, наше сотрудничество и будет плодотворным.
– Почему возможно? – спросила мама как-то беспомощно-потерянно, с тревогой посмотрев на сына.
– Да потому, что меня не посвятили в детали этого дела по ее бывшему мужу, и понятно, что и не посвятят, поскольку это напрочь закрытая инфа. И как можно что-то делать и копать, когда ни фига не знаешь?! Как слепой и глухой биться башкой в стену! – возмутился Василий.
– Так, – произнесла деловито Полина. – Давайте-ка оставим эмоции и попробуем спокойно подытожить и систематизировать имеющиеся факты.
– Ну, давайте, – резко вздохнув-выдохнув, остужая себя, измученно усмехнулся Василий.
– Первое, – начала перечислять Полина, разжимая пальцы, – Настю похитил ее бывший муж, оказавшийся террористом. Второе… – И запнулась, посмотрев вопросительно на брата. – Уточни один момент. Если я правильно поняла, этот хрен не какой-то рядовой там солдат, а боевик-управленец среднего руководящего звена или, скорее всего, за десять-то лет уже приподнявшийся до высоких позиций в организации.
– Как всегда, схватываешь самую суть, сестренка, – похвалил Вася совсем уж утомленным голосом опустошенного от моральной, да и физической заодно усталости человека. – Да, как объяснили мне парни, он занимает высокий статус в организации.
– Вот, – удовлетворенно кивнула Поля. – Из чего я делаю вывод, что в Москве он объявился не ради Насти, внезапно, вдруг, аж через десять лет вспомнив о бывшей жене, а за каким-то совсем иным интересом. А она так, легкий побочный заработок по ходу какой-то иной, гораздо более серьезной операции террористов. А посему, думаю, искать его станут с особым тщанием и рвением. А это значит, что у нас есть вполне обоснованная и реальная надежда, что Настеньку удастся найти.
– Найти-то да, только… – Не договорив фразу, Василий осекся и, выпрямившись, резко развернулся к распахнутому окну.
В кухне повисла гнетущая, настороженная тишина. Они отлично понимали, что стоит за этим его «только» – что сделают с Настей к тому моменту, когда ее найдут, если найдут, и будет ли она вообще к тому моменту… оставят ли ее в живых…
– Слушайте! – осенило вдруг Полину неприятно-пугающей мыслью. – Савва сказал, что пришел незнакомый дядя и мама спросила, кто он такой. То есть Настя его не узнала, видимо, он сильно изменился. Получается, что мужик этот ужасно прокололся, потому что уж я-то его очень хорошо разглядела и запомнила, да и соседи тоже. И даже если он весь из себя такой крутой диверсант и конспиратор, что прямо остался незамеченным на всех видеокамерах наблюдения в городе, мы-то сможем дать его подробное описание и составить его точный портрет.
– Обязательно, – захлопнув и закрыв створку, подтвердил Василий, повернулся и посмотрел на сестру. – Непременно дадите в ближайшее же время, поскольку вас уже завтра вызовут в Комитет. И подпишете бумаги о неразглашении сведений. Думаю, не надо повторять еще раз и объяснять, что теперь за нами всеми установлено наблюдение, а все наши гаджеты поставлены на прослушивание. Будет отслеживаться и проверяться каждый человек, вступающий с нами в контакт, даже продавщицы вашего любимого магазина здорового питания. И твой Александр в том числе, – произнес он с доступной ему при столь измотанном состоянии легкой иронией, посмотрев на сестру.
– Ему не понравится, – расстраиваясь заранее, констатировала Поля, тяжко вздохнув.
– Это вряд ли, – усомнился братец. – Оповещать Александра о происшествии никто не намерен, более того – прошу тебя ничего ему не рассказывать, даже намеком, – предупредил Василий, акцентируя голосом свою просьбу, скорее похожую на требование.
– Но почему? – без всякого энтузиазма довольно вяло возразила Полина. – Его надо предупредить или хотя бы намекнуть. При том положении и должности, которые он занимает, Александру необходимо знать, что за ним установлена слежка, пусть и из самых наилучших намерений поиска террориста. Через него же проходят серьезные сделки, а люди, с которыми Александру приходится общаться по бизнесу, сплошь властно-богатые господа, исключительно вип-уровня, в том числе и олигархи, и чиновники высшего звена. Ты представляешь, если кому-то из них станет известно о прослушке, проверке и слежке, которой они подвергаются из-за него и из-за нас. Фигово станет всем.
Сама тут же красочно представив и оценив возможные последствия такого развития событий и мысленно содрогнувшись, Полина подчеркнула:
– Очень-очень фигово. Еще, не дай бог, начнут мешать следствию. К тому же, если ты помнишь, Александр мой жених и уже практически твой родственник и член семьи.
– Да как тут не помнить, – криво-нерадостно, явно делая над собой усилие, чтобы выразить мимикой эмоцию, ухмыльнулся Василий, – ты ж не дашь забыть о наступающем на всех нас «счастье». – И, посмотрев в глаза сестре, произнес с нажимом: – И все же, Поля, ставить в известность Александра о том, что у нас произошло, нельзя. Да и компетентные ребята запретят тебе это делать. А что касается его клиентов-партнеров и прочих «крутышей» безмерных, то для ребят из «контртеррора» любые регалии глубоко пофиг, все это знают и вступать с ними в диспуты-противостояния боятся до оторопи. Ничего, походит твой любезный под наблюдением, может, еще сильно подивишься, узнав много чего нового про будущего мужа. И, кстати, мам, – напомнил он Елизавете Егоровне с сожалением, – Юрия Александровича посвящать в ситуацию тоже нельзя, поскольку он пока не член семьи.
– Да поняла уже, – расстроенно махнула рукой мама и вздохнула. – Получается, что вовремя Юра уехал детей навестить, не придется ни о чем умалчивать. Хотя Юра не Александр Полинин, ему я могу правду сказать, что запрещено обсуждать и распространяться о Настином деле. Он поймет.
– Да, – поддержал маму Вася, – дядь Юра мужчина грамотный и серьезный, он поймет. – И, со всей очевидностью окончательно исчерпав остатки сил и любые возможные морально-волевые резервы, Василий протяжно выдохнул и объявил закрытие «кухонного совета»: – Все, женщины, на сегодня мы обсуждения закончили. Что мог, рассказал и объяснил, даже сверх того, что полагалось и разрешили вам донести. Но завтра утречком вас обеих «подпишут» на предмет сохранности гостайны, так что не страшно. А теперь отбой. Мне надо хоть немного поспать. Я зверски вымотан и просто вырубаюсь.
Полина была оглушена ясным осознанием реальности, какой-то неправдоподобной, дикой ситуации и беды, в которой они оказались. Да еще – пропади оно все пропадом! – во всю ширь присущего ей красочного, творческого воображения представляла себе, как может издеваться над Настюшкой эта сволочь. А еще того пуще, с замирающим от одного только предположения сердцем, что мог бы он сотворить с Саввушкой, окажись ребенок в его руках… И не могла не то что заснуть, а хотя бы немного успокоиться, перестать дрожать телом, мыслями и расслабиться – ну не могла, и все.
Она и валерьянки с мамой на пару хлопнула-приняла перед тем, как отправиться в постель, и то прикрикивала мысленно на себя и запрещала, то уговаривала выкинуть из головы пугающе-яркие страшилки, вызывающие поток неконтролируемых, текущих безостановочно слез, когда представляла, какой ужас, унижение, а возможно, и боль испытывает сейчас Настюшка. Полина все повторяла и повторяла, что ей потребуются физические силы и чистый, холодный разум, для того чтобы с полной отдачей принимать участие в поиске Насти, а для этого требуется отдых телу и уму, поэтому немедленно спать, спать, спать…
Да сейчас! Какое там спать. Стоило хоть немного уговорить-успокоить себя, «выключить» и выкинуть наконец «ужастик» про Настю и Саввушку с мысленного «экрана», как, без всякого ее разрешения на то, нагло и своевольно влезли в разум и принялись донимать тревожные мысли об Александре и о запрете брата посвящать того в случившееся с ними бедовое происшествие. И тут же с таким трудом освободившуюся от предыдущих страшилок голову заполонили новые тревоги, красочно рисуя варианты всяческих возможных последствий, когда Александр все-таки прознает об установленном за ним контроле фээсбэшников.
Но больше любых возможных неприятных разборок с женихом, случись-таки конфуз обнаружения Александром слежки, Полину пугала необходимость вообще что-то ему говорить при встрече. А ведь рассказывать придется, невразумительным мычанием и ссылкой на какую-то ерундовую причину и форс-бог-знает-какой-мажор, вынудившие Полину не прийти на запланированное свидание, она не отделается. И поскольку ничего объяснить невозможно даже приблизительно, то придется что-то сочинять и выдумывать.
А вот это сплошная засада и чистое попадалово!
Ибо врать Полина Павловна Мирская не умела напрочь. Ну не предусмотрела природа-мама такого навыка и хотя бы малого умения житейской изворотливости для этой девочки, посчитав, видимо, что и тех достоинств, которыми она ее наградила-одарила, вполне достаточно.
Нет, привирать или придумывать какие-нибудь оправдания-отговорки сотворенных ею неблаговидных деяний Полина пробовала, разумеется, ну а как без этого, и не раз.
Такое вообще реально в жизни – не врать вообще?
Особенно в детстве и особенно когда у тебя имеется старший на десять лет брат, идеальный кандидат, на которого можно легко и радостно сваливать любую вину за большинство проступков и проказ, с учетом того, насколько сильно тот любил младшенькую сестрицу, баловал ужасно, всегда и везде защищал от всех напастей и готов был прикрывать любые ее проделки.
Красота, правда? Не всем так везет. Ага, щаз-з-з-з…
Нет, готов-то он был готов – и принимал на свою головушку вину и ответственность за сестренку Поленьку в любой ситуации, тут уж ничего не предъявишь, что было, то было, но иногда родители уточняли у дочери:
– Поля, Вася на самом деле разбил вазу?..
…Или обрезал ножницами все листья и цветы на бабушкином каланхоэ? Отобрал у девочки Лизы лошадку во дворе? Испортил мамину косметику? Разрисовал стены в родительской спальне? Засунул в унитаз рукавички, чтобы проверить, смоет ли их вода? И так далее, так далее по широкому списку «деяний» очень неугомонной девочки с весьма ярким и буйным – как нынче принято называть, креативным – воображением…
После такого вопроса Полина тут же заливалась тяжелым болезненным румянцем, дико как-то, до самых ушей и корней волос, до наворачивающихся мгновенно слез, прятала-отводила взгляд, смотря куда угодно, только не на вопрошающего родителя, и принималась лепетать нечто настолько невразумительное и откровенно фальшивое, что дальнейший допрос-опрос не имел уже ровно никакого значения за очевидным и неоспоримым уличением в свершенном деянии истинной «преступницы».
Сколько неприятнейших и ужасных ситуаций, между прочим, должных бы сильно негативно повлиять на неустойчивую детскую психику, пришлось пережить Полине из-за этой своей гадской неприспособленности ко всякого рода вранью и изворотливости в подростковом возрасте! Да не перечесть. Вы себе представляете жизнь девочки в пубертатный период с неспособностью юлить и привирать хоть немного?
Хоть немного! Ну хоть чуточку? Даже не врать, а не говорить правду, когда спрашивают? Жесть полная.
Однозначный кандидат в вечные изгои и отверженные. Очевидно же, что никаких друзей-подруг при такой оригинальной способности, или скорее неспособности, у этого ребенка быть не должно, это ж «находка» для взрослых – бесплатный стукач из разряда «укажи на зачинщика».
Но нет, как ни удивительно, но ничего подобного с ней не произошло и отвергнутым «лебедем» в среде ровесников Полина не стала. Может, потому что училась в хорошей гимназии с гуманитарно-художественным уклоном, где у нее сложились прекрасные отношения с одноклассниками. Объединенные одинаковой тягой и интересом к литературе и разным направлениям искусства, ребята, будущие художники и литераторы, стали довольно близкими друзьями.
Поля решила эту проблему просто: когда будущие одноклассники впервые встретились и знакомились друг с другом в новом классе первого сентября, она сразу же предупредила всех о своей нестандартной своеобразной особенности. И месяц подряд, практически каждый день, покатываясь от смеха, ребята ставили над ней эксперименты на тему: «Полина, соври».
Ничего. Отсмеялись, привыкли и приспособились как-то коммуницировать. Впрочем, большинство ее одноклассников, помимо основного, школьного образования, занимались дополнительно еще и в других школах. Некоторые, как Полина, сразу в двух: в музыкальной и художественной, кто-то в литературных классах при университете, а кто в танцевальных студиях, так что не до особых злодейских проказ этим детям было, да и до простых, бытовых и мелких обманов тоже: пойдите попробуйте поучиться по десять часов в день, обалдеете гарантированно.
В Художественном институте имени Василия Ивановича Сурикова, куда Полина поступила после школы, неумение девушки прибрехивать и изворачиваться вообще перестало быть для нее такой острой проблемой. Во-первых, потому, что, немного повзрослев, Полина как-то незаметно переросла неприятную особенность настолько сильно заливаться болезненно-мучительным стыдливым огнем, и если уж доводилось ей попасть в подобную ситуацию, то теперь, обдавая внутренним жаром, вспыхивали румянцем лишь ее щечки да наворачивались слезы на глаза, и то ненадолго.
Надо сказать, что за всю учебу случилась с ней такая «румяная» незадача всего единожды, и то не потому, что она неосмотрительно что-то наврала или оправдывалась, а по той лишь причине, что стало Полине ужасно стыдно за откровенную брехню другого человека – парня, с которым она находилась в тот момент в близких, романтических отношениях. Кстати, именно после этого случая они и расстались.
Училась Поля на факультете теории и истории искусств с большим удовольствием и рвением. Нравилось ей все, чем она занималась, до невозможности, так нравилось, что за всю институтскую учебу она не пропустила ни одного занятия, даже если болела простудой или гриппом, то, укутываясь в шаль и шарф, прихватив с собой лекарства и термос с горячим напитком из шиповника и травок, притаскивалась на лекции.
Ну и вторая причина того, что все пять лет Полину не беспокоила нестандартная особенность ее организма: из-за столь серьезного увлечения учебой и погружения в предмет ни в каких шпаргалках и подсказках на экзаменах она не нуждалась и, как следствие, необходимости в чем-либо оправдываться и изворачиваться не испытывала.