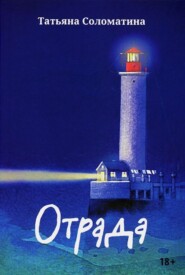По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Община Святого Георгия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А давайте!
Он вдруг опомнился, что в поварском колпаке. Быстро сдёрнул его и взъерошил густые волосы. Этот естественный жест как-то запросто всё вернул на круги своя. И они отправились в курительную.
Глава IX
На заднем дворе клиники на ящике восседал госпитальный извозчик. Чего греха таить, он принял хлебного вина, потому что душа у Ивана Ильича болела. Не имея ни малейшего понятия о фантомной боли, он знал некоторые механизмы её облегчения. Словосочетание «эмпирически познаваемое» он, пожалуй, счёл бы скверным, а вот что забубнить иное страдание можно – это знал давно и крепко. Сейчас разговаривать было не с кем, но ему было не привыкать вести долгие беседы с Клюквой, а коли скотина заслуженно отдыхает, так и с самим собой. А уж если русский человек выпьет, то о чём погутарить с альтер-эго – завсегда найдёт. Иван Ильич вспоминал былое, дабы отвлечься от дум.
– Был я ванькой! – загнул он мизинец, пожевав губами. – Был и лихачом! – широко раскинул руки, забыв, что решил провести строгий учёт на пальцах. – Теперь вроде как живейный. При государственной должности! – извозчик высоко поднял указательный перст. – Городовому мзду – не обязан! – скрутил он кукиш.
Скорым шагом подошёл ординатор Белозерский. Был он в немалом волнении, кое старался скрыть.
– Всё рассуждаешь, Иван Ильич?
– Как же человеку без этого?! – с готовностью откликнулся извозчик. – Сколько нонче лаковая пролётка с ветерком дерёт?
– Трёшку.
– Ох ты!
Иван Ильич покачал головой. Выражение его физиономии было многосложное.
– «Пиастры, быть может, сделают их ещё несчастнее»! – процитировал Александр Николаевич.
– Не знаю, не знаю, – всё мотал головой извозчик. – Не знаю, как пилястры, а три рубли от колон теятру по городу – это при всех поборах авантаж выходит…
Извозчик зашевелил губами, одновременно загибая пальцы, прикидывал сальдо, останься он «лихачом».
– Ты, Иван Ильич, не злоупотребляй! – Белозерский щёлкнул пальцами по горлу. – Не то турнёт тебя Хохлов с «государственной должности»!
– Я меру знаю! Лексей Фёдорыч – добрейшей души человек и завсегда с пониманием к мере. Хотя сейчас – туча! Свояка в луже кровищи нашли уже, значить, мёртвым. А племянницу…
Тут Ивана Ильича, по всей видимости превысившего свою меру, наконец осенило. Он вскочил, пуча глаза:
– Мы ж её-то, племяшку, Сонюшку, от вас, значить, и забирали!
Ординатор Белозерский быстро нырнул в дверь и побежал по коридору, сердце его колотило громче каблуков, отбивающих по паркету. Разумеется, он уже понял, что повёл себя как безответственный человек. Попросту непозволительно для врача. Он сам должен был сопроводить маленькую пациентку в клинику и находиться при ней неотлучно! А он, ослеплённый Верой, не желая отходить от своей грёзы, внезапно воплотившейся, перебросил раненую… Пусть, передоверил – заботам дежурных. Но бог ты мой, он и понятия не имел, что она – племянница профессора! Нет, так ещё хуже! Значит, будь она сиротой, нищенкой… Кругом повёл себя отвратительно, омерзительно, погано, из рук вон!
Запоздалое раскаяние и трудно поддающаяся систематизации буря чувств сейчас взрывали его крошки-органы, расположенные над почками, и перегревали «мотор», поскольку он был сыном своего отца, в точности унаследовавшим чувственность, гневливость, совестливость и нежнейшую доброту родителя.
Профессор Хохлов мерил шагами кабинет, чувствуя себя ничуть не лучше молодого идиота, своего ученика. Но всё же, будучи более опытным и зрелым, он заставил себя прийти хоть в какое-то подобие взвешенных реакций. Сев за стол, он переплёл ладони, уткнулся в них лбом и постарался занять голову тем, что давно не совершал осмысленно. Молитва для него утратила суть, особенно не видел он необходимости молиться в праздной толпе привычных ритуальных воскресных служб, на которые и попадал-то, признаться, нечасто, обременённый в первую очередь профессиональным долгом. Но, в конце концов, молитва – это вхождение в резонанс с миром, успокоение внутренних вихрей, мешающих мыслить и действовать во благо.
– Отче наш, иже еси… Прости, что так долго с тобой не разговаривал, яко же сам не люблю досужие беседы…
Алексей Фёдорович вскочил.
– Чем бормотание тут поможет?!
Купец Белозерский подзабыл, как ухаживать за достойными дамами. Доктор Хохлов никак не мог вспомнить, как подобает обращаться к Богу. Два великолепнейших человека вдруг оказались бессильными перед элементарными практиками. Как такое могло случиться?
– Всё – скверна и суета! Мы стали скверны в суете своей и суетны в скверне!
Профессор Хохлов метался и бормотал, и это суетное скверное бормотание действительно ничем не могло помочь. В отличие от молитвы.
Матрёна Ивановна не оставляла молитв, сидя у маленькой Сони, крепко держа её за ладошку. Неизвестно, куда поступала её молитва – на немедленное рассмотрение или в долгий ящик, но успокоительный ритм её певучего голоса проникал непосредственно в восприятие Сони. И хотя нейрофизиология и находилась ещё в зачаточном состоянии как наука, но как искусство она издревле была познаваема эмпирически, и плох был тот шаман, что не умел добиться отклика колебательной системы на периодическое внешнее воздействие.
Соня всё ещё была в беспамятстве, но дыхание её стало ровнее, хотя и более поверхностным. Пульс стал чаще и менее напряжённым. Всё это заставляло Владимира Сергеевича Кравченко быстрее определяться. Но он медлил, неотрывно держа мембрану фонендоскопа на крохотной груди. Как будто это могло отменить необходимость принятия непростого решения.
– С детских именин вёз, – шепнула Матрёна Ивановна, с тревогой глянув на Кравченко.
Похоже, её слова не имели целью нести смысловую нагрузку. Просто старшая сестра милосердия не привыкла видеть господина фельдшера в такой мятежной чувствительности, причина которой ей была неясна.
– Хорошо, Хохлова насилу вытолкали! Родных не пользуют!
Всё это она говорила в молитвенном ритме, так же, как и Иван Ильич: попросту заговаривая смятение.
Есть такие люди, в присутствии которых никогда не страшно. Именно таков был Владимир Сергеевич Кравченко. И когда вдруг богом данную крепость и цельность их характера и силу сердца окутывает туман неопределённости, тут уж у окружающих начинается такая морская болезнь, что ой-ой-ой!
– Сонечкин отец хороший человек был, – подала голосок присутствующая Ася. – В Верховном комитете помощи оставшимся без кормильцев состоял. Я знаю. Он мне помог как сироте…
Она тайком промокнула глаза. Матрёне Ивановне стало полегче. Есть на кого прикрикнуть. Есть не только те, кто отвечает за тебя, а ещё и те, за кого в ответе ты. Это всегда выравнивает.
– А плохих что, не иначе как убивать?! – возмущённым шёпотом всё ещё в молитвенном ритме накинулась она на Асю. И, тут же остыв, с горечью добавила: – Они разве разбирают? Хороша одёжа – плох человек, вот у них всего и понимания.
– Владимир Сергеевич, как Сонечка? – шепнула Ася.
Кравченко молчал. Он снова принялся проверять пульс на запястье правой ручки девочки и у каротидного синуса. Асимметрия кровотока нарастала. Нужно действовать.
Матрёна Ивановна поднялась. Она почуяла, что фельдшера стоит оставить одного при Сонечке.
– Ася, пойдём! Работы полно. У нас в клинике не один почётный пост у профессорской племянницы! Владимир Сергеевич и без нас управится.
Сестра милосердия покорно двинула за патронессой, изо всех сил стараясь не пустить слезу.
Тем временем Иван Ильич ночью во хмелю, устав от повисшего в воздухе тягостного напряжения, решил разобраться с каретной рамой. От бессилия и невозможности помочь русского мужика может спасти только какое-нибудь занятие. Сперва он мрачно созерцал. Затем пнул её, пребольно ударившись и запрыгав на одной ноге, зашипел:
– Крепкая, зараза! Аглицкая вещь! Лес-то наш поди? А то как же! Лес, он что? Сам растёт. Приходи да бери. А вот чтоб самим так пообтесать да склепать – руки коротки!
Ординатор Белозерский остановился перед профессорским кабинетом. Сердце было на дне желудка. Он постучал, а точнее поскрёб, словно нашкодивший гимназист, ненавидя себя.
– Войдите!
Он вошёл. Не приветствуя его, Хохлов проорал:
– Где она?!
– Кто? – опешил Саша.
– Ты в увеселительных заведениях рассказывай, что с лёгочной аортой справился!
Другие электронные книги автора Татьяна Юрьевна Соломатина
Другие аудиокниги автора Татьяна Юрьевна Соломатина
Доброе утро, Одесса!




 4.67
4.67