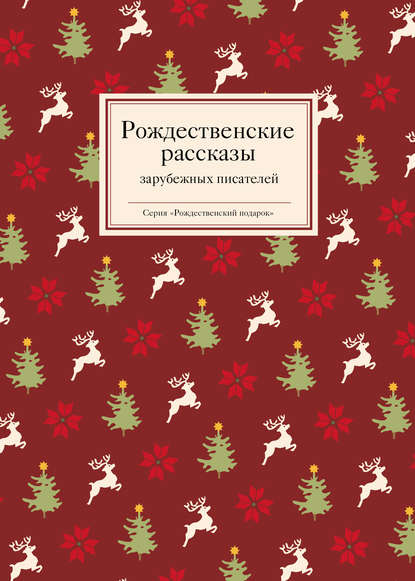По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рождественские рассказы зарубежных писателей
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тут такой шум, что можно было подумать, будто гусь самая редкостная птица в мире, некий феномен в перьях, перед которым даже черный лебедь – очень обыкновенная птица. Мистрис Крэтчит спешила разогреть заранее приготовленную подливку; Питер с невероятной силой разминал картофель; мисс Белинда подслащивала яблочный соус; Марта вытирала горячие тарелки. Отец посадил Тимошу рядом с собой в уголке у стола; двое младших Крэтчитов поставили для всех стулья, не забывая и себя, и, поместившись дозорными на своих постах, засунули в рот свои ложки из боязни вскрикнуть от нетерпения прежде, чем дойдет до них очередь. Наконец блюда были поданы и прочитана молитва. Наступила мертвая тишина, когда мистрис Крэтчит, лукаво поглядев на лезвие ножа, приготовилась погрузить его в грудь гуся; но лишь только она надрезала птицу и из нее показалась начинка, как по всему столу пронесся шепот восторга, и даже маленький Тимоша, увлеченный своими братишкой и сестрицей, ударил по столу ручкой своего ножа и слабым голоском прокричал «ура».
Никогда у них не бывало подобного гуся. Боб даже выразил сомненье, чтобы когда-нибудь на свете подавался такой гусь. Его нежность и сочность, его размеры и дешевизна были предметом всеобщего удивления. С прибавкой яблочного соуса и мятого картофеля его вполне хватило на обед всему семейству, так что мистрис Крэтчит, увидав на одной из тарелок крошечную косточку, заметила, что и того-то не могли доесть. Все были сыты, в особенности младшие Крэтчиты, вымазавшиеся начинкой до самых бровей. Затем, когда мисс Белинда переменила тарелки, мистрис Крэтчит вышла из комнаты, чтобы выпрокинуть пудинг и принести его; она пошла одна: при ее нервном возбуждении свидетели были бы для нее невыносимы.
А ну как он не дошел как следует! Что, если он развалится, когда его станут опрокидывать! Ну а ежели случился такой грех, что кто-нибудь перелез через стену с заднего двора да украл его, пока они тут пировали гусем. При одной мысли об этом стыла кровь у молодых Крэтчитов. Каких только ужасов они себе не воображали.
Ага! Вот поднялся пар столбом, значит, пудинг вынут из кастрюли. Пошел запах точно от пареного белья! Это от салфетки. Наконец, запахло как в трактире! Это уже сам пудинг. Через полминуты показалась и мистрис Крэтчит: раскрасневшаяся, но с горделивой улыбкой и – с пудингом, твердым и крепким, усеянным бледными огоньками горящего спирта и с веткой остролистника, воткнутой в верхушку в качестве рождественской эмблемы.
О, как превосходен был пудинг! Боб Крэтчит потихоньку высказал, что, на его взгляд, это был самый крупный успех, достигнутый мистрис Крэтчит со времени их свадьбы. Мистрис Крэтчит призналась, что теперь у нее гора с плеч свалилась, а то она очень беспокоилась, достаточно ли было муки. Каждый что-нибудь высказывал по этому поводу, но никто не сказал и не подумал, что пудинг был мал для большой семьи. Это было бы грубой ересью. Любой из членов семьи покраснел бы даже от намека в этом смысле.
Наконец обед кончился; скатерть убрали со стола, подмели очаг и оправили огонь. Когда смесь в кружке была испробована и найдена превосходной, на стол были поданы яблоки и апельсины, а на огонь брошен полный совок каштанов. Тогда вся семья разместилась кружком перед камином; рядом с отцом поставили стеклянный семейный сервиз: два больших стакана и объемистую чашку без ручки.
В этой посуде перелитый из кружки горячий напиток помещался так же удобно, как и в золотых бокалах; Боб с довольным видом разливал его, пока каштаны с треском поджаривались на огне.
Затем Боб поднял стакан и произнес:
– Поздравляю вас всех, мои милые, с радостным праздником Рождества Христова. Да хранит нас Бог!
Вся семья дружно ответила на это приветствие.
– Да благословит Бог каждого из нас! – крикнул Тимоша последним.
Он сидел совсем рядом с отцом на своем маленьком стуле. Боб взял его маленькую худую ручку в свою, как бы боясь лишиться своего дорогого ребенка.
– Дух! – сказал Скрудж с участием, которого никогда еще не ощущал до сих пор. – Скажи мне, останется ли жив Тимоша?
– Я вижу незанятый стул в том бедном уголке, – отвечал дух, – и костыль без хозяина, бережно хранимый семьей. Если эти тени не будут изменены – ребенок умрет.
– Нет, нет! – сказал Скрудж. – О нет, добрый дух! Скажи, что он будет жив.
– Если эти тени не изменятся, в будущем ни один из моих сородичей не найдет его здесь, – возразил дух. – Да и что тебе в том? Если ему нужно умереть, тем лучше, меньше будет лишних людей.
Скрудж понурил голову, услышав повторенные духом свои собственные слова, и им овладело чувство раскаяния и печали.
– Человек! – произнес дух. – Если у тебя в груди человеческое сердце, а не алмаз, воздержись от неуместных слов, пока не узнаешь, что лишнее и где оно. Тебе ли решать, которому человеку жить, которому умирать? Ведь, может быть, в глазах Неба ты гораздо недостойнее и негоднее для жизни, чем миллионы детей этих бедняков. О Боже! ничтожный червь, взобравшийся на травку, не считает за оставшимися внизу своими голодными братьями одинаковых с собою прав на жизнь!
Скрудж преклонился перед укоризной духа и, дрожа всем телом, опустил глаза в землю. Но быстро поднял голову, услышав свое имя.
– Предлагаю вам теперь выпить за здоровье мистера Скруджа, виновника нашего пира, – произнес Боб.
– Хорош виновник пира! – воскликнула мистрис Крэтчит, краснея. – Жаль, что его здесь нет: я бы дала ему себя знать, в другой раз не захотел бы.
– Э, полно, моя милая, – заметил Боб, – при детях-то, да и в такой праздник.
– Хорош праздник, – продолжала она, – когда предлагают пить за здоровье такого отвратительного скряги, жестокого, бесчувственного человека, как мистер Скрудж. Точно ты сам этого не знаешь, Роберт! Тебе, бедняге, это лучше всех известно.
– Ведь нынче Рождество Христово, – ответил Боб.
– Хорошо, я готова выпить за его здоровье, но только не ради его самого, а ради тебя и ради великого праздника. Многие ему лета! С праздником его и наступающим Новым годом! – то-то, думаю я, будет он счастлив и весел.
За нею тост повторили дети. Это было их первым действием, где сердце их не участвовало. Тимоша выпил последним и еще равнодушнее прочих, ибо Скрудж был в глазах этой семьи каким-то людоедом, чудовищем. Упоминание его имени бросило черную тень на все маленькое общество, и эта тень минут пять не могла рассеяться.
Когда наконец она исчезла, веселое настроение их удесятерилось. Боб Крэтчит сообщил им тогда, что у него на примете есть место для Питера, которое, если удастся получить его, будет приносить целых пять с половиной шиллингов в неделю. Оба младших Крэтчита разразились неудержимым смехом, представляя себе Питера деловым человеком; сам же Питер глубокомысленно смотрел из-за своих воротничков на огонь, как будто рассуждая про себя, какое он выберет платье, когда будет обладать таким несметным доходом. Марта, бывшая в ученье у модистки, рассказала им потом, какая у нее была работа и как по случаю праздника она намеревалась завтра выспаться; как несколько дней тому назад она видела графиню и лорда, и как этот лорд был почти так же высок ростом, как Питер. Последний при этих словах еще дальше выправил свои воротнички, так что из-за них едва видно было его самого. А между тем каштаны и кружка ходили взад и вперед по рукам. Немного спустя Тимоша запел песенку про покинутого ребенка, как он шел зимою по снежной дороге; хотя голосок у малютки был слабый и жалкий, а спел он очень недурно.
Ничего выдающегося семья эта собой не представляла. Лицом они все были некрасивы, одеты и обуты плохо, и Питеру не в диковинку было заглядывать в лавку закладчика; тем не менее они были счастливы, довольны друг другом и праздником.
Когда пришло время духу и Скруджу покинуть это жилище и образ семьи стал бледнеть, Скрудж до последней минуты не спускал глаз с этих людей, и особенно с Тимоши.
Между тем стало темнеть, и пошел густой снег. Когда Скрудж и дух шли вдоль улиц, взорам их представлялось отовсюду светившееся яркое пламя печей и каминов. Здесь, видимо, готовились к обеду, там кучка детей выбегала из дома встретить свою замужнюю сестру, своих братьев, дядюшек, тетушек. Там опять на опущенных шторах виднелись силуэты уже собравшихся гостей, а здесь группа хорошеньких барышень, в меховых шубках и теплых сапожках, быстро направлялась к соседнему дому, тараторя и не слушая друг друга.
При виде такого множества людей, идущих в гости, вы бы пришли в недоумение, кто же в таком случае оставался дома принимать всех этих посетителей и растапливать в ожидании их свои камины.
О, как торжествовал спутник Скруджа при виде всего этого! Как широко раскрывалась его могучая грудь, как свободно протягивалась его сильная рука, распространяя искреннее и невинное веселье повсюду вокруг себя. Даже фонарщик, видимо торопившийся в гости, так как был одет по-праздничному и бегом спешил от фонаря к фонарю поскорее разбросать по темным улицам убогие пятнышки света, – и тот громко рассмеялся, поравнявшись с духом.
Вдруг, ни словом не предупредив Скруджа, дух перенес его на пустынную, болотистую местность, где нагромождены были высокие кучи необделанного камня, представляя собою какое-то кладбище великанов. Кругом, между замерзших луж воды, виднелись только мох, да вереск, да клочья какой-то грубой, жесткой травы.
Заходящее солнце оставило на небосклоне огненно-красную полосу, которая резко, как бы мигнув, осветила на минуту эту дикую пустыню, а затем, все хмурясь и хмурясь, исчезла в глубоком мраке ночи.
– Что это за место? – спросил Скрудж.
– Здесь живут рудокопы, которые трудятся в недрах земли, – отвечал дух. – Но и они меня знают. Вот, смотри!
Из окна какой-то хижины показался огонек, и они быстро двинулись туда. Пройдя сквозь сложенную из камней и грязи стену, они увидали веселое общество, собравшееся вокруг яркого огня, – старый-престарый мужчина и такая же женщина, их дети, внуки и правнуки, все разряженные по-праздничному. Старик голосом, едва заглушавшим вой гулявшего за стенами хижины ветра, пел им рождественскую песню; это была очень старинная песня, которую он певал еще мальчиком; от времени до времени ему подпевали хором остальные, и каждый раз, как те возвышали голоса, громче и веселее начинал петь и старик; как только замолкали они, и его голос раздавался слабее.
Дух не стал медлить здесь, но, велев Скруджу ухватиться за платье, понесся с ним над болотом, но – куда?
Не к морю ли? Да, к морю. Оглянувшись назад, Скрудж, к ужасу своему, увидел, что берег, в виде страшных скалистых громад, уже позади; уже оглушает его рев волнующегося моря, которое клокочет и беснуется, будто хочет подмыть самые основы суши.
На уединенной, полупогруженной в воду скале, на расстоянии около мили от берега, стоял одинокий маяк. Целые кучи водорослей облепляли его основание, а буревестники (такие же сыны ветра, как водоросли – дети волн) взлетали и опускались вокруг него, подобно волнам, над которыми они носились.
Но даже и здесь двое сторожей развели огонь, бросавший сквозь узкое окошко тонкий луч света на темное море. Дружески протянув через стол свои мозолистые руки, державшие по стакану грога, они поздравляли друг друга с праздником; и один из них, который был постарше, с загрубелым от бурь и непогод, как галлион старого корабля, лицом, затянул громкую, что сама буря, песню.
Снова понесся дух над черным бушующим морем, стремясь все дальше и дальше, пока, очутившись вдали от всякого берега, они не опустились на корабль. Они становились и рядом с рулевым за колесом, и позади часового, и подле офицеров, державших вахту, – подобно темным призракам стояли эти люди каждый на своем посту, но каждый из них или напевал про себя какую-нибудь рождественскую песенку, или думал какую-либо рождественскую думу, или шепотом говорил своему товарищу об одном из прошлых праздников и соединенных с ним надеждах или воспоминаниях о родине. И у всякого из бывших на корабле, спящего, или бодрствующего, и хорошего и дурного, – у всех находилось в такой день более доброе, чем обыкновенно, слово, и все так или иначе, больше или меньше отмечали торжественное значение этого дня; вспоминали тех, о ком и в далекой разлуке они заботились, зная, что и те, в свою очередь, вспоминают о них.
Велико было удивление Скруджа, когда, прислушиваясь к вою ветра и размышляя о том, как страшно, должно быть, плыть во тьме над неизведанной пучиной, таящей в себе глубокие, как сама смерть, тайны, – когда, занятый такими мыслями, он вдруг услышал веселый смех. Но Скрудж еще более удивился, узнав, что это был смех его племянника, что сам он очутился в сухой, ярко освещенной комнате и что рядом с ним стоял улыбающийся дух, одобрительно-ласково смотревший на племянника Скруджа.
– Ха, ха! – смеялся племянник Скруджа. – Ха, ха, ха!
Если вам по какому-нибудь невероятному случаю пришлось познакомиться с человеком, который бы смеялся заразительнее Скруджева племянника, могу вас только об одном просить – познакомить меня с ним, и я буду весьма рад этому знакомству.
Благодетелен и вполне справедлив тот порядок вещей, по которому, при заразительности болезней и печали, на свете нет ничего заразительнее смеха и веселого расположения духа. Когда племянник Скруджа смеялся так, что держался за бока, раскачиваясь головою и выделывая лицом всевозможные гримасы, племянница Скруджа по мужу хохотала так же искренно, как и он, а вслед за ними хохотала и вся их дружная компания.
– Ха, ха! Ха, ха, ха, ха!
– Ну, право же, он сказал, что Рождество, – это пустяки! Да он и впрямь так думает! – кричал Скруджев племянник.
– Тем больше ему должно быть стыдно, Фридрих! – с негодованием сказала племянница.
Женщины ничего не делают наполовину. Они ко всему относятся серьезно.