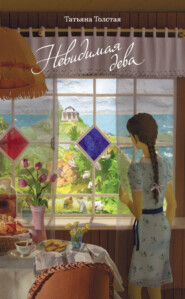По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кысь. Зверотур. Рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А Никита Иваныч говорит, что Бенедикт не ВРАСТЕНИК. Ну что же – нет так нет, это уж как кому повезло. А только обидно до слез!
А еще он говорит, что, дескать, слава богу, целее будешь, руки-ноги сохранил, еще пригодятся тебе, юноша неразумный, пустоголовый, мечтательный и заблудший, как и вся ваша порода, все ваше поколение, да, в сущности, и весь род людской! А не любит он наши праздники, не любит!
Что ж с того, что иной раз повреждение кому и выйдет? Другой раз и на льду поскользнешься. И в яму упадешь, и на сук напорешься, и съешь чего непроверенного. А что ж, нешто от старости не мрут? Даже Прежние голубчики – по триста лет живут, а все равно мрут. Новые голубчики родятся.
Себя-то, конечно, жалко до слез, чего говорить. Родню, приятелей – тоже жалко, но поменьше. А чужих – как-то не жалко. Они же чужие. Как можно равнять? Когда матушка померла, Бенедикт так плакал, так убивался, весь вспух. А помри – ну хоть Анфиса Терентьевна, разве ж он плакал бы? Ни боже мой! Подивился бы, расспросил бы, вытянувши шею, возведя брови на лоб: от чего помре? Объемшись чего али так? И где хоронить думают? И женится ли теперь Поликарп Матвеич на ком другом, и много ли от Анфисы Терентьевны добра остамшись, и какое то добро? – все расспросит, интересно же.
Да и на поминки позовут – развлечение. Еду есть будут. В избу пригласят: входишь, смотришь, какая у них изба-то, в каком углу печь, да где окно, да есть ли украшение какое – может, лавка резная у какого затейника, может, полог цветными нитками расшит, а то полку прибьют и на ней книжицы держат. Наешься-напьешься, по избе бродишь, глазами зыркаешь, к полке подойдешь, книжицы рассматриваешь. Другой раз интересная попадется – к стене боком прислонишься, ногу за ногу закрутишь, в затылке скребешь, стоишь читаешь. Да мало ли!..
Но самому помирать неохота, кто спорит. Упаси бог! А только еще страшней, если кысь. Сейчас-то вроде она отступила, видать, потеряла Бенедикта, – может, это Никита Иваныч ей след перебил, она и отступись.
А почему она страшней смерти: потому что уж ежели ты помер, так все – помер. Нету. А ежели эта тварь тебя спортит – так с этим еще жить! А как это? Как они себя мыслят, каково им, испорченным? Вот что им там внутри чувствуется? А?..
…А должно быть, чувствуется им тоска страшенная, лютая, небывалая! Мрак черным-черный, слезы ядовитые, жидкие, бегучие! Вот как иной раз во сне бывает: будто бредешь себе волоча ноги, да все влево да влево забираешь, – и не хочешь, а идешь, словно ищешь чего, да чем дальше заходишь, тем больше пропадаешь! А назад ходу нету! А идешь будто по долинам пустым, нехорошим, а из-под снега трава сухая, да все шуршит! Все-то она шуршит! А слезы все бегут да бегут, с лица да на колени, с колен да на землю, так что и головы не поднять! А и поднял бы – все зазря: смотреть там не на что! Нет там ничего!..
А случись такое страшное дело с человеком, что кысь его выпьет, жилочку когтем перервет, – лучше ему помереть скорей, лучше уж пускай в нем пузырь лопнет, да и все тут. А только кто же знает, может, ему эти два, а то три дня до смерти целой жизнью представляются? У себя-то, в голове-то, внутри, он, может, и в поля какие ходит, и женился, и детей малых народил, и внуков дождался, и повинность государственную какую несет, дороги чинит али ясак платит? Внутри-то? А только все со слезами, с криком душевным, с воем непереносимым, не людским, беспрестанным: кы-ы-ы-ы-ысь! кы-ы-ы-ы-ысь!..
То-то. А не то что: «зачем увечье», увечье – дело житейское, выбьют глаз – дак и одним глазом можно солнышку радоваться, выбьют зубы – дак и щербатый счастью своему улыбается, доволен.
Но у Бенедикта и глаза в порядке, и зубы, и руки-ноги. Так что ж. Оно и хорошо.
А вот другое дело, что одному жить вроде как скучно, компания нужна. Семья. Баба.
Баба обязательно голубчику нужна – как без бабы? По этому бабскому делу Бенедикт ходил ко вдове, к Марфушке: раз ли, два ли раза в неделю, но непременно к Марфушке завернет. С лица она нельзя сказать, чтобы уж очень была хорошенькая. У ней, по правде сказать, весь мордоворот как бы на сторону съехамши, будто ей кто оглоблей в личико вдарил. И один глаз заплымши. Фигурка тоже не сказать, чтоб очень. На репу похожа. Но Последствий нетути: где надо, все у ней выпуклое, где не надо – впуклое. Да и не смотреть же на нее он ходил, а по бабскому делу. Кому смотреть охота – дак выйди на улицу и смотри, пока глаза не вывалятся. А тут другое. Это, как Федор Кузьмич, слава ему, сочинил:
Не потому, что от нее светло,
А потому, что с ней не надо света.
Никакого света с ней не надо, а даже наоборот: Бенедикт как к ней придет, сразу свечку задует и давай валяться, да крутиться, да кувыркаться, всяким манером любовничать. И вприсядку, и в раскорячку, и туды, и сюды, и по избе скакать – боже ты мой, чего иной раз вытворять в мысли-то вступит! Вот когда один сидишь, думу думаешь, ложкой во щах шевелишь – никогда по избе скакать не станешь али на голову становиться. Как-то оно глупо. А когда к бабе придешь – обязательно. Сразу портки долой, – шутки и смех. Природа у бабы, али сказать, тулово для шуток самое сподручное.
Вот, нашутимшись, умаешься. Опосля так жрать охота, будто три года не жрамши. Ну, давай, чего ты там наготовила? А она: ах, куды, Бенедикт, куды ты от меня стремисся? Желаю, мол, еще фордыбачить. Неуемная женщина. Огневая.
– Нет, баба, нафордыбачились, давай еду, вермишель давай, квашеного чего-нибудь, квасу, ржави, все давай. Поем да и побегу, а не то у меня печь погаснет.
– Да какая печь, дам я тебе угольков-то! – И то правда, и накормит, и с собой пирог завернет, и угольков в огневой горшок накладет.
А другой раз Бенедикт ей стихи читает, ежели чего Федор Кузьмич, слава ему, про бабское дело сочинить изволил. Он, видать, тоже ходок будь здоров!
Горит пламя, не чадит,
Надолго ль хватит?
Она меня не щадит —
Тратит меня, тратит.
Во как! А то еще:
Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Хочу одежды с тебя сорвать!
Хочешь – дак и сорви, кто мешает? Бенедикт раньше удивлялся: кто ж ему, Набольшему Мурзе, долгих лет ему жизни, слово поперек скажет? Срывай. Хозяин – барин. Но теперь, конешно, когда он Федора Кузьмича, слава ему, воочию лицезреть сподобился, – теперь призадумаешься: видать, ему, с его росточком, до бабы и не допрыгнуть, вот он и жалобится. Дескать, сам не управлюсь, подсобляй!
Но с этими стихами раз конфуз вышел. Перебеливал раз Бенедикт стихи, уж такие разэдакие, такие, сказать, томные!
Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем! —
во как Федор Кузьмич, слава ему, выразил. Бенедикт даже изумился: а с чего это он не дорожит-то? Приболел? А там к концу Федор Кузьмич, слава ему, прояснил, что он вроде как новым, диковинным манером бабское дело решил испробовать:
Лежишь, безмолвствуя, не внемля ничему…
И разгораешься все боле, боле, боле,
И делишь, наконец, мой пламень поневоле.
Бенедикту так захотелось проверить, чего это Набольший Мурза, долгих лет ему жизни, чудит-то, – что сделал своеволие: лишний свиточек для себя переписал да в рукав-то и схоронил, а опосля бегом бросился к Марфушке и те стихи ей прочел. И предложение ей предложил: давай, дескать, и мы так: ты брык – и лежи как бревно, не внемля ничему, но, смотри! – по-честному, как договорилися. А я на тебя яриться буду, и поглядим, чего это такое за барские придумки. Лады? Лады.
Так и порешили. А вышел конфуз. Марфушка все сделала по-честному, как ей велено, – ни гу-гу, руки по швам, пятки вместе, носки врозь. Ни хватать Бенедикта, ни щекотить, никаких кренделей выкаблучивать не стала. И нет чтобы разгораться все боле да боле, как по-писаному, али там пламень разделить, – какое – так мешок мешком весь вечер и пролежала. Да и пламеня, по правде, не вышло – Бенедикт потыркался-потыркался, да чего-то завял, да скис, да плюнул, да рукой махнул, шапку нашарил, дверью хлопнул да и домой пошел, да и весь сказ. А Марфушка осерчала, догнала да вслед ему – матюгов. А он – ей. А она – ему. Повздорили, волосья друг другу повыдирали, потом, недели через две, опять помирилися, но все уж было не то. Не было уж той, сказать, искрометности.
Ну, по этому же делу он и к Капитолинке ходил, и к Верке Кривой, и Глашка-Кудлашка его зазывала, и много еще кто. Теперь вот Варвара Лукинишна напрашивается, можно бы сходить, да больно страшна. А ну как она по всему тулову петушиной бахромой утыкана?
Но все эти бабские дела – сходил да и забыл. Да и из головы вон. А другое дело, когда видение привяжется, образ чудный, марево светлое, – вот как Оленька стала Бенедикту мерещиться… Лежишь на лежанке, ржавь покуриваешь, а она – вот она, рядом, усмехается… Руку протянешь – нет ее! Воздух! Нету ее – а и опять она тута. Что такое!
…Может, взять да и посвататься к ней? А? Посвататься? Так, мол, и так, Оленька-душенька, ненаглядная раскрасавица, желаю на тебе жениться! Честным пирком да за свадебку! Будь моей хозяюшкой! Будем жить-поживать да добра наживать!.. Что еще в таких делах говорится?.. Совет да любовь! Пир на весь мир! Чем богаты, тем и рады!
А что! Хоть семья у ней и знатная – в санях ездит, хоть шубка у ней заячья, а женихов вокруг нее не видать. Строгая, должно быть. Скромная. А на Бенедикта-то посматривает. Посмотрит – и зарумянится.
А когда Бенедикт, оправившись от лихорадки, на работу вернулся – так Оленька и просияла. Вся засветилась, как свечка; прямо бери ее, в расщепу вставляй и в любой тьме видать будет во все стороны.
Обдумать надо это дело.
Люди
Вот миновали февральские метели, грянули мартовские бури. Пролились небесные потоки, прошибли снег, будто кто его каменными гвоздями истыкал да исчернил. Где и земля показалась. Весь мусор прошлогодний всплыл – по всем улочкам, по всем подворьям. Побежали быстрые ручьи, пенистые да мутные, понесли мусор с пригорков в низины, вынесли вон из слободы, а наверху, глянь, уж лазурь проступила. Светлая такая, чистая, холодная, облачка по ней бегут быстрые, ветер веет, голые ветви мотает, весну торопит. Сыро так и светло; ежели руки в рукавицы не упрячешь – красные такие делаются; а хорошо, весело!
Земля под ногами чавкает, глина непролазная, ни тебе в санях, ни тебе в телеге, а мурзы все равно ездить желают, пешочком нипочем не пройдутся – не по чину. Вот смотришь, перерожденцы валенками глину месят, сани тащучи; из сил выбиваются, матюгаются, а сани ни с места. Мурза их кнутом! да еще! а они его по-матерному! – такой, право, гвалт стоит, одно слово: весна!
Потом, глядишь, опять подморозит, денек выпадет пронзительный, холодный; и снежок мелкой крупкой просыплется, и пузыри в окошках изморозью подернутся.
А пока Бенедикт в лихорадке лежал, Федор Кузьмич, слава ему, новый Указ сочинить изволил.
УКАЗ
Вот как я есть Федор Кузьмич Каблуков, слава мне, Набольший Мурза, долгих лет мне жизни, Секлетарь и Академик и Герой и Мореплаватель и Плотник, и как я есть в непрестанной об людях заботе, приказываю.
Вот еще какое дело вспомнил совсем забыл с государственными делами замотавшись:
Восьмого Марта тоже Праздник Международный Женский День.
Энтот праздник не выходной.
Значит на работу выходить, но работать спустя рукава.