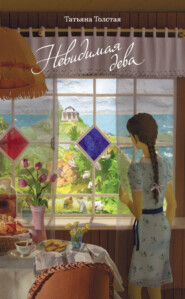По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Река (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кажется, эта кукольная, резко иностранная еда никогда не будет одомашнена нами, ее слагаемые не обрусеют: мы не будем заправлять картошку водорослями, намазывать на бутерброды соевую пасту или добавлять квашеный лотос к пшену. Что-то нам мешает.
По-моему, мы ходим в японский ресторан как в открытый космос: страшно, но любопытно, и надо доказать, что мы можем. Конечно, можем. «Грибы ядовиты, но русские их едят», как сказано в одной немецкой энциклопедии. Знай наших!
Но мне и вправду хочется знать наших. Мне хочется, чтобы на всякую хитрую креветку нашелся рак с винтом: мы словно забыли, что русские раки – достояние не только пивных ресторанчиков, но и самого утонченного стола: раковый суп не уступит крабовому, рак настолько же возвышеннее омара, насколько юная девушка привлекательнее зрелой матроны.
Мне хочется, чтобы вернулись на правах коренных жителей грибы, не равнодушные промышленные шампиньоны, штампованные как гамбургеры, а настоящие, лесные, с прилипшим к шляпке листочком и небритой, как подбородок Леонида Парфенова, ножкой.
И мне хочется, чтобы в нашу кухню вернулись птицы небесные, с их темным мясом, пропахшим няниными сказками и еловыми шишками. Чистые, вольные, надышавшиеся воздухом диких лесов, насмотревшиеся с высоты на всю нашу прекрасную, просторную страну красными бусинками глаз, побежденные в равной борьбе, веселые до своего последнего мига и передающие свое веселье, свою радость жизни и нам, грешным и благодарным обжорам.
Кино
Я отчетливо помню момент, когда я разлюбила театр. Вернее, когда мои старания его полюбить были окончательно перечеркнуты. Было мне лет двенадцать, и наш класс сдуру повели в плохой питерский театр на плохую, мертвую постановку «Маленьких трагедий» Пушкина, – а вот не надо водить детей чувствительного возраста на бездарные спектакли, да и Пушкина лучше в театре не ставить, – мало ли что текст написан как пьеса. Не пьеса это вовсе.
Я очень, очень старалась полюбить зрелище, как мне велели: ведь это Пушкин, Большое Искусство, это Храм, Особая Атмосфера, и я должна испытывать Священный Трепет, но помнить при этом, что в Театре есть Театральные Условности. Я помнила, но когда пожилой дядька в камзоле с пышными рукавами, с большим бархатным животом, колыхавшимся над тоненькими мужскими ножками, грозно, как классный руководитель, вопросил: «Скажи, Лаура, который год тебе?» – и грузная тетенька гавкнула в ответ: «Осьмнадцать лет!» – ужасное смятение и стыд смяли меня. Мои одноклассники захрюкали. «Прекратите!» – зашептали взрослые Ценители Прекрасного. «Твой Дон Гуан безбожник и мерзавец! А ты – ты дура!» – крикнул дядька с такой силой, что при слове «дура» из его рта вырвался огромный конус слюнных брызг, как на противогриппозном плакате в поликлинике: «при кашле – до 1 метра, при чихании – до 3-х». «В дупель пьяный», – обрадовались мальчики. «Чшшш!» – возмутились Ценители. Тягомотина все длилась, потом Дон Гуан с Командором благополучно и нетаинственно провалились, и я думала, что уже всё, но оказалось – антракт, а потом еще столько же. К сожалению.
А ведь в театре было тепло, в зале приятно и сложно пахло, в фойе гуляли нарядные люди, окна были укутаны шторами из парашютного шелка, будто кучевыми облаками, у буфета богатые люди пили шампанское и с достоинством ели дорогие бутерброды с твердокопченой колбасой, – да, Храм. Наверно. Но не мой, и боги – не мои.
А вот совсем другое дело – кинотеатр «Арс», плохонький сарайчик на площади Льва Толстого. Там неудобные деревянные сиденья, там сидят в пальто, там проносят в зал мороженое в рукаве, и оно капает на ручки кресел, там мусор на полу. Там не встретишь «завзятых театралов», принаряженных дам, заранее оскорбленных тем, что они вынуждены провести три часа плюс антракт в обществе профанов, там надо цепко держаться за карманы, потому что тебя запросто обчистят в этой плебейской, базарной, лоскутной толпе. Там – всем на смех – выгоняют взашей пьяного, заснувшего на предыдущем сеансе и совсем не желающего выметаться вон, под дождик. Потом там гаснет свет, зажигается луч, минут десять тебя терзают киножурналом, – гордятся какие-то ткачихи, животноводы, всякая такая скукотень, только разжигающая нетерпение, – и опять краткий свет, и еще толпа вваливается и рассаживается, гремя сиденьями, – вонь от покуривших, перегар от непросыхающих, кислый запах псины от сырых пальто. Сейчас начнут. Это – счастье. Это – кино.
Они гасят свет медленно – у них реостат. Стрекотание проектора, удар луча и – всё, понеслось, перейдена черта, пройден этот неуловимый миг, когда плоский и туповатый экран – раз, и исчез, и стал пространством, миром, полетом, – сон, мираж, наркоз. Преображение.
В этом щербатом и нечистом «Арсе» я смотрела «Человека-амфибию», и ни за что не буду пересматривать, чтобы не разрушить колдовство, не рассеять морок далекого 1962 года. Хороший ли фильм? Что мне за дело! Пусть так и стоит перед глазами волшебное лицо Анастасии Вертинской, волнующе утонувшей (но сейчас ее спасет Ихтиандр), и красная (кажется) маечка ее, и зеленая (кажется) морская вода, простая советская вода, выдаваемая за далекую и иностранную. В этом «Арсе» я смотрела скучный фильм «Такова спортивная жизнь», – не помню про что, думаю, про спортсмена, забросившего свою любящую жену ради спортивной карьеры, а потом горько о том пожалевшего, – про что же еще? Помню только одну сцену: жена собралась помирать, утро, и на стене возникает огромный черный паук. И спортсмен – хрясь этого паука кулаком! И рыдает. И точно, она умерла. Дома я рассказала про то, как это было тревожно и неприятно, и мне объяснили, что это такая метафора. По примете, «L’arraignee du matin – chagrin», то есть, «Утренний паук – к несчастью». А вечерний паук сулит надежду. А дневной – любовь. А ночной – скуку. И с тех пор сутки для меня навеки распределены между пауками.
А потом в том же «Арсе» мне плюнули в душу – показывали какую-то голливудскую дешевку, и мало того, что красавица вдруг запела (мюзикл! убить!), но она еще и стала рвать откровенно бумажные цветы, предварительно воткнутые в отчетливо тряпичную траву! Подделка! Надувательство! Так важнейший сон с откровениями о смысле мироздания прерывается вульгарным звонком будильника. Мираж пропал, все сгинуло: я просто сидела в грязноватом зальчике, набитом чужими людьми – как меня сюда занесло? Прочь отсюда, меня обидели, скорее домой – сквозь всегдашние моросящие сумерки, мимо магазина «Рыба», через поповский садик с пьяницами, через трамвайные рельсы, через деревянный мост, в обычную жизнь. Чудо, граждане, отменяется по техническим причинам. Прах еси, и в прах возвратишься.
Ведь я простой и примитивный кинозритель, как большинство людей. От кино я жду полного преображения, тотальной иллюзии, окончательного обмана – «чтоб не думать, зачем, чтоб не помнить, когда». Театр на это не способен, да и не претендует. Он для взрослых, а кино для детей. Театр для тех, кто любит живых актеров и милостиво простит им их несовершенства в обмен на искусство. Кино – для тех, кто любит тени, сны и чудеса. Театр не скрывает, что все, что вы видите – притворство. Кино притворяется, что все, что вы видите – правда. Простая и единственная жизнь обычного человека пресна без добавок, поэтому одни пьют шампанское «брют», другие нюхают клей. Не все ли равно? Мне клею, пожалуйста.
Золото
Про золото ничего понять нельзя. Оно всем нравится, всему человечеству, – и китайцам и европейцам, а уж жителям Малой Азии как нравится! Кажется, что золото и Восток неразделимы: зной, гордыня, роскошь, жестокость, искушение, опьянение земной властью, ненасытность, – это все одно и то же, это золотовосток. В Индии – если учесть, наряду с золотым запасом страны, все цацки, – больше золота, чем в американской казне. В Омане двери одного из банков покрыты золотом, – нате! Самое древнее золотое украшение сделано в Шумере 5000 лет назад – там же и примерно тогда же, когда было изобретено колесо. Золото – это солнце, а серебро – луна, все согласны, никто не спорит, алхимики хорошо это знали. Золото и серебро: свет и тень, мажор и минор. Золото – веселье и жизнь, серебро – грусть и умирание. Золото – жара, юг, день; серебро – холод, ночь, север. Золото – лето, серебро – зима; золото – песок, серебро – снег. Золото – смех, серебро – слезы.
Серое сумеречное серебро задумчиво, и все, что с ним связано, уводит к пониманию, вопрошанию, гаданию, к тайному знанию, к поискам смысла и причин. Сова Минервы – богини мудрости – вылетает ночью; гадают после захода солнца; тоскуют и воют при луне, просыпаются с сердцебиением и предчувствиями. Кто я? Куда иду? Что будет?
Золото глуповато, как вообще глуповата радостная и здоровая юность, не ищущая ни цели, ни смысла, ни счастья, потому что они уже есть здесь и сейчас. Счастливые часов не наблюдают, время не течет, пространство – это я в мире, а мир во мне. Быть – вот высшая радость. Не сомневаться, а ликовать. Золотой век цветет и плодоносит, серебряный – печалится и оглядывается.
Мало в чем люди согласны друг с другом, но тут уж всем консенсусам консенсус: золото лучше серебра. Все самое прекрасное – золотое: золотое сердце, золотые руки, эх, золотое было времечко! – и далее по списку до бесконечности. И дело не в том, что золото встречается в природе реже, и не в том, что оно так уж дорого, – были в свое время вещи и подороже: тюльпаны, корица, черный перец горошком, а платина сейчас в два раза дороже золота, только кого обрадует платина? – разве финансиста какого-нибудь. Вещь ценная, вещь нужная, но ни глаз не развеселит, ни в зависть не вгонит.
Советский марксисткий зануда 60-х скучно пишет о золоте: «Отражая отношения людей в условиях стихийного товарного производства, власть З. выступает на поверхности явлений как отношение вещей, кажется натуральным внутренним свойством З. И порождает золотой и денежный фетишизм… Страсть к накоплению золотых богатств растет безгранично, толкает на чудовищные преступления». Вот именно что безгранично! Ох, на чудовищные! Потому что власть золота никакими унылыми товарно-денежными отношениями не объяснить, оно сводит человека с ума, завораживает, зачаровывает, слепит, его не бывает мало, простое народное сердце рвется к нему, веселится, радуется даже поддельному. Над златом – чахнут, отказываются от еды и питья, все готовы отдать за него, убивают, стирают царства с лица земли. Выше него – сразу – только бог, жизнь и любовь, и потому, не жалея, не считая, знать ничего не желая о «стихийном товарном производстве», его жертвуют в храмы, – сдирают с пальцев кольца, выпрастывают тяжелые серьги из ушей, смиренно подносят цепочки, браслеты, кувшины и шкатулки, моля о выздоровлении, благодаря за спасение того, кто вернулся невредимым, за то, что чудо снова случилось.
Золото беспричинно: мы его не заслужили. Нельзя жить без азота или водорода, зачем-то нужны в таблице Дмитрия Ивановича дремучие хассий и гафний, без кальция мы шагу не ступим, – осядем наземь жидкой кучкой, но золото просыпано на нас просто так, от небесных щедрот, шутки ради. Оно ни вредно, ни полезно, практической пользы от него – кот наплакал. «Используется для тонирования фотографий» – а не тонируй, и дело с концом. «Входит в ряд медицинских препаратов» – входит, но не лечит. Но зато оно есть всеобщий эквивалент, тот общий аршин, которым мерят все, самый удобный, красивый, желанный, портативный, нержавеющий аршин на свете. Словно бы Творец в бесконечном остроумии своем решил: а дам-ка я им такую штуку, чтобы не гнила, не портилась, не тускнела, такую, чтобы с ней не скучно было, чтобы каждый ее желал, искал, берёг, играл с ней, выделывал из нее фигурки и висюльки, коробочки и шапочки, надевал на пальцы, вставлял в нос и в уши, – ведь они же дети, чистые дети!
Человек в одиночку много золота на себе не унесет. Тонна золота – это куб с ребром 37 с четвертью сантиметров. Под кровать влезет, только кто сдвинет ногой с места тонну? За всю мировую историю добыто примерно 150 тысяч тонн золота. Это цена 20-ти российских бюджетов. Из этого количества можно изготовить пять Эйфелевых башен. Или рельсы длиной в расстояние от Москвы до Петербурга. Чтобы перевезти его, понадобятся 70 железнодорожных составов по 40 вагонов в каждом. А можно всю эту красоту взять и пустить на позолоту: например, покрыть ею шестиполосное шоссе вокруг экватора. А можно, наоборот, вытянуть золото в проволоку толщиной 5 микрон, – два километра этой проволоки весят 1 грамм, цена одного грамма около 19 долларов, меньше, чем бутылка хорошего вина, – и обматывать земной шар до посинения. А можно выковать прозрачный лист и читать через него книгу.
Можно заменить в автомобиле все хромированные части – руль, пепельницу, прикуриватель – на золотые, как делал Элвис Пресли. А можно, как индейцы исчезнувшего племени чибча, ежегодно с криками радости бросать в воды горного озера сотни золотых украшений несметной цены.
Ведь про человека, как и про золото, ничего понять на самом деле нельзя.
И сбоку бантик
Завалив антилопу, лев не раскладывает ее на порционные куски, не украшает хорошенькими веточками, не посыпает специями – хотя бы они и росли тут же на соседнем кусте. Просто жрет, возясь окровавленной мордой в каркасе. А за львом уже толпится очередь: гиены, стервятники, мухи. Все сурово, без нежностей. Твоя смерть – это моя жизнь. Пищевые цепочки. «Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы, и страхом перекошенные лица ночных существ смотрели из травы».
Конечно, страшно, когда едят тебя или твоего товарища. Вот и слоны горестно трубят, когда одного из них подстрелят. И бегемоты собираются в круг и смотрят на погибшего друга, раздираемого подоспевшими гиенами, и нам более или менее понятно, что делается в их душах: они перекошены. И мы с некоторым смятением смотрим на это дело в телевизор, а потом идем на рынок и просим телятины килограмма так на два. Или цельного молочного поросеночка, беленького амурчика с детской улыбкой. И нам иногда бывает неловко, и мы раздумываем, не стать ли вегетарианцами, – говорят, оно и полезней, – а самые чувствительные из нас жалеют и траву, и растения, и морковку: жила она своей тихой подземной жизнью и было ей спокойно и хорошо, а мы набросились, вырвали ее из родного домишка, и – ножом ее, кипятком ее, зубами!
Разум может сколько угодно говорить нам, что это ничего, что есть фауну и флору можно и нужно, – да мы только и делаем, что едим, – но нечто другое, имени чему не подберу (какой-то подвид совести) все время тихо стучится изнутри, не то, чтобы укоряя, но напоминая нам о цене нашего чревоугодия, да и просто о цене насыщения. Уважай чужую жизнь, ты не гиена. Да, плоть поедает плоть, это закон, но помни: они – страусы, устрицы, кролики, щуки, гуси – тоже жили и радовались. Поблагодари их, проводи их туда, идеже нет ни печали, ни воздыхания, праздничной церемонией, прекрасным ритуалом. Они отдали свою жизнь, чтобы твоя продолжалась, так укрась же их, пригласи людей своего племени, справь почетную тризну.
Мы далеко ушли от первобытных народов, верящих, что «в древние времена деревья и животные были людьми», но отголоски этой культурной прапамяти явственно звучат за каждым накрытым столом. Не оттого ли селедка под шубой всегда выкладывается в форме свежей могилы и украшается – вдоль несуществующего хребта усопшей – длинной майонезной волной, словно бы в память об океане? Не оттого ли поросенка собирают как праведника в рай, обкладывая лимонными кружочками и кудрями петрушки? (Никто же не станет есть эту петрушку, да и лимон отдвинут вилкой: это не для сытости, а исключительно для неземной красоты, – пусть поют арфы, и девы в белом укажут невинному путь в Эдем.) Курам-дурам в дорогих ресторанах устраивают на спине шахматную доску из цветного желе, зеленого и красного, хотя при жизни они ничем вроде бы не заслужили такого к себе отношения. Бараньей ноге, на то место, где кость, надевают белую гофрированную розетку, словно невесте. А всякий, кто вперял взор в недвижные воды рыбного заливного, не мог не задуматься о том, как наконец уютно и спокойно осетрине после всех страстей и бурь в этой тихой, прохладной заводи.
Как и всякое искусство, кулинарный дизайн знает различные стили – барокко там или минимализм, – а также имеет своих пошляков и бездарей, охотно и бессмысленно работающих в любом стиле. Все мы уныло ковыряли «гарнир сложный» в вагонах-ресторанах, – вся сложность там в том, что какой-то садист зверски замучал половинку соленого огурца, пытаясь превратить его в розу. Все мы, опять-таки, чувствовали себя голодным журавлем в гостях у лисы, пытаясь отскрести вкусные, но недоступные малиновые или шоколадные нити с десертной тарелки (сами знаете где), – дизайнер забыл, что тут кафе, а не музей Гуггенхайма. И самое ужасное, на мой вкус, – это когда перед тем как взяться за еду, нужно вытащить из блюда натырканные туда шпильки, палки, зонтики, серебряные звезды, шарики и прочие не относящиеся к делу предметы.
Простые люди уважают тех, кого они съели. Никто никого ничему не учит, рука, движимая сердцем, сама тянется украсить блюдо: расстелить коврик, насадить садик, замостить дорожку колбасными кружочками. Клумбы, пирамиды, курганы, затейливо украшенные подручной зеленью, сами по себе возникают на самых простецких, самых непритязательных столах. Там где семья, там где любят, там, где гости – непременно воткнут вишенку или оливку на вершину салатной горки. И напротив, там где едят винегрет из тазика, холодную котлету из банки, колбасу на газете – там уже шатается призрак одиночества, социального распада, свинства, горького пьянства, кочевья, печали и поножовщины.
Это – путь назад, путь из людей. Но не к животным, а мимо: животные нас к себе больше не пустят. Вход рубль, выход – два.
На природу
Польза, конечно. Воздух, например, – все городские люди ссылаются на этот воздух, и всегда с одинаково восклицательной интонацией, или же в ужасных поэтических выражениях. «Напоенный» чем-то там. «Ароматами трав». «Целебным настоем сосны» – как вам? «Медвяным духом полей» – за это вообще надо приковать наручниками к батарее и лупить, лупить томиком стихов члена Союза Российских писателей, желательно вологодского отделения.
Все это ложь и парфюмерия, так же как и все эти наши шезлонги, вынесенные на солнышко, кофеи на веранде с окнами, распахнутыми, понимаешь ли, в сирень, пикниками на курчавой травке, хорошо построенными мангалами, спиралями от комаров. Все это – попытка уговорить и заговорить то непонятное, страшное, шумящее – или молчащее; дующее в лицо – или приблизившееся и вставшее за спиной. То, что отгоняешь, то, что непременно придет.
Звездное небо придет и ляжет; душе страшно от звездного неба. Но сначала мир потемнеет и отсыреет, отступит, и замолчит, и уйдет в себя. Лютики там какие-нибудь, – это они днем лютики, это они в детских песенках лютики, а ночью-то, а на самом деле-то они кто? И в чем их собственный, немой, для себя самих, смысл? Не в том ведь, чтобы позировать для портрета на эмалированном чайнике? А трава? А розы? Ведь они нас не любят, розы; им даже не плевать на нас, им никак, им все равно, это мы водим вокруг них хороводы, – два притопа, три прихлопа, – мы, дебилы природы, забывшие ее язык, не знающие ее цели, не понимающие зачем раскручивается бело-розовой набегающей спиралью волшебная девочка сада, и почему она, ничего не слыхавшая о фрактальной геометрии, о множестве Мандельброта, вертит и вертит свою благоухающую математику, а уже сумерки, уже сыро, уже от свежескошенной травы потянуло крепким запахом марганцовки.
Подстричь газон. Зажечь тусклые садовые фонари. Запереть калитку, спустить собаку, отгородиться от всяких тут подозрительных людей; накопить денег на высокий кирпичный забор и охрану. Не поможет: никуда не скрыться от травы, от беззвучного рёва звезд, от розы, делающей свое непонятное дело. Да ведь ради них вы и покупали дачу, волновались, торговались, досадовали, выясняли и торжествовали. Будем воздухом дышать! Свежим воздухом! К природе поближе, к букашкам!
Мы бежим из городов, бежим прочь от замученности, от скученности, от потных буден, от свалявшихся волос, от темных пятен под глазами. Бежим далеко, в бесконтактные поля, в безответные луга, добегаем до белого дома у синего моря: вот где мы хотим жить! Чтобы и поэзия с кокосом, и пляж с полотенчиком! А вечером белое вино… И еще белое вино, и потом еще и еще… чтобы залить весь этот подступающий ужас, чтобы не смотреть на страшное, чтобы забыть про гулкий звездный храм, про жуткий шорох морей, про оцепенение гор, забыть, что висишь на тонкой ниточке, в непоправимом одиночестве, в пустыне природы, и что ни жук тебе не друг, ни кальмар не товарищ.
Господь вызывает человека, жалкую и возлюбленную тварь свою, на переговоры в пустыню. Господь выходит из сумерек и стоит у нас за спиной. Господь назначает нам свидание с лютиком – оглушительное свидание без слов, глаза в глаза. Господь ложится травой под ногами, дует ветром, лает собакой, бьет волной о берег, бежит облаком, снится сном, льется вином. Остальное – тайна переговоров.
Мелкие вещи
В начале 60-х к нам домой приходили два папиных аспиранта-физика, китайцы Лю Шуньфу и Сюй Сюйюн, само собой, неотличимые друг от друга: росточка детского, верхние зубы нависли балконом, очки на подслеповатых глазках, все время смеются, все время немножко кланяются – от застенчивости, вежливости, иностранности и вообще пятитысячелетней культуры. Лю Шуньфу и Сюй Сюйюн изобрели всё: бумагу, порох, шелк, компас, рисовые колобки и иероглифы, хотя по ним это совсем не было заметно. Сквозь дверь папиного кабинета слышно было, как они разговаривают про «интерференцию красных полос». Наверное, они изучали спектральный анализ. На Новый год – случавшийся у них в самое неожиданное и неподходяшее время – они приносили маленькие подарки, ни на что не похожие. Потом они уехали к себе. Потом у них случилась культурная революция, и их убили – как буржуазных спецов, за излишнюю ученость. Хотя ученые, говорил папа, из них были невеликие.
От них остались маленькие вещи: костяная коробочка величиной с палец, со сдвигающейся крышкой, и внутри – квадратная печать с иероглифом и корытце с пачкательной краской карминного цвета. Два дня мы штемпелевали все подряд, оставляя на тетрадках и обоях след, подобный узору надписи надгробной на непонятном языке, потом забросили. Еще была круглая прозрачная коробка, в которой на шелковом ложе лежала тряпичная роза, надушенная душным, плотным без просветов сладким запахом, который никому не понравился, так что она валялась без дела в шкафу и пахла наедине с собой следующие сорок лет. Еще были пять крошечных лаковых шкатулок, вкладывавшихся одна в другую: оливковая, синяя, морской волны, красная и розовая. Мне досталась морская волна, хотя она сразу треснула, и это было нечестно. Шкатулки были черными внутри, с золотой сыпью и невесомые – рука не чувствовала тяжести. Нам объяснили, что шкатулки эти делают из одного только лака, слой за слоем, и никакого дерева там внутри нет. И через трещину в крышке я видела, что это и правда так, что вещица сделана, таинственным образом, из пустоты, из ничего, из черного позолоченного воздуха.
А иероглиф, таким же непостижимым образом, содержал в себе папино имя и фамилию: вот эти крохотные палочки и черточки, окошечки и подпорочки складывались в длинное имя – целый мир в одном, одновременно взъерошенном и аккуратненьком рисунке.
Наверно, все это была дрянь, ширпотреб эпохи дружбы с великим кормчим Мао, но ширпотреб драгоценный, выбранный и подаренный «детям Учителя» с любовью. Тогда у многих в домах были китайские вещи, но всё не то: термосы, эмалированные тазики да полотенца, причем одного и того же цвета и рисунка: мятно-зеленые с ярко-розовой камелией, или что там у них растет. А сквозь аспирантские игрушки просвечивали все пять тысяч лет, весь огромный, далекий, непонятный континент, где живет народ, который изобрел все на свете, кроме вилки.
Во время «культурной революции» великий китайский народ сам себя истребил – не он первый, не он последний, конечно, но от этого не легче; не всех, конечно, – какой-нибудь неполный миллион, – да его уже не вернешь. Уничтожены были самые лучшие, самые образованные, самые знающие, те, от которых тянулась крепкая шелковая нить в прошлое. Кого не разорвали в клочья, тех выслали в горную глушь, в бесплодные районы: воть пусть помашут мотыгами, пусть засеют камни рисом, вот и будет им «интерференция красных полос»! А еще, чтобы неповадно было умникам отрываться от народа, снесли бессчетное количество памятников, храмов, переломали кучу старинных вещей, сожгли древние книги, раздробили в труху, в мелкую пыль плоды чужих трудов, любви и терпения – ибо невыносимы для плебса свидетельства того, что кто-то бывает умнее, талантливее, духовнее, выше, да просто лучше.
…Когда-то мир был таинственным и неоткрытым, еще лет сто назад путешествие было волнующим событием, в Грецию ездили не для того, чтобы загорать, а для того, чтобы «прикоснуться к истокам европейской цивилизации», чтобы испытать эту особую дрожь: вот оно, подлинное, настоящее, уникальное, случайно сохранившееся, выпавшее из тьмы времен прямо ко мне под ноги. Сейчас оно снова уйдет, рассыплется, сгорит на свету, распадется, как фреска в феллиниевском «Риме»; сохранить его, уберечь, утащить в музей, запереть в четырех стенах! Англичан упрекают в варварском растаскивании греческих древностей – да, было такое дело, но ведь украли, чтобы любоваться, чтобы сохранить, чтобы не испортилось, а турки вот использовали Парфенон как склад боеприпасов, с соответствующими последствиями – две с половиной тысячи лет простоял, а потом шарах! – и несколько попортился. Есть разница между вором и варваром, и – да, вор мне все же милей.
А сейчас мир, к сожалению, почти весь открыт, исследован, прочесан и проутюжен. Есть робкая надежда на то, что в африканской глуши вас съедят, но шампуры для шашлычка будут промышленного производства. Остается еще непройденная сельва в Южной Америке, но вряд ли там под плотной листвой и лианами таится неизвестная миру сногсшибательная культура. Разве что какая-нибудь радужная жаба да ядовитая муха дружелюбно ждут своего исследователя.
Вся экзотическая, далекая красота, которую мы тащим в свои дома в тоске по дальним странам и канувшим временам, сделана в Тайване. Все плетеное, вышитое, грубо сколоченное, резное изготовляют – быстро и точно – промышленные артели. Для знатоков – натуральное и неотличимое от оригинала, для тех, кто попроще – синтетическое, пластмассовое. Для тех, кто живет только сегодняшним днем – прозрачные шарфики «под зебру» и леггинсы «под леопарда». Больше нет и не будет уникального, не спеша сделанного, веками отработанного, ни на что не похожего. Глобализм, индустриализация, то-се. Очень удобно, очень тоскливо.
Ничего хорошего о человечестве в целом говорить не приходится: убивают и ближнего и дальнего, изводят на нет целые народы. Если и есть такая нация, которая никого из соседей не потрепала, то либо силенок не хватило, либо соседей не было. Но в каждом народе есть люди сберегающие и люди разрушающие. И среди разрушающих есть убийцы людей, и есть убийцы вещей. Те, кто убивают вещи – дважды преступны, потому что они уничтожают человека, земной след его, память о нем навсегда, окончательно. Те, кто убивают вещи – убивают время, заколачивают последние окна и отдушины, превращают существование в плоское и невеселое «сейчас». Те, кто убивают вещи, человека уж тем более убьют не задумываясь. На что он нужен-то.
Два маленьких китайца, Лю Шуньфу и Сюй Сюйюн, пропавшие сорок лет назад, ничего не успели сделать в своей короткой жизни. Не доучили тонкостей спектрального анализа, не говоря уж об особенностях интерференции красных полос. Спектр их жизни, вместо радостно ярких разноцветных черточек, схлопнулся в тупую черную темноту.