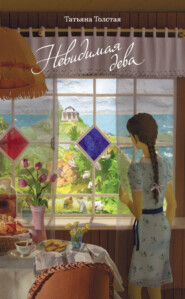По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Птичий рынок
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Медицина держится на честном слове: нам обещают, что, терпя одни мучения, мы избежим других. Ветеринару сложнее. Для кота он не лучше Снежневского: изолятор, уколы, принудительное питание. Неудивительно, что когда через три дня я приехал за Геродотом, он смотрел не узнавая. В больнице он выяснил, что добро бесцельно, а зло необъяснимо.
Мне ему сказать было нечего. Я ведь сам избавил его от грехов, которыми можно было бы объяснить страдания. Теодицея не вытанцовывалась. Я обеспечил ему обильное и беззаботное существование, оградил от дурных соблазнов и опасных помыслов, дал любовь и заботу. Я сделал его жизнь лучше своей, ничего не требуя взамен. Как же мы оказались по разные стороны решетки?
Этого не знал ни я, ни он, но у Геродота не было выхода. Вернее, был: по-карамазовски вернуть билет, сделав адом неудавшийся рай. Он поступил умнее: лизнул мне руку и прыгнул в корзину. Ничего не простив, он всё понял, как одна бессловесная тварь понимает другую.
5
Много лет Геродот верно служил мне пособием по практической метафизике. Я каждый день у него учился, не уставая поражаться буквально нечеловеческой мудрости. Геродот ничем не владел и всем пользовался. Познавая мир, он употреблял его с тем аристократическим эгоизмом и произволом, который доступен мушкетерам Дюма и алкашам Венички Ерофеева. Принимая вызов гречневой крупы или рождественской елки, Геродот, словно Дон Кихот, не сдавался, не одолев противника.
Я упорно изучал на нем пределы своей реальности и возможности выхода за ее границы. Принимая свою роль, он вел себя непредсказуемо, как случай, и относился ко мне как к ущербному богу. Я кормил, но диетическим, не закрывал двери, но не выпускал во двор, чесал за ухом, но таскал к ветеринару, понимал его, но с грехом пополам. От нашего общения я, написав о нем десятки страниц, получал больше него, но он не жаловался, беря гонорар сметаной.
Семнадцать лет Герка терпел, а потом умер, чего я ему до сих пор не простил.
Траур, как и велел Конфуций, продолжался три года, а потом, страдая от дефицита межвидовых отношений, я вновь вступил в них. Ведь без кота жизнь не та. Сравнивая нас с ними, невольно приходишь к выводу, что люди слишком одинаковые, а от кошачьих нас отделяет пропасть.
Новые коты разительно отличались от Геродота прежде всего тем, что их было два. Они получили имена, составляющие философскую пару и исчерпывающие вселенную: Инь и Ян.
Правда, тут не обошлось без культурологического насилия. Неотразимые абиссинцы не имели ничего общего с Китаем. Они походили на египетских кумиров, потому что служили им прототипами. Самая древняя порода кошачьих сохранила их облик без перемен со времен первых династий. Но юные кошки пришли к нам без исторического багажа и отличались легкомыслием.
Особенно – Ян. Он живо напоминает любимого актера моей молодости Савелия Крамарова, каким он был до того, как переехал в Америку и вылечил косоглазие. Отличаясь безмерным любопытством, Ян постоянно бродит по дому с тем простодушным выражением, которое в переводе на человеческий означает “А чего это вы тут делаете?”. Инь походит на Аэлиту. Худая и элегантная, она томно открывает огромные янтарные глаза и глядит ими прямо в душу. Янка нежно пищит, притворяясь птенцом, Инька берет низкие ноты с хрипотцой, как Элла Фицджеральд.
Впрочем, кошки разговаривают исключительно с нами, людьми, а между собой общаются телепатически. Где бы ни оказывался Ян, рядом с ним с вежливым секундным опозданием появляется Инь. Связанные невидимыми нитями родства, они, изображая кавычки, в рифму сидят на подоконнике, на диван укладываются, как ян и инь в корейском флаге, и вместе обедают в любое время суток.
Иногда без всяких (на мой взгляд) причин кошки учиняют жуткую драку. Сцепившись на ковре, они катаются словно поссорившийся сам с собой двухголовый дракон. Схватка проходит в абсолютной тишине, что делает ее еще более непонятной. Тем более что, вдруг начавшись, драка кончается не победой или поражением, а взаимным вылизыванием ушей. Не в силах разобраться в природе этих конфликтов, я не вмешиваюсь, а наблюдаю, ибо на этот раз решил с помощью котов изучить весь спектр общественных наук, начиная с политических.
Ян вел себя нахраписто. Инь была умнее, не лезла на рожон, но первой начинала схватку, вцепляясь брату в горло, если не успевала – в хвост. Но больше всего меня интересовало их отношение к нам, людям. Они полюбили играть с нами, например, в футбол – два на два без вратаря. В мороз им нравится спать под мышкой, ночью – будить приступами нежности или щекоткой. Подозреваю, однако, что, быстро сориентировавшись на местности, коты принялись плести заговор, умело дозируя ласку и разлучая меня с женой. Стоило им нагадить – разбить чашку, напиться из унитаза или оборвать лепестки – как они стремительно неслись в поисках защиты к тому, кто не заметил проделки. При этом наша раса в целом не вызывает у них большого энтузиазма. По телевизору они соглашаются с нами смотреть только мультфильмы про зверей, на худой конец – “Маугли”.
Неудивительно, что Ян и Инь раскусили нас раньше, чем мы их. Один кот непостижим, но с ним мы хотя бы общаемся тет-а-тет, как с Богом. Два кота меняют социальную динамику и на порядок усложняют взаимопонимание. Взяв Иньку на руки, надо всегда иметь в уме Яна, который вскакивает на плечи и кусает в лысину. Я еще не понимаю, что он хочет этим сказать, но собираюсь узнать, посвятив дешифровке чужой ментальности остаток жизни.
В конце концов, у нас нет задачи более важной, чем понять себя с кошачьей помощью.
– Собаки ничуть не хуже, – скажут мне, и я не стану спорить.
Они, скажем, незаменимы для сюжета уже потому, что верно ему служат и охотно подсказывают. Долго проживет герой вестерна, пихнувший собаку? Выйдет ли замуж героиня за жениха, согнавшего пса с кресла? Станем ли мы сочувствовать зайцу, если за ним гонится роскошная борзая?
Но кошки не годятся для сюжета вовсе. Во-первых, они не пойдут с вами на охоту – нужны мы им, как же. Во-вторых, коты не делают того, чего от них ждут. Они вообще редко что-нибудь делают и никогда для нас. Мы любим их лишь потому, что они есть, да еще у нас.
– Собака, – скажу я, подводя итог, – друг человека, кот – его альтернатива.
Яна Вагнер
Блаженны нищие духом
Вообще-то боксеры – красивые собаки. Лоснящиеся красавцы, мускулистые медалисты. Классического боксеровода я вижу так: гордец с задранным носом. Когда-то я и сама была гордецом, но потом мы зачем-то решили больше не покупать щенков, а вместо этого брать домой взрослых из приюта, и с тех пор позоримся даже в ветклиниках.
Представьте очередь на прививку, в коридоре небольшая толпа. Какой-нибудь шелковый пекинес, две белозубые овчарки и золотистый ретривер, расчесанный на пробор. И мы. Атрибуты сиротской жизни не спрячешь – торчащие ребра, негнущиеся лапы, слезящиеся глаза. Вся очередь сторонится нас, во взглядах чудится “господи, довели собачку”. Рассматривая наших питомцев, дети иногда плачут, и бессмысленно объяснять, что через полгода любви и домашней еды всякий сирота непременно превратится в наглого обжору с блестящей шерстью, и надо просто подождать. Мы и не объясняем. Молча сидим в коридоре ветеринарки с красными горячими ушами, пристально изучаем телефон. Какой-нибудь мальчик громко спросит у бабушки: а почему эта собачка так странно сидит? Бабушка обнимет холеного красавца-бультерьера (или огромного вислоухого дога, или просто положит руку на кошачью переноску) и укоризненно вздохнет. Температура упадет еще на пять градусов. Шансы встретить ту же самую бабушку спустя полгода, предъявить ей бывшего сироту и оправдаться – ничтожны.
Тем более что теперь у нас есть Веня. Увидев Веню, все бабушки мира проклянут нас и через год, и через пять лет, потому что над его сиротской харизмой время не властно вообще.
Он приехал к нам четыре года назад, в феврале. Странный белый пес с обмороженными ушами, который не улыбался, не смотрел в глаза и не вилял хвостом, а вместо этого долго бегал кругами по нашей гостиной, задирая передние ноги высоко, как кремлевский курсант, и по-птичьи тряс головой, а потом уперся лбом в стену и замер, и не хотел оборачиваться. Он испугался нас, а мы – его, мы таких не видели никогда, но деваться было некуда: за бортом минус 20, в приюте неотапливаемые вольеры, а больше никто его не хотел.
Назавтра выяснилось, что он не умеет лаять, через раз падает с лестницы и при попытке обойти стул обязательно сносит его плечом. Что садится он трудно, враскачку, не может лежать на боку и даже пьет медленно и странно, как будто чужим языком.
В первый же день он сунул лицо в камин и спалил себе все усы и брови. Влез в душевую кабину и не нашел выхода, потому что не смог развернуться. Попытался сесть и упал на спину, как черепаха. Застрял головой в перилах веранды, пришлось бежать и вынимать.
Леденея, мы ходили за ним по пятам и думали – инсульт? Травма позвоночника? Или, может, он просто слеп на один глаз? Глядя, как он мчится к нам иноходью на прямых ногах, похожий на собаку-Франкенштейна, сильнее всего хотелось осенить его крестным знамением и быстро закрыться в другой комнате, но делать это было неловко. И потом, надо же было разобраться.
Две недели мы возили его по разным врачам, делали рентгены и УЗИ, показывали хирургу и офтальмологу, а в остальное время поднимали его, отряхивали, выпутывали из перил и чистили ему лицо (у белых собак очень маркие лица). Однажды он пришел к нам со стулом на спине, потому что шел сквозь стул и застрял. По утрам он стоял возле нашей кровати и мычал, не открывая рта, протяжно и глубоко, как печальная корова. И еще у него появилось имя – Веня. Когда две недели подряд смотришь на кого-то не отрываясь, без имени не обойтись.
Мы заметили, что он не любит оставаться один и ходит, везде терпеливо ходит за нами следом, как варан. Толкает незакрытую дверь в ванную, караулит под лестницей. Обернешься – а там вечно тревожное белое Венино лицо. Заметили, что, как и все диккенсовские сироты, он голоден постоянно и к миске мчится так, словно это святой Грааль, но если протянуть ему на ладони кусок сыра, возникает пауза секунд в десять, и в наступившей тишине слышен лязг и скрежет, с которым проворачиваются шестеренки в Вениной голове; правую переднюю ногу вперед, трудно думает Веня, не шевелясь, или левую заднюю? Ног слишком много, и восторг мешает ему сосредоточиться. Зато если оставить незакрытой пустую бочку из-под собачьего корма, спустя четверть часа она оказывается опрокинута, и в ней уже лежит Веня, потрясенный и счастливый, и шумно дышит внутри синих пластиковых боков, как Дарт Вейдер. Покинуть бочку по собственной воле он не в силах.
Что если сесть на корточки и расставить руки в стороны, он летит в объятия как пуля, как пушечное ядро, но почти всегда промахивается и пролетает мимо, и стучится головой в стену или диван. Что, падая с лестницы, он застревает, проваливается нижней частью тела между ступеней и висит сколько нужно, вцепившись когтями в мягкое дерево. Не кричит, не зовет нас, просто ждет, пока мы его спасем. Когда кто-то так в тебя верит, соскочить уже нет шансов. Ты просто раз в полчаса как миленький бегаешь проверять лестницу.
Много раз в первые дни мы обсуждали разные версии его происхождения, и сильнее прочих нам понравилась одна: не было никакого приюта, никаких бывших хозяев. Всё случилось неподалеку от нашего забора, у нас тут полно неучтенных ничейных мест. Ночь, тьма, заросшее сорняками поле, и внезапно с лязгом сверху – голубой сноп света, освещающий слежавшийся снег, черную прошлогоднюю траву. И материализуется Веня.
Его пытались, конечно, замаскировать под собачку, но явно у них под руками была картинка, а настоящих собак они не видели никогда. В мелочах, кстати, и внешне не всё гладко. Все-таки как ни крути, а глаза смотрят в разные стороны, и время от времени моргает сначала правый, потом – левый. Явный сбой в программе. С начинкой и вовсе беда: лаять не умеет, забывает открыть рот. Если сидит, то на собственном хвосте. Ходит на цыпочках. И наконец, самый серьезный прокол: он просвечивает на солнце, весь. Ладно бы только уши, этим грешат многие блондины, но чтобы ноги? Живот?
Выслушав эту теорию, посмотреть на Веню приехали наши друзья и сказали: да у него скафандр просто не отрегулирован. Что вы за люди такие, сделайте вид, что не заметили, хватит смущать парня. А мы и правда стали смеяться сорок раз в день. Пятьдесят. Мы вообще довольно смешливые, но чтобы сорок отдельных раз в сутки хохотать – нет, такого с нами не было никогда.
Словом, за неделю до приема у звездного собачьего невропатолога мы позвонили маме и сказали: мам, не сердись, но мы решили его оставить. Ха, сказала мама. Кто бы сомневался.
Если перевести заключение МРТ на обычный язык, оказалось, что у юного нашего друга недоразвит мозжечок. Не было ни травм, ни инсультов, он сразу таким родился. Выводя собачьи породы, человечество сотни лет увлеченно сражается с эволюцией, закрепляя любые странные свои капризы вроде формы ушей или оттенка шерсти, и в результате этой борьбы такие, как Веня, иногда вываливаются из конвейера. Бракованные с рождения. Не секрет, что белые боксеры часто оказываются глухими. В Венином случае природа просто нанесла ответный удар посильнее и отняла у него координацию движений.
Честно говоря, мы даже почувствовали облегчение. Ну подумаешь, мозг не вырос; половина планеты примерно в том же положении. Он-то всего лишь лает с закрытым ртом, падает со ступенек и раз в два дня сжигает собственные усы в камине, а многие ухитряются занимать серьезные посты, выступать по телевизору, писать статьи и законопроекты.
Мы, конечно, всё равно спросили – и что теперь? Как отращивать мозг? Надо ли лечить?
Веню не надо лечить, сказала доктор. Веню надо любить.
И тут мы поняли, что с этим как раз уже всё хорошо. Это у нас получилось само собой.
Природу любви, конечно, понять невозможно.
К нашим годам практичные люди ни пальто уже белых не заводят, ни машин, а тут нам достался целый белый Веня. Подмосковные суглинки пачкали Веню снизу и до колен. Каминная топка, где временами нет-нет да и печется шашлык, пачкала Венино лицо снизу. А потом мы затеяли стройку, и вдоль борта у Вени появились липкие смоляные следы, ну что делать, оказалось, он любит прижаться щекой к оцилиндрованному бревну. Отряхиваться он не умел, как-то это связано с нарушением равновесия, и восстав из пепла и опилок, Веня ходил как есть, во всей своей первозданной красе прямо по нашей гостиной, среди диванов, журнальных столиков и дорогущих трехметровых штор.
К тому же он был огромен и мускулист. Большая голова, длинные ноги и широкая грудь, и все мышцы постоянно в тонусе, это тоже связано с мозжечком. Если удачно подпереть Веню балконными перилами, он выглядел как киноактер Ченнинг Татум (мужественное лицо, кубики на животе), но любоваться следовало молча, ничем не выдавая восторга, потому что, заслышав ласковое слово, Веня пытался броситься с балкона вниз, в объятия, и на прямых ногах летел со ступенек. И мы зашили все лестницы снизу фанерой, чтобы он не падал насквозь, и привыкли просыпаться среди ночи, чтоб вскочить и поправить Веню, у которого в голове кувырнулся водяной уровень, отвечающий за верх и низ, и который бился, как опрокинутый на спину жук, размахивая четырьмя могучими ногами в воздухе, снимая стружку с наших деревянных стен.
Однажды к нам приехала красивая рыжая женщина в белой куртке с меховым воротником, и Веня робко бродил, бродил вокруг воротника, а затем аккуратно взял его в зубы и понес жениться. Мы обернулись и поглядели на него (он отступал, пятясь, держа воротник в зубах, не верил своей удаче), и красивая женщина решительно встала и оторвала меховой воротник от своей куртки, и подарила его Вене навсегда.
Потому что единственный Венин бесспорный талант – заставлять таять слабое человеческое сердце – неожиданно перевесил все неудобства и хлопоты, возникшие с его появлением. Мы просто научились вовремя отодвигать стулья, быстро вскакивать, чтоб распахнуть опасные двери, без сожалений жертвовать меховыми воротниками и пять минут ждать с сыром на ладони, не двигаясь с места, безо всяких усилий. Просто из любви.
Любить кого-то, чьи радости просты (еда, тепло, приязнь незнакомцев и, может быть, еще твои покаянные поцелуи, хотя в ценности последних ты никогда до конца не уверен), – легко. Нет, правда, легко и весело, и в то же самое время очень больно, как будто боль только усиливает любовь; как будто любви без боли вообще не бывает.
Больно было смотреть, как, прежде чем броситься в погоню за счастьем, Веня всякий раз замирает. Собирает свои громадные мышцы, напрягается весь целиком, до кончиков ушей, до пальцев ног. Растопыривается, деревенеет. Бегать ему всегда было непросто, и при этом он искренне ждал от Вселенной добра, так что это была судорога счастливого предвкушения. Но всё равно – судорога.
И мы смотрели на Веню, который бежит на негнущихся ногах, взволнованный и счастливый, за громыхающим в миске кормом, лежать на солнечной веранде или навстречу гостям. И всегда, абсолютно всякий раз тяжелая двустворчатая дверь гостиной неожиданно, прямо посреди радости била его в лоб или в плечо. С размаху. Иногда это напоминало дружеский хлопок, а в другие дни это был недружелюбный болезненный удар, и всякий раз Веня охал и терял равновесие, на крошечную долю секунды тормозил, но счастье близко, достижимо, глупо не бежать дальше, вот же оно, вот! И он бежал – неомраченный, безмятежный, не оборачиваясь. Прямо на бегу прощая подлую дверь. Два, три, четыре года подряд мы наблюдали за тем, как бог упорно, раз за разом испытывает его. Потому что дело ведь было не только в двери. Была еще, например, лестница, ведущая в сад, которую нельзя миновать и которая дергалась у Вени из-под ног и лупила его по голове коваными перилами всегда, обязательно, много раз за день, без выходных. И даже когда он просто сидел, тихо сидел на попе и никого не трогал вообще, вероломная, непредсказуемая планета время от времени делала кувырок. Верх менялся местами с низом, солнце кидалось под горизонт, а каменный пол вспучивался сам по себе и бил Веню по затылку – ни за что, безо всякой причины, просто так.
Как облегчить Вене жизнь, нам до сих пор понятно не до конца. Будь он маленьким, как такса или кот, мы сшили бы мягкий карман и спрятали его внутри, и вынимали б его оттуда только затем, чтобы кормить и целовать. Сносили бы его с лестниц на руках и ставили в мягкий снег, в одуванчики, в клевер, в чистую теплую траву. Но Веня для этого слишком большой, и мы не можем поднять его, взять на руки, не можем даже как следует обхватить, чтоб согреть. Каждый день мы смотрели, как он падает с лестницы, застревает в перилах и стучится головой об пол и как проклятые двери, стулья и шкафы бьют и бьют его в лоб, в глаз и в плечо. И это нельзя было исправить, никак. Всё, что мы могли предложить ему, – регулярную еду, тепло и бесполезные поцелуи. И наше сердце, полное жалости.