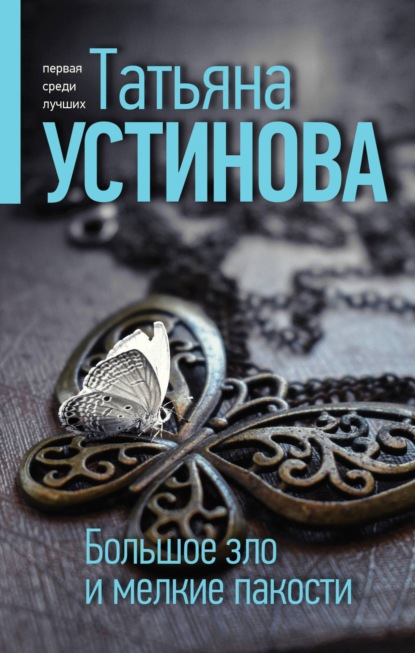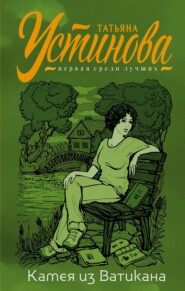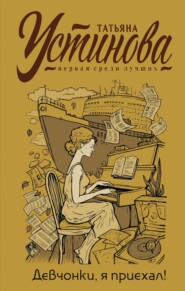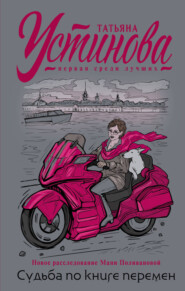По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Большое зло и мелкие пакости
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Надо же, как все сложилось!
Казалось бы – Потапов! Ну что он из себя представлял? Да ничего он из себя никогда не представлял! Серая посредственность, закопавшаяся в английских глаголах.
В шестом классе родители зачем-то отдали его на теннис, и он стал ходить с ракеткой. Ракеточка у него была самая дерьмовенькая, в самодельном брезентовом чехле, на дне которого болтались еще советские сине-красные кеды на резиновом ходу. Потапов свою ракеточку обожал, таскал за собой из класса в класс, или, как это называлось, из «кабинета» в «кабинет», в раздевалке не оставлял, все боялся, что у него сопрут такую драгоценность!
И «драгоценность», конечно, в один прекрасный день сперли. Прямо из «кабинета».
Евгений Петрович улыбнулся, рассматривая сидящего на сцене, такого важного нынче Потапова. Как он метался, ища свой безобразный брезентовый мешок! Как приставал ко всем – не видел ли его кто! Как бегал в туалет и лазил за все толчки, проверял, не там ли он! Как потом помчался в раздевалку и долго и бестолково тыкался в разные стороны, а мешок все не находился! В конце концов он ушел за школу, чтобы его никто не видел, и кулаком утирал слезы, слизняк лопоухий, и там его, зареванного, в соплях и горе, засекла первая красавица класса Динка Больц, в которую все были тогда влюблены, и Потапов тоже!
Наверное, эта ракетка в истлевшем брезентовом мешке до сих пор гниет там, куда ее засунул тогда Первушин – за пожарным щитом на стене макулатурного сарая. Женька засовывал, а Вовка Сидорин, комсорг, приплясывая от нетерпения, караулил за углом с осыпавшейся штукатуркой и выцарапанным сердцем с надписью «love».
Ах, молодость, молодость!..
Евгению Петровичу, как и всем его одноклассникам, в этом году должно было исполниться тридцать три, но он чувствовал себя умудренным жизнью старцем. Он чувствовал себя таким лет с десяти, наверное.
Он никогда не был так отвратительно глуп, как большинство его приятелей. Он всегда совершенно точно знал, чего хочет, и отлично предвидел опасности, возможные последствия и обязательные неприятности. Все свои, даже вполне мальчишеские, предприятия он начинал и заканчивал в точном соответствии с собственным сценарием, и ему это нравилось. В отличие от всех остальных он никогда не боялся учителей и не считал их небожителями. Он изучал их слабости и отлично ими пользовался.
А что тут такого?
Раиса Ивановна обожала стенды и «наглядную работу», и Первушин был самым первым, кто вызывался рисовать схемы и диаграммы на плотных, с загибающимися внутрь концами, листах. Рисовать было трудно, листы норовили свернуться в трубку, но он рисовал самоотверженно, почти истово, и Раиса Ивановна умилялась.
Ботаничка все время страдала от пыли, и Первушин драил ее кабинет с таким рвением и старанием, что она ласково трепала его по макушке.
Валентина Пална все время писала что-то на маленьких листочках. Это было ее главным удовольствием, и Женя выпрашивал у отца заграничные записные книжки в упоительно пахнувших кожаных переплетах, с крошечными отрывными листочками и красными датами незнакомых праздников. Валентина Пална принимала подарочки и улыбалась.
Директриса, она же и литераторша, трепещущим от чувств голосом рассказывала про Павку Корчагина, и Первушин стал режиссером-постановщиком школьного спектакля по мотивам бессмертного произведения Николая Островского «Как закалялась сталь». На премьере директриса прослезилась. Ей, бедной, невдомек было, что Евгений давным-давно переименовал бессмертное произведение в нечто гораздо более приземленное. «Как получить медаль», так оно теперь называлось. Бедный Павка был переименован еще более изобретательно. До сих пор, вспоминая его прозвище, Евгений Петрович улыбался чуть смущенно.
Медаль Первушин получил легко. В институт тоже поступил легко, и не в какой-то там «тонкой химической технологии», а в самый что ни на есть лучший и престижный.
В Институт международных отношений он поступил.
Есть время разбрасывать камни, и есть время – собирать.
Маленький Первушин как-то прочел эту мудрость в английском романе. Роман повествовал о рыцарях, войнах, смертях и любви. Сам роман показался Евгению каким-то малоосмысленным, а выражение запомнилось. Главным образом потому, что тогда он так и не понял, в чем его глубокий смысл. Зачем сначала разбрасывать, а потом собирать?! И не знал, конечно, что это из Библии.
К семнадцати годам юный Евгений осознал эту мудрость в полной мере. Он был очень умен и предусмотрителен, кроме того, привык, что все давно и без возражений играют в соответствии с его сценарием.
В соответствии с этим сценарием поступление в МГИМО было именно тем поворотом, за которым предстояло начать собирать камни.
Успех был налицо. Рельсы проложены, куда там бедному переименованному Павке! Карьера обеспечена, блестящая и прочная, как скафандр космонавта. Дальние страны только и ждут, когда Первушин доучится и сможет в них наведаться. Париж, Вашингтон, Мадрид, Буэнос-Айрес – соблазнительные, глянцевые, полные загадок, красивых женщин, упоительных приключений, – так ему представлялась будущая жизнь.
С третьего курса его выгнали. Приказ назывался «Об отчислении».
«Отчислить» – было сказано там, а Евгению показалось – «расстрелять».
Двадцатилетний Первушин совершенно растерялся. Он был уверен в своем знании жизни. Он управлял директрисой и Валентиной Палной, и даже девушкой Викой, и делал это виртуозно. Все они с разной степенью покладистости плясали под его дудку и были вполне предсказуемы. На третьем курсе МГИМО его «схавали» однокурсники, не приложив к этому почти никаких усилий.
Наверное, он представлялся им очень глупым. Очень глупым, и очень самоуверенным, и очень наивным. Впрочем, именно таким он и был. Он не учел главного – на факультете международных отношений учились по-настоящему тертые калачи. Даже нельзя сказать, что они учились. Они здесь пребывали, определенные сюда всесильными отцами. Отцы не могли сразу рассовать их по Лондонам и Вашингтонам, ибо даже всесильным папашам, чтобы пристроить чад, нужна была некая бумага, называвшаяся дипломом. Ни фактура, ни цвет, ни даже слова, напечатанные на этой бумаге, не имели никакого значения, но определять отпрысков в данное учебное заведение было старой доброй традицией, и всесильные отцы эту традицию не нарушали. Кроме того, их дети оказывались собраны в одном месте и в одно и то же время, следовательно, находились друг у друга на глазах и могли выбрать себе партнера «из своего круга».
Когда преподаватель по международному праву проводил перекличку, казалось, что он зачитывает список членов Политбюро. Даже голос его становился похож на голос «товарища Левитана». Еще были дочери космонавтов, дочери знаменитых художников, дочери международных обозревателей и крупных режиссеров. Сыновей было меньше, но они тоже присутствовали.
Не иметь машины считалось почти так же неприлично, как прийти на лекцию в ботинках отечественного производства.
На каникулы ездили «к предкам», то есть за границу. Лучше всего, конечно, в «капстрану». Из «капстран» предпочтительнее всего были Штаты.
Видеомагнитофон – вещь неслыханная! – давно должен был «осточертеть».
«Мне осточертел видак и этот ваш „Гиннес“! Ты же знаешь, что я не люблю темное пиво!»
Разве мог угнаться за ними бедный Евгений, затесавшийся, как орловская ломовая лошадь, в табун чистокровных арабских скакунов!
Он попробовал поуправлять и ими.
Вадим Гриценко из-под полы приторговывал марихуаной, которую необходимо было курить в обществе длинноволосых стильных девиц, дочерей режиссеров и художников. Марихуану он привозил из Амстердама, где консульствовал его папаша, ее охотно и весело покупали, и Вадим процветал. Евгений по неопытности и малолетству решил, что он тоже вполне может приобщиться к скромному амстердамско-марихуанному бизнесу, хотя его собственный папаша нигде и никогда не консульствовал. В один прекрасный день Вадим Гриценко получил записку. В записке, в полном соответствии с классикой жанра, было написано, что если Вадим не станет делиться прибылью, то деканат немедленно будет поставлен в известность о его бизнесе, и консульский отдел МИД будет поставлен в известность, и комитет комсомола будет поставлен в известность, и папашкина карьера окажется под угрозой, и комсомольский билет самого Вадима тоже окажется под угрозой, а Вадим как раз собирался вступить в ряды КПСС. Без этого двери в вожделенные Лондоны и Вашингтоны были не просто закрыты, а, можно сказать, заколочены наглухо. Не членам КПСС нечего было делать в Лондонах и Вашингтонах…
Евгений Петрович вздохнул.
Н-да…
До сих пор вспоминать об этом ему было тяжело.
Через неделю после написания этой злополучной записки на доске приказов в холле третьего этажа появилась бумажка «Об отчислении». Когда Евгений Петрович прочитал ее, ему показалось, что под ним провалился пол. Он долго падал в бездонную пропасть, и в ушах у него звенело, и шумело в голове, и было как-то знобко, как будто в жарком здании гуляет свирепая метель.
Он так и не выяснил, каким образом синдикат «Вадим Гриценко и компания» организовал его отчисление. Расследовать это по горячим следам он не мог – слишком малы были его возможности по сравнению с возможностями ребят, которыми он попытался управлять. Декан не стал с ним встречаться. Он просидел перед деканской, обитой дорогой черной кожей дверью полдня. «Я же вам говорю, что его не будет, – время от времени холодно повторяла лощеная секретарша, – и вопрос ваш он рассматривать не станет, даже если появится».
Вопрос!
Как будто речь шла о месте в общежитии, а не о кончине Первушина.
Тогда он был совершенно уверен, что это – конец.
Пришло время собирать разбросанные камни, но они – увы! – оказались совсем не такими, какими представлялись ему поначалу. Это были тяжеленные грязные валуны, а вовсе не кусочки солнечного янтаря, светящиеся на ладони…
Совершенно уничтоженный и ни на что не годный, Первушин вынужден был пойти в армию, откуда вернулся совершенно другим человеком. Теперь он ни за что не стал бы даже пытаться управлять марихуанно-амстердамским Вадимом. Теперь он не мог понять, как ему такое в голову пришло!..
Конечно, он восстановился в институте. Попробовали бы они не восстановить его, тем более в армии он вступил-таки в ряды КПСС и хоть в этом сравнялся с ненавистным врагом! Встречаясь в коридорах с бывшими однокурсниками, ушедшими на три года вперед, Евгений отворачивался. Несмотря на всю его выдержку и теперешнее знание жизни, он не мог себя заставить здороваться с ними. Впрочем, нельзя сказать, что и кто-то из них выражал жгучее желание поприветствовать Первушина на его новом жизненном этапе.
Попозже он отыгрался. Или ему нравилось думать, что он отыгрался.
Грянула революция 91-го, и всесильные отцы перестали быть всесильными, по крайней мере некоторые из них. При определенной практической смекалке и хватке Лондоны и Вашингтоны стали доступны для всех, даже для выходцев «из низов», каковым был Евгений Петрович. В отличие от большинства сыновей и дочерей, учившихся вместе с ним, Первушин умел и хотел работать. Хватка и смекалка тоже присутствовали.
Он с отличием окончил ненавистный институт, получил назначение и отбыл в Иран.
Не Женева, конечно, и не Париж, но все-таки и не Тамбов…
А потом, потом…. Потом была история, которая в очередной раз перевернула всю его жизнь, но об этом никак нельзя было думать.
Сегодня, как никогда, ему нужна трезвая и холодная голова. А кровь неизменно начинала стучать в висках Евгения Петровича, когда он вспоминал о той истории. Еще хуже ему становилось, когда он думал, что о ней теперь знает не только он.