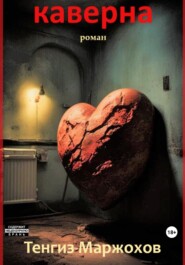По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Нулёвка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В карантине толклись всякие разговоры, слухи – у кого что болит… Пока мужики выполняют хозработы и попутно подбирают, куда податься после карантина: в столовую, в швейку, в ширпотреб или в хозбанду, чтобы быстрей коротать срок. Отказники вырабатывают тактику, как прохилять эту неделю, до распределения по отрядам, чтобы не сломаться. Никто не хочет быть битым, как последний ишак. Но и брать в руки веник, швабру, лопату – западло. Выбрал путь отрицала, будь готов ко всему.
В карантине говорят, что работа в лагере – вязать сетки. Другой работы нет, сейчас не времена ГУЛАГа. Счастливчик, кто нашел должность бугра, хлебореза, банщика. А кто пробился в шеф-повара, в завхозы карантина или разконвойку, тот просто буржуй, белый человек, элита. За эти должности идет нешуточная борьба. Конкуренция жесткая. Здесь берет верх тот, кто может предложить администрации учреждения не только профессиональные качества, но и лояльность. У блатных своя иерархия. Да и блатные уже не те, вымерли как динозавры, осталась так, мелочь. Сейчас важнейший принцип – приспособляемость, пролавировать между мусорами, блатными, козлами, чтобы не запачкаться, не пострадать, себя не потерять.
Аслан призадумался, зачем заставляют подписывать 106-ю, если в лагере другой работы, кроме как вязать сетки, нет? Логичный вопрос. А затем что, во-первых, труд должен оплачиваться, а кто любит платить? Во-вторых, работа работой, но должны все осужденные потенциально быть под ярмом. Не должно быть свободных. «Осужденный» и «раб» для администрации синонимы. Даже блатных администрация берет под контроль. Если не получается, засылает своих завербованных блатных. Армейская подчиненность у них распространяется и на спецконтингент, правда, уходит в минусовые величины. И логику здесь искать бессмысленно.
После распределения попал Аслан в одиннадцатый отряд. Отряд как отряд, как и другие отряды Борисоглебска. Одноэтажный барак c беленными известью стенами. Неасфальтированный дворик, с утоптанной казенными ботинками землей. По углам дворика растут два дерева, еще по-летнему зеленеют листвой. Чуть в сторонке – стол, две лавки. Все это огорожено решеткой – трехметровым забором из арматуры. Население – под сто человек. Здесь надо приспособиться к новой обстановке, привыкнуть к условиям, режиму. Еще жизненно важно перевести дух, прийти в себя, оклематься. Хорошо, стоят теплые денечки. Солнце ласковое, пока балует. После этапа, продлившегося больше двух месяцев, кожа Аслана огрубела, стала похожа на кожу крокодила. Не только кожа… все тело было другое, не его, не родное. Многие моменты Аслан не мог вспомнить. Происходящее было как во сне. Мысли блуждали в тумане. Дорого обошелся этап.
В тюрьму Пятигорска его пригнали спецэтапом. Все, как вывозили из Каменки, как везли – насторожило Аслана. Этим же спецэтапом шли трое на особый режим, приговоренные к пожизненному заключению, один из них – Тракторист. Аслан по сравнению с ними младенец – режим общий, срок ограничен. Но почему-то именно его тюрьма Пятигорска приняла жестко. Он помнил, как после шмона их повели в душ на помывку. После душа его привели в транзитную камеру и, закрывая за ним тормоза, сразу объявили: «Тамаев дежурный».
В транзитной камере всегда сумерки, не поймешь, утро, день или вечер, все одно, нечему сгущаться. Тем не менее Аслан чувствовал: что-то сгущается. Уже на вечернюю поверку пришли, вывели всех из камеры в коридор. Потребовали доклад. Тишина. «Кто дежурный?! – завопил начальник. – Где доклад?!» Аслан молчал. Поволокли его в дежурную часть. Повалили лицом вниз, растянули, пристегнули к столу наручниками. Кровь застучала в висках… Вооружились дубинками и стали бить с двух сторон, месить, как «двое из ларца». Каждый удар взрывался шаровой молнией в голове. Аслан толком не разглядел тех, кто бил, какие-то мелькавшие фрагменты: лиц, рук, униформы. Перекурили. Когда кровь запеклась, тело налилось гематомой, начали бить второй раз, исполосовали всю спину. Знали, как больнее. Били так, что и сознание не потеряешь, и терпеть невыносимо. Аслан кричал на всю тюрьму. Когда отстегнули от стола, сам встать он не мог. Почернел до пяток, все распухло. За наручники его оттащили в карцер, протерли им пыльные полы коридоров. В карцере подвесили, пристегнули к крюку под потолком. Пришел лепила. Осмотрел Аслана. Спросил: «Что это он у вас спереди белый, со спины черный? Подравняйте». Продолжили бить уже спереди. Когда Аслан приходил в себя, пытался встать на носки, на кончики пальцев, чтобы кисти не потерять, чтобы не отрезало. В таком положении провисел два часа. Когда отстегнули, упал на пол и пролежал так неделю.
Двигаться не мог. Погрузился в небытие. Сознание спряталось под тяжелый жестяной лист коматоза. Когда блуждавшее неизвестно где сознание возвращалось и пыталось пошевелить тело, сотни ударов вновь обрушивались с неистовой силой, невыносимая боль стальной дугой обжигала плоть, и сознание сдавалось, вновь уходило блуждать.
В бреду сознание пыталось разобраться, что произошло. Чувствовал: лежит на полу, который, как и потолок, стоял вертикально. Видел тормоза. По мерцавшему светлому квадрату понимал, где решка – окно. Надо было найти воду.
Тело лежало и горело как переплавленная груда свинца. Казалось, что содрали кожу и мясо вялится от соприкосновения с воздухом карцера. Сейчас лучше не двигаться, каждое движение вызывает боль. Хотелось понять, за что? Почему он попал под молотки? Не может быть, чтобы так били за доклад. По неприязни тоже так не бьют. Здесь что-то другое. Ответа не было. Просыпавшееся сознание снова и снова искало ответ. Видимо, ему на дело поставили тачковку – пометку. Привет из Каменки. Мамедов подгадил, сукин сын! Он и сейчас слышал его голос: «Если с ним что-то случится, я тебя сгною!»
Взгляд набрел на кран. Низко, над сливным отверстием. Хорошо, что низко. Для стоящего во весь рост человека унизительно так нагибаться, чтобы утолить жажду. Но это карцер, в который все попадают после экзекуции, в определенной кондиции, и кроме как ползать ничего не могут. Хорошо, что кран низко. Надо собрать силы и подползти… Провалился в сон, сознание ушло блуждать.
Владикавказ великолепен. Редкий город может похвастать такой декорацией. Близость гор, нависающих с юга над городом, впечатляет, как постоянно звучащий органный аккорд! Столовая гора приковывает взгляд, провозглашает внутри вас минуту молчания, заставляет испытать катарсис перед божественным величием природы. Как будто из-под нее вытекает Терек. Как старый дед, постоянно ворчит, гонит мутную воду. Он раз в год преображается – бывает спокоен и чист. Журчит баритоном как молодой ручей, рассказывает камням сказки. Город одел его в бетон, подпоясал мостами, но, кажется, ему не по нраву такой наряд, он зло шумит свою древнюю песню.
Аслан вспомнил, как с другом гулял по набережной. Тогда он был еще юношей, ему было лет четырнадцать-пятнадцать. В эту летную пору, напитанный частыми июньскими дождями, Терек разлился: ревел, гудел; нес тонны песка, ила. Вода была как цемент, почти черная, пенила волну, закручивая водовороты. Друзья подошли к месту, где часто купались, переплывали реку. Солнце слепило, кусалось. Теплый ветерок подзадоривал. Место вроде то, но река не та – мощь стихии завораживала, пугала. Аслан решил испытать себя, рискнуть – бросить вызов стихии. Посмотрел вниз – уровень воды заметно поднялся. Он скинул портки. Взяв скорее себя, чем друга, на слабо, перешагнул страх – прыгнул в воду. Терек скрежетал зубами – гулко сталкивал валуны, катая по дну. Когда голова Аслана вынырнула, а прошла целая вечность, друг подхватил вещи и побежал по берегу, сбивая ноги о камни. Бурный Терек басовито громыхал, нес бревна, ветки. Среди этого ужаса, среди разбушевавшейся стихии то исчезала, то появлялась, как поплавок, чернявая голова Аслана. Два километра ниже по течению, почти в Ногире, барахтаясь, прибился Аслан к берегу. Выполз обессиленный на теплые камни. Переведя дух, отплевавшись, отдышавшись, побрел навстречу, бежавшему, как по раскаленным углям, другу. От пережитого Аслан чуть не заплакал, маска детского испуга на миг проявилась на лице. Глаза покрылись тюленьей пленкой. На коже узорами прилип черный песок. Он смотрел на бурлящий Терек и не мог поверить… Второй раз не прыгнул бы ни за что. Терек пощадил его, не наказал за дерзость, легкомыслие, браваду. Не затянул под корягу, не ударил об валун. Покрутил как в стиральной машине и выбросил. Он даже дна не коснулся ни разу.
Горы величественно молчали. Высоко в небе, в воздушном потоке плыл орел. Солнце уже не так кусалось, покрылось вуалью полуденной дымки. Аслан ликовал: я сделал это! Прошел по краю! Испытал себя! Прыгнул в бушующий Терек! Кто еще рискнет повторить такое?! Разве что могучие нарты могли похвастать подобной отвагой!..
Но этой дерзости, этого чувства риска он боялся порой. Понимал: может не пронести, да так, что мало не покажется.
И вот не пронесло, попал под молотки, да под такие, что…
Сквозь дрему вдруг он разобрал – как капает вода из крана. Гулко цокает каждая капля в колодце сливного отверстия. Вода зовет, бьет в набат. Он лежит, как в пустыне – невыносимо жарит, печет спину. Издав стон, в два толчка подполз он к крану.
У шнифта (глазка) открылось китовое веко, глаз контролера поблуждал по квадрату карцера. Размеренные шаги пошли по коридору. Скрипнула дверь дежурки.
– До воды добрался, – доложил контролер.
– Значит, не сдохнет, – заключил дежурный. – Начнет вставать, отправим на этап, от греха…
– Пока только ползает. Ни сидеть, ни лежать на спине не может.
– Скорее встанет, раз так… на животе долго не проползаешь, чай не ящерица, – уронил ухмылку дежурный.
Зашла женщина в белом халате – фельдшер. На пышной груди казачки, как змея в расщелине, пригрелся старый фонендоскоп.
– Если я не нужна, пойду, – сказала она и бросила засаленный журнал приемов на железный шкаф.
– Не нужна, – ответил дежурный, разглядывая свои ботинки, к которым на днях прибил новые набойки.
Лепила бросила косой взгляд на контролера.
– А в лаборатории у вас кто? (Так называли карцер).
– Не твое дело, – бросил дежурный.
– Ну-ну… Потом не подходите… задним числом! – округлила она васильковые глаза.
Через две недели, утром этапного дня солнце пыталось проглянуть сквозь плотную цепь облаков. День обещал быть душный, пыльный. Стены пятигорской тюрьмы «Белый лебедь» нависали громадами, как развалины известнякового храма. То тут, то там блестели гирлянды колючек. Конвоиры щурили глаза, недовольно зыркали по сторонам. Овчарка лежала под ногами кинолога, водила ушами и вдумчиво посматривала на все вокруг. Перед ее носом топтались казенные берцы. Проносились офицерские туфли. Поодаль, сбившись кучкой, стояли тапки, кроссовки, мокасины-лодочки.
Вывели кого-то в тапках. Он, как старик, еле передвигал ноги. Овчарка подняла морду и жалобно визгнула. Начальник конвоя, держа в одной руке кипу дел, пальцами другой бегая по корешкам, считая, посмотрел на бедолагу, непроизвольно помотал головой.
– Этого… отказ! Нет! Нет! Забирайте! Отвечать не хочу.
Аслана вернули в каменный мешок – карцер. Тормоза захлопнулись, ударили по мозгам. Стены сдавили. Крюк, к которому пристегивали, угрожающе смотрел сверху, как голова идола, безмолвно ожидавшая следующую жертву. В этой могильной атмосфере только небольшое зарешеченное окно мерцало жизнью.
Прошло еще десять дней. Повторилось то же самое. Начальник ростовского конвоя опять отказался принимать на этап осужденного, походившего на Франкенштейна. Казалось, в любую минуту он может развалиться на части. Но Франкенштейн заговорил.
– Забери меня отсюда, начальник…
– Бумагу подпишешь (на всякий случай), что претензий не имеешь?
После двух месяцев этапа необходимо прийти в себя. Протянулся этап через транзитные камеры тюрем Ростова и Воронежа пережимающим кровь жгутом. Вагоны, воронки, конвоиры, арестанты прошли невнятной ретроспективой перед глазами. Почему в Пятигорске он попал под жесткие молотки? С этим надо еще разобраться. Еще надо избавиться от традиционных этапных напастей, таких как: вши, потница, чесотка. Аслан присел на лавку под шелестевшим листвой деревом. Напротив, через две решетки расположился соседний барак. В окнах виднелись двухэтажные шконки, узкие проходы в одну тумбочку. Скученность большая. Жизненного пространства мало. Курить охота. У Аслана не осталось ни личных вещей, ни насущных припасов. Как-нибудь надо сообщить на родину, где он. Мысли улетели – как там мать? Последние письма из дома были тревожные. Болезнь прогрессировала, становилось хуже. Но что он мог поделать? Ответа не было. Он поднял голову, посмотрел в небо. Оставалось лишь гнать от себя дурные мысли.
Аслан подошел к локалке. Взялся за решетку, почувствовал ладонями жесткие ребра металла. Скосил глаза – попытался посмотреть наружу: налево дорожка между локальными секторами отрядов, как клетками в зверинце, убегала в сторону вахты; направо – куда-то в глубь лагеря. Тут, похоже, закон джунглей. Никто руку помощи не протянет. А просить… Просить Аслан не привык. Хотя в этом – одиннадцатом отряде лагерный котел. Смотрящий за общаком здесь. Но, похоже, от этого не легче.
Аслан понимал одно – смотрящий, Вова Чечен его подставил. Замутил какую-то бодягу… а при первом же кипише, перевел стрелки. Специально, или в последний момент испугался? Смалодушничал? Струсил? Какое это теперь имело значение? Важно другое: Вова Чечен остался в отряде, а Аслан под крышей, в нулевке. И сколько это продлится, одному богу известно. Хорошо хоть из отряда успел письмо домой послать, чтобы дома знали – где он. Когда дома знают, на душе спокойней. Аслан взял с уголка шконки пайку хлеба и чай. Даже дубка (стола) нет! Что за хата?! Пока чай не остыл, перекусить. Пожевать плохо пропеченный хлеб, запивая теплым чуть подслащенным чаем. Больше ждать до обеда нечего.
Мать раскатывает тесто. Аккуратно поправляет косынку на голове, чтобы не испачкать в муке. Сырные колобки с зеленью, дожидаются, когда их замесят в нежное тесто и поставят в печь. В кухне пахнет свежими листьями свеклы и зеленным луком. Мать достает подрумяненные пироги из печи. Смазывает сливочным маслом. Пироги блестят румяными боками. У Аслана текут слюнки.
– Сядь, поешь, – говорит мать. – Когда остынут уже не то.
– Потом, – подхватывает Аслан рюкзак и убегает на тренировку.
Братья все не съедят. И соседям не все мать раздаст. Что-то останется. Зато вернусь с тренировки, тогда… Аслан замечает на холодильнике запотевший графин с компотом. Тогда и поем от души.
Пайка плохо жуется, клейстером прилипает к деснам. Комком глины ложится в желудке. Теплый чуть подслащенный чай, конечно, не домашний компот, но лучше, чем ничего. На зубах скрипнул осадок, когда он допивал чай. Аслан поплевался. На таком питании загнешься окончательно. Походил по камере: четыре шага до окна, четыре обратно – до тормозов. Четыре шага до окна, четыре до тормозов. Четыре до окна… свет через реснички почти не проникает, мерцает на полу тонкими полосками. Четыре до тормозов… над тормозами, в нише за решеткой тусклая лампочка подсвечивает мрачный потолок. Не почитаешь, если бы было что почитать. Аслан подошел к окну. Посмотрел в щель: двор, какие-то строения, колючка, небо. Взгляд остановился на небе – чистой голубой ленточке. Непонятно, где солнце. Похоже, солнце обходит стороной этот угол. Аслан вернулся во мрак, присел на железные струны шконки. Чем заняться? С ума тут сойдешь? «Если научишься входить в это состояние силой мысли – ты мастер», -вспомнил он слова тренера.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: