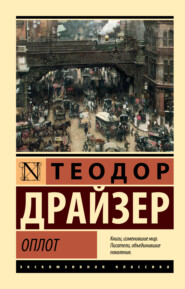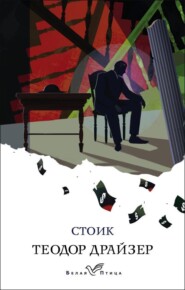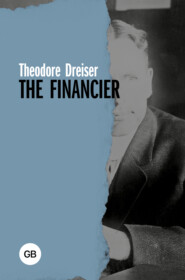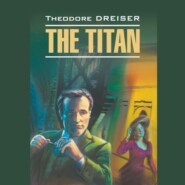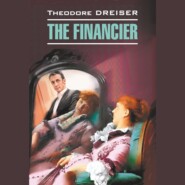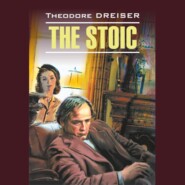По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Гений. Оплот
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы будете поражены, Витла, – сказал ему однажды Диза, – как превосходно французы понимают английский язык, если он сопровождается выразительной мимикой.
Юджин хохотал, слушая рассказы Диза о его затруднениях и удачах. Но теперь он убедился, что Диза был прав. Жестикуляция очень помогала, и его в большинстве случаев понимали.
Прожив несколько дней в отеле, Юджин и Анджела в конце концов сняли студию, которую рекомендовал им парижский представитель фирмы «Кельнер и сын» мосье Аркен. В студии этой, находившейся на третьем этаже и хорошо обставленной, жил американский художник Финли Вуд (Юджин вспомнил, что о нем когда-то упоминала Руби Кенни), на лето уезжавший из Парижа. Благодаря рекомендации мосье Шарля мосье Аркен приложил все старания устроить Юджина возможно удобнее, причем заявил, что платить он может по своему усмотрению, – скажем, франков сорок в месяц. Осмотрев студию, Юджин пришел в восторг. Она была расположена в глубине двора и окнами выходила в садик. Участок, на котором стоял дом, представлял собой небольшую возвышенность, отлого спускавшуюся к западу, и так как сплошная линия зданий в этом месте прерывалась, из окон открывался широкий вид на Париж, на силуэт Нотр-Дам и на устремленную ввысь Эйфелеву башню. Вечером, когда город загорался огнями, зрелище было волшебное. Возвратившись к себе, Юджин придвигал стул к своему любимому окну и наслаждался видом ночного Парижа, пока Анджела готовила чай с лимоном или со льдом или поджаривала что-нибудь на скорую руку. Она кормила Юджина традиционными американскими блюдами, вкладывая в это всю свою энергию и трудолюбие: сама ходила в ближайшие гастрономические магазины, овощные палатки, кондитерские, закупала нужные продукты в минимальных количествах, всегда выбирая все лучшее, и готовила с большой тщательностью. Анджела была отличной кулинаркой и любила, чтобы стол был красиво сервирован, чтобы все сверкало. Она не искала никаких знакомств, чувствуя себя вполне счастливой в обществе Юджина и считая, что и он должен быть так же счастлив с нею. У нее не было ни малейшего желания пойти куда-либо одной – она ходила в город только вместе с ним. Она подстерегала каждую его мысль, каждое движение, стараясь угадать малейшую его прихоть.
Главной прелестью Парижа в глазах Юджина были колоритность и богатство вкуса, проявлявшиеся во всем. Ему не надоедало смотреть на низкорослых французских солдат в широченных красных штанах, голубых мундирах и красных кепи, или на полицейских в плащах и с саблями, или на кучеров, с видом благодушного превосходства восседавших на козлах своих фиакров. Сена, по которой в это время года оживленно шныряли лодки, сад Тюильри с его мраморными статуями, аккуратными дорожками и каменными скамьями, Булонский лес, Марсово поле, Трокадеро, Лувр, изумительные парижские улицы и музеи – все это производило на Юджина впечатление чудесного сна.
– Да! – вырвалось у него однажды, когда он шел с Анджелой по набережной Сены в направлении Исси. – Для художника здесь поистине рай земной. Ты только вдохни, какой аромат, – аромат, кстати, исходил от видневшейся в отдалении парфюмерной фабрики, – взгляни на эту баржу! – Он прислонился к парапету. – Ах, как здесь хорошо! – вздохнул он.
Обратно они возвращались в сумерки на открытом империале омнибуса.
– После смерти я надеюсь попасть в Париж, – со вздохом сказал Юджин. – Лучшего рая мне не нужно.
Однако спустя некоторое время пребывание в Париже, как и всякое затянувшееся удовольствие, потеряло для него часть своей прелести. Юджин чувствовал, что он мог бы поселиться здесь, если бы позволила ему работа. Но сейчас ему необходимо было вернуться в Америку.
Вскоре Юджин стал замечать, что Анджела если не развилась духовно, то, во всяком случае, стала более уверенной в себе. Состояние робости, в котором она находилась в ту осень, когда впервые приехала в Нью-Йорк, и которое еще более усилилось, когда она окунулась в атмосферу искусства и очутилась среди странных друзей Юджина, уступило место уверенности, порожденной опытом. Убедившись, что Юджин всеми своими мыслями, чувствами и интересами живет в мире возвышенного, что его внимание всецело поглощают уличные толпы, типы людей, бульвары, здания и их силуэты на фоне неба, смешное и трогательное в жизни, – она целиком взяла на себя все дела хозяйственного порядка. Очень скоро ей стало ясно, что Юджин рад предоставить все заботы о своем благополучии кому угодно, лишь бы нашелся такой человек. Ему не доставляло ни малейшего удовольствия покупать что-нибудь для себя. Он терпеть не мог всякие домашние мелочи. Доставать билеты, искать что-нибудь в железнодорожном указателе, наводить справки, вступать в пререкания и что-то кому-то доказывать – все это вызывало у него чувство отвращения.
– Послушай, Анджела, ты сама достанешь билеты, правда? – говорил он умоляющим голосом.
Или же:
– Поговори уж ты с ним. Мне сейчас некогда. Хорошо?
Анджела спешила выполнить поручение, в чем бы оно ни заключалось, стремясь доказать, что она действительно полезна и необходима ему. Забравшись на крышу омнибуса, Юджин, как бывало в Нью-Йорке, все рисовал, рисовал и рисовал, – кебы, фиакры, пассажирские пароходики на Сене, характерные фигуры и лица в парках, садах, мюзик-холлах – словом, все, что ни попадалось на глаза. Он был неутомим. Он хотел только одного – чтобы его не слишком беспокоили, чтобы ему не мешали заниматься своим делом. Обыкновенно та же Анджела и расплачивалась всюду, где им приходилось побывать за день. Его бумажник был у нее, она распоряжалась всеми чеками, в которые они превратили свою наличность, вела строгую запись расходов, ходила по магазинам, покупала и платила. Юджину предоставлялась полная возможность смотреть, на что ему угодно, и думать о чем угодно. В этот первый период их брака Анджела возвела его на пьедестал, и Юджин не прочь был восседать на нем, скрестив ноги, как индийский божок.
Только по ночам, когда его внимание не отвлекали посторонние звуки и впечатления, когда даже его искусство не стояло между ними преградой, когда она могла сжимать его в своих объятиях и его неугомонный дух смирялся под пьянящим действием ее страсти, – лишь тогда она чувствовала себя равной ему, действительно достойной его.
Восторги, которыми они упивались во тьме или при мягком свете небольшого ночника, свисавшего на цепях с потолка над их широкой кроватью, или при свете зари, когда утренняя свежесть вливалась в окна вместе с щебетанием птиц, гнездившихся на единственном дереве их крошечного садика, – были с ее стороны проявлением и безоглядной щедрости, и бездонного эгоизма. Она жадно впитала философию Юджина о наслаждении радостями жизни, поскольку это касалось их самих, и тем охотнее восприняла его взгляды, что они совпадали с ее собственными смутными воззрениями и пылкими порывами.
Анджела взошла на брачный алтарь после многих лет самоотречения, после многих лет, проведенных в горьких сомнениях и тоске по замужеству, которое могло и вовсе миновать ее, и принесла с собою на брачное ложе всю накопившуюся у нее бурную страсть. Она была незнакома с этикой и физиологией брака (если не считать того, что позволялось ей, девственнице, знать). Рассказы приятельниц о вещах, которые они и сами знали лишь понаслышке, двусмысленные признания замужних подруг, советы старшей сестры (в каких выражениях они были преподаны – одному богу известно!) – все это нисколько не рассеяло невежества Анджелы. Поэтому сейчас, позабыв обо всем на свете, она с упоением познавала тайны брака, убежденная, что необузданное удовлетворение страсти – явление вполне естественное. Это было к тому же, как она постепенно обнаружила, универсальным средством против всяких расхождений во взглядах и характере, грозивших их душевному покою. С первых же дней их совместной жизни в студии на Вашингтон-сквер и особенно теперь, в Париже, они предавались нескончаемой оргии страсти, хотя это ни в коем случае не было потребностью их натур и еще меньше соответствовало тем требованиям, которые предъявляли Юджину его труд и творчество.
Для Юджина Анджела была источником изумления и радости, и не столько, пожалуй, радости, сколько изумления. Она была, в известном смысле, элементарна. Юджин – нет. Он и в этом оставался художником, как и во всем другом, и пребывал неизменно в таком состоянии восторженности, которое физические силы, надорванные напряженной работой мозга, не могли питать без конца. Волнующая радость неизведанного, романтика приключения или, если хотите, интриги, раскрытие всего, что таится в женщине, – вот, в сущности, что составляло главную прелесть его романов или даже стимул, толкавший его на романы. Одержать победу над женщиной – прекрасно, но если вдуматься, то это борьба, в которую прежде всего вовлечен интеллект. Осуществить свои мечтания, добиться того, чтобы желанная женщина отдала себя всю целиком, – вот что неизменно увлекало в нем и чувство и воображение.
Но все это напоминало головокружительную пропасть, над которой протянуты тончайшие серебряные нити, – и он знал красоту этой пропасти, но опасностей ее не подозревал. Он наслаждался плотской радостью, которую давала ему Анджела. Это было то, чего, как ему казалось, он сам хотел. Анджела же видела в своей способности удовлетворять его неистощимую как будто страсть не только выражение любви к нему, но и свой долг.
Установив свой мольберт в новой студии, Юджин работал иногда с десяти утра до двенадцати, иногда с двух до пяти. В пасмурные дни они с Анджелой либо предпринимали всевозможные прогулки и поездки, либо шли осматривать музеи, картинные галереи или общественные здания. Часто они отправлялись бродить по рабочим кварталам или вдоль железнодорожного полотна. Юджина больше всего привлекали сумрачные фигуры бедняков, и он особенно тяготел к темам, говорившим о заботе и нужде. Он зарисовывал не только танцовщицу из мюзик-холла и эффектные фигуры апашей в кварталах, которые впоследствии так и стали называться кварталами апашей, не только участников пикника где-нибудь в Версале или Сен-Клу и пароходных пассажиров на Сене, но и рабочих при выходе из фабричных ворот, железнодорожных сторожей у шлагбаумов, рыночных торговцев, рынки ночью, уличных подметальщиков, газетчиков, цветочниц – всегда на фоне какой-нибудь яркой, своеобразной уличной сцены. Наиболее любопытные уголки города – башни, мосты, виды реки, фасады – служили фоном для его типов, суровых, живописных или трогательных. Он надеялся этими вещами заинтересовать Америку, показать новой выставкой не только силу и многогранность своего таланта, но и то, насколько он вырос, насколько окрепло его чувство цвета, его искусство тонкой психологической характеристики, его вкус в композиции и деталировке. Он не отдавал себе отчета в том, что его усилия могут оказаться тщетными, что его невоздержание может обескровить его талант, убить все краски в окружающем мире, притупить воображение, парализовать волю раздражительностью, помешать успеху. Он не имел понятия о том, как сильно отражается половая жизнь на трудоспособности человека, какой вред может причинить самому талантливому художнику злоупотребление в этой области, – как под его влиянием искажается чувство цвета, ослабевает способность суждения о типическом, столь необходимая для правильного истолкования жизни, обрекаются на безнадежность все попытки чего-либо добиться, блекнут самые заветные цели и жизнь начинает казаться лишенной смысла, а смерть – избавлением.
Глава IX
Лето прошло, а вместе с ним свежесть и новизна парижских впечатлений, хотя нельзя сказать, чтобы Париж утратил для Юджина свое очарование. Своеобразие жизни незнакомого ему народа, другие, по сравнению с его собственной страной, идеалы и вкусы, более снисходительное и человечное отношение к вопросам нравственности, более спокойное приятие ударов судьбы, человеческих слабостей и классовых различий, не говоря уже о разнице во внешнем облике, в одежде, жилье и развлечениях, – все это в равной мере удивляло и занимало его. Он мог без устали изучать европейскую архитектуру, сравнивая ее с американской, он отмечал терпимость французов, ту легкость, с какою они относятся к жизни, выслушивал нескончаемые рассуждения Анджелы о любви французских хозяек к чистоте, об их трудолюбии и бережливости, радовался, что здесь не заметно присущей американцам потребности всегда что-то делать. Анджелу поражали исключительная дешевизна стирки белья и ловкость, с какой их консьержка (которая верховодила всем кварталом и достаточно знала английский язык, чтобы объясняться с жилицей-американкой) справлялась со своей работой: и провизию сама закупала, и готовила, и шила, и принимала гостей. Здесь не знали ни изобилия продуктов, ни бессмысленного расходования их, столь характерного для Америки. Анджела и сама была бережлива, поэтому она очень подружилась с мадам Бургош и училась у нее, как лучше навести экономию и порядок в хозяйстве.
– Странный ты человек, Анджела, – сказал ей однажды Юджин. – По-моему, тебе больше нравится сидеть внизу под лестницей и болтать с этой француженкой, чем бывать в обществе самых знаменитых художников и писателей. О чем ты можешь говорить с ней?
– Да ни о чем особенном, – ответила Анджела, от которой не укрылся легкий намек на отсутствие у нее интереса к искусству. – Просто она умная женщина. И к тому же очень практичная. У мадам Бургош за полчаса скорее научишься разным хитростям экономии, чем у любой американской хозяйки за всю жизнь. А интересует она меня не больше, чем другие. Твои художественные натуры, насколько я могла наблюдать, только и умеют, что без толку носиться повсюду и разыгрывать из себя бог весть кого, хотя на самом деле ничего собой не представляют.
Юджин услышал в ее словах обиду, вызванную его замечанием, которое было сделано не совсем в том духе, как она его восприняла.
– Я вовсе не хотел сказать, что у нее нет своих достоинств, – начал он оправдываться. – Для всего нужен талант, надо полагать. Мадам Бургош, несомненно, производит впечатление неглупой женщины. А где ее муж?
– Убит на войне, – с сокрушением ответила Анджела.
– Ну что ж, ты, наверно, столькому научишься у нее, что в Нью-Йорке сможешь управлять целым отелем. Мне кажется, ты и без мадам Бургош недурно справлялась с нашим хозяйством.
Юджин произнес этот комплимент с улыбкой. Ему хотелось отвлечь мысли Анджелы от искусства и художников. Он надеялся, что она почувствует или поймет, что он не хотел ее обидеть; но утихомирить ее было не так-то легко.
– Ты, очевидно, считаешь меня полным ничтожеством, Юджин, – сказала она немного погодя. – Почему ты с таким презрением говоришь о моих беседах с мадам Бургош? Она далеко не скучный человек. Это исключительно умная женщина. Ты ее не знаешь, ты никогда не разговаривал с ней. Она говорит, что ей достаточно было взглянуть на тебя и она сразу поняла, что ты совсем не такой, как другие. Ты напоминаешь ей какого-то мистера Дега, который когда-то жил здесь. Это правда был знаменитый художник, Юджин?
– Был ли Дега великий художник? – воскликнул Юджин. – Еще бы! И он занимал эту студию?
– Да, но только давно – лет пятнадцать назад.
Юджин просиял от удовольствия. Это был серьезный комплимент, и теперь уж он не мог не проникнуться симпатией к мадам Бургош. Она, несомненно, умница, иначе бы ей и в голову не пришло такое сравнение. Анджела, не в первый раз добившись от него признания, что ее домовитость и хозяйственные способности играют такую же важную роль в этом мире, как и всякие другие дарования, успокоилась и развеселилась. Как мало влияет на человеческую натуру искусство, окружающие условия, перемена климата или места, подумал Юджин. Вот он в Париже, он материально неплохо обеспечен, достиг славы или по крайней мере находится на пути к ней, а между тем они ссорятся с Анджелой из-за сущих пустяков, совсем как, бывало, дома, в Нью-Йорке, на Вашингтон-сквер.
К концу сентября большинство парижских этюдов Юджина было уже в таком состоянии, что он мог закончить их где угодно. Холстов пятнадцать были совсем готовы, другие близки к завершению. Юджин решил, что лето у него не пропало даром. Он много работал, и результат его трудов был налицо – двадцать шесть полотен, нисколько не уступавших, по его мнению, написанным в Нью-Йорке. Они отняли у него меньше времени, но это объяснялось тем, что он стал увереннее в себе, увереннее в своих методах работы. Он с большой неохотой расставался со всем, что нашел в Париже, но уезжал с мыслью, что серия его парижских этюдов произведет на американцев такое же впечатление, как и нью-йоркские. Мосье Аркен, например, и многие другие, включая знакомых, к которым направили его Диза и Дьюла, были в восторге от них. Мосье Аркен выразил даже мысль, что на некоторые нашлись бы покупатели и во Франции.
Юджин вернулся с Анджелой в Америку и, узнав, что может оставаться в старой студии до первого декабря, засел кончать работу к предстоящей выставке.
Первые признаки, по которым Юджин стал догадываться, что с ним происходит что-то неладное (не считая все возраставших опасений насчет того, как примет американская публика его парижские этюды), заявили о себе осенью, когда ему начало казаться – а может быть, это действительно было так, – что на него плохо действует кофе. Уже несколько лет, как он избавился от старого своего недуга – желудочных недомоганий, но теперь болезнь стала постепенно возвращаться, и он жаловался Анджеле, что его мутит после еды, а кофе определенно вызывает у него тошноту.
– Придется попробовать пить чай или что-нибудь другое, если это не прекратится, – сказал он.
Анджела предложила перейти на шоколад, и он так и сделал. Но результаты получились ничуть не лучше, если не хуже. У Юджина начались нелады с работой. Не в состоянии добиться желанного эффекта, Юджин переделывал картину снова и снова, пока она не утрачивала всякое сходство с первоначальным замыслом, – и впадал в отчаяние. А когда ему уже казалось, что он достиг нужного эффекта, утро возвращало его к прежним сомнениям.
– Ну вот, теперь получилось как будто хорошо, – обычно говорил он.
Анджела вздыхала с облегчением, так как вместе с ним переживала его тревоги, его вспышки отчаяния и неверия в свои силы, но радость ее обыкновенно длилась недолго. Спустя несколько часов Анджела обнаруживала, что он снова работает над тем же полотном и что-нибудь переделывает. Он похудел, побледнел, и его опасения насчет будущего вскоре приняли явно болезненный характер.
– Черт возьми! – сказал он однажды Анджеле. – Недоставало только, чтобы я слег. Меньше всего мне хочется сейчас болеть. Нужно как следует подготовиться к выставке, а потом ехать в Лондон. Стоит мне написать серию лондонских и чикагских видов вроде нью-йоркских, и репутация моя утвердится. Но если я свалюсь…
– Ну что ты, Юджин, – прервала его Анджела. – Тебе это только так кажется. Вспомни, как много ты работал этим летом, как много ты работал прошлой зимой. Тебе необходим хороший отдых, вот что тебе нужно. Почему бы в самом деле не сделать передышки, когда все будет готово к выставке, и не позволить себе как следует отдохнуть? Денег у нас на некоторое время хватит. Мосье Шарль, возможно, продаст еще несколько старых картин, да найдутся покупатели и на новые, и тогда ты можешь не торопиться. Зачем тебе ехать весною в Лондон? Лучше всего отправляйся куда-нибудь побродить, или поезжай на юг, или попросту поживи где-нибудь спокойно. Вот что тебе нужно.
Юджин смутно догадывался, что нуждается не столько в отдыхе, сколько в душевном покое. Он не чувствовал усталости. Только нервы были возбуждены и донимали всякие сомнения и страхи. Его терзала бессонница, мучили кошмары, стало пошаливать сердце. В два часа ночи, когда в силу непонятных для человека причин в его организме происходят какие-то внутренние потрясения, он просыпался с чувством, словно летит в бездну. Сердце едва билось, и он нервно хватался за пульс. Иногда его бросало в холодный пот, и, чтобы прийти в себя, он вставал с постели и начинал ходить по комнате. Анджела в таких случаях тоже вставала и ходила вместе с ним. Как-то днем, стоя перед мольбертом, он вдруг почувствовал странную слабость: яркие круги поплыли у него перед глазами, в ушах зашумело, казалось, что его колют десятки тысяч иголок. Что-то странное происходило с его нервной системой, как будто у него сдал каждый нерв. В первый момент им овладел ужас, он вообразил, что сходит с ума, но никому не сказал ни слова. Он понял, что причина его расстройства – невоздержание, что единственное для него лекарство – воздержанность, полная или хотя бы частичная, что он, по всей вероятности, так измотался и физически и нравственно, что ему будет трудно восстановить свои силы, что его дарование художника находится под серьезной угрозой и, следовательно, вся его жизнь может быть искалечена.
Он стоял перед холстом с кистью в руке, погруженный в раздумье. Когда припадок миновал, он дрожащей рукой отложил кисть. Потом подошел к окну, вытер лоб, покрытый холодной испариной, и повернулся к шкафу, чтобы достать пальто.
Юджин хохотал, слушая рассказы Диза о его затруднениях и удачах. Но теперь он убедился, что Диза был прав. Жестикуляция очень помогала, и его в большинстве случаев понимали.
Прожив несколько дней в отеле, Юджин и Анджела в конце концов сняли студию, которую рекомендовал им парижский представитель фирмы «Кельнер и сын» мосье Аркен. В студии этой, находившейся на третьем этаже и хорошо обставленной, жил американский художник Финли Вуд (Юджин вспомнил, что о нем когда-то упоминала Руби Кенни), на лето уезжавший из Парижа. Благодаря рекомендации мосье Шарля мосье Аркен приложил все старания устроить Юджина возможно удобнее, причем заявил, что платить он может по своему усмотрению, – скажем, франков сорок в месяц. Осмотрев студию, Юджин пришел в восторг. Она была расположена в глубине двора и окнами выходила в садик. Участок, на котором стоял дом, представлял собой небольшую возвышенность, отлого спускавшуюся к западу, и так как сплошная линия зданий в этом месте прерывалась, из окон открывался широкий вид на Париж, на силуэт Нотр-Дам и на устремленную ввысь Эйфелеву башню. Вечером, когда город загорался огнями, зрелище было волшебное. Возвратившись к себе, Юджин придвигал стул к своему любимому окну и наслаждался видом ночного Парижа, пока Анджела готовила чай с лимоном или со льдом или поджаривала что-нибудь на скорую руку. Она кормила Юджина традиционными американскими блюдами, вкладывая в это всю свою энергию и трудолюбие: сама ходила в ближайшие гастрономические магазины, овощные палатки, кондитерские, закупала нужные продукты в минимальных количествах, всегда выбирая все лучшее, и готовила с большой тщательностью. Анджела была отличной кулинаркой и любила, чтобы стол был красиво сервирован, чтобы все сверкало. Она не искала никаких знакомств, чувствуя себя вполне счастливой в обществе Юджина и считая, что и он должен быть так же счастлив с нею. У нее не было ни малейшего желания пойти куда-либо одной – она ходила в город только вместе с ним. Она подстерегала каждую его мысль, каждое движение, стараясь угадать малейшую его прихоть.
Главной прелестью Парижа в глазах Юджина были колоритность и богатство вкуса, проявлявшиеся во всем. Ему не надоедало смотреть на низкорослых французских солдат в широченных красных штанах, голубых мундирах и красных кепи, или на полицейских в плащах и с саблями, или на кучеров, с видом благодушного превосходства восседавших на козлах своих фиакров. Сена, по которой в это время года оживленно шныряли лодки, сад Тюильри с его мраморными статуями, аккуратными дорожками и каменными скамьями, Булонский лес, Марсово поле, Трокадеро, Лувр, изумительные парижские улицы и музеи – все это производило на Юджина впечатление чудесного сна.
– Да! – вырвалось у него однажды, когда он шел с Анджелой по набережной Сены в направлении Исси. – Для художника здесь поистине рай земной. Ты только вдохни, какой аромат, – аромат, кстати, исходил от видневшейся в отдалении парфюмерной фабрики, – взгляни на эту баржу! – Он прислонился к парапету. – Ах, как здесь хорошо! – вздохнул он.
Обратно они возвращались в сумерки на открытом империале омнибуса.
– После смерти я надеюсь попасть в Париж, – со вздохом сказал Юджин. – Лучшего рая мне не нужно.
Однако спустя некоторое время пребывание в Париже, как и всякое затянувшееся удовольствие, потеряло для него часть своей прелести. Юджин чувствовал, что он мог бы поселиться здесь, если бы позволила ему работа. Но сейчас ему необходимо было вернуться в Америку.
Вскоре Юджин стал замечать, что Анджела если не развилась духовно, то, во всяком случае, стала более уверенной в себе. Состояние робости, в котором она находилась в ту осень, когда впервые приехала в Нью-Йорк, и которое еще более усилилось, когда она окунулась в атмосферу искусства и очутилась среди странных друзей Юджина, уступило место уверенности, порожденной опытом. Убедившись, что Юджин всеми своими мыслями, чувствами и интересами живет в мире возвышенного, что его внимание всецело поглощают уличные толпы, типы людей, бульвары, здания и их силуэты на фоне неба, смешное и трогательное в жизни, – она целиком взяла на себя все дела хозяйственного порядка. Очень скоро ей стало ясно, что Юджин рад предоставить все заботы о своем благополучии кому угодно, лишь бы нашелся такой человек. Ему не доставляло ни малейшего удовольствия покупать что-нибудь для себя. Он терпеть не мог всякие домашние мелочи. Доставать билеты, искать что-нибудь в железнодорожном указателе, наводить справки, вступать в пререкания и что-то кому-то доказывать – все это вызывало у него чувство отвращения.
– Послушай, Анджела, ты сама достанешь билеты, правда? – говорил он умоляющим голосом.
Или же:
– Поговори уж ты с ним. Мне сейчас некогда. Хорошо?
Анджела спешила выполнить поручение, в чем бы оно ни заключалось, стремясь доказать, что она действительно полезна и необходима ему. Забравшись на крышу омнибуса, Юджин, как бывало в Нью-Йорке, все рисовал, рисовал и рисовал, – кебы, фиакры, пассажирские пароходики на Сене, характерные фигуры и лица в парках, садах, мюзик-холлах – словом, все, что ни попадалось на глаза. Он был неутомим. Он хотел только одного – чтобы его не слишком беспокоили, чтобы ему не мешали заниматься своим делом. Обыкновенно та же Анджела и расплачивалась всюду, где им приходилось побывать за день. Его бумажник был у нее, она распоряжалась всеми чеками, в которые они превратили свою наличность, вела строгую запись расходов, ходила по магазинам, покупала и платила. Юджину предоставлялась полная возможность смотреть, на что ему угодно, и думать о чем угодно. В этот первый период их брака Анджела возвела его на пьедестал, и Юджин не прочь был восседать на нем, скрестив ноги, как индийский божок.
Только по ночам, когда его внимание не отвлекали посторонние звуки и впечатления, когда даже его искусство не стояло между ними преградой, когда она могла сжимать его в своих объятиях и его неугомонный дух смирялся под пьянящим действием ее страсти, – лишь тогда она чувствовала себя равной ему, действительно достойной его.
Восторги, которыми они упивались во тьме или при мягком свете небольшого ночника, свисавшего на цепях с потолка над их широкой кроватью, или при свете зари, когда утренняя свежесть вливалась в окна вместе с щебетанием птиц, гнездившихся на единственном дереве их крошечного садика, – были с ее стороны проявлением и безоглядной щедрости, и бездонного эгоизма. Она жадно впитала философию Юджина о наслаждении радостями жизни, поскольку это касалось их самих, и тем охотнее восприняла его взгляды, что они совпадали с ее собственными смутными воззрениями и пылкими порывами.
Анджела взошла на брачный алтарь после многих лет самоотречения, после многих лет, проведенных в горьких сомнениях и тоске по замужеству, которое могло и вовсе миновать ее, и принесла с собою на брачное ложе всю накопившуюся у нее бурную страсть. Она была незнакома с этикой и физиологией брака (если не считать того, что позволялось ей, девственнице, знать). Рассказы приятельниц о вещах, которые они и сами знали лишь понаслышке, двусмысленные признания замужних подруг, советы старшей сестры (в каких выражениях они были преподаны – одному богу известно!) – все это нисколько не рассеяло невежества Анджелы. Поэтому сейчас, позабыв обо всем на свете, она с упоением познавала тайны брака, убежденная, что необузданное удовлетворение страсти – явление вполне естественное. Это было к тому же, как она постепенно обнаружила, универсальным средством против всяких расхождений во взглядах и характере, грозивших их душевному покою. С первых же дней их совместной жизни в студии на Вашингтон-сквер и особенно теперь, в Париже, они предавались нескончаемой оргии страсти, хотя это ни в коем случае не было потребностью их натур и еще меньше соответствовало тем требованиям, которые предъявляли Юджину его труд и творчество.
Для Юджина Анджела была источником изумления и радости, и не столько, пожалуй, радости, сколько изумления. Она была, в известном смысле, элементарна. Юджин – нет. Он и в этом оставался художником, как и во всем другом, и пребывал неизменно в таком состоянии восторженности, которое физические силы, надорванные напряженной работой мозга, не могли питать без конца. Волнующая радость неизведанного, романтика приключения или, если хотите, интриги, раскрытие всего, что таится в женщине, – вот, в сущности, что составляло главную прелесть его романов или даже стимул, толкавший его на романы. Одержать победу над женщиной – прекрасно, но если вдуматься, то это борьба, в которую прежде всего вовлечен интеллект. Осуществить свои мечтания, добиться того, чтобы желанная женщина отдала себя всю целиком, – вот что неизменно увлекало в нем и чувство и воображение.
Но все это напоминало головокружительную пропасть, над которой протянуты тончайшие серебряные нити, – и он знал красоту этой пропасти, но опасностей ее не подозревал. Он наслаждался плотской радостью, которую давала ему Анджела. Это было то, чего, как ему казалось, он сам хотел. Анджела же видела в своей способности удовлетворять его неистощимую как будто страсть не только выражение любви к нему, но и свой долг.
Установив свой мольберт в новой студии, Юджин работал иногда с десяти утра до двенадцати, иногда с двух до пяти. В пасмурные дни они с Анджелой либо предпринимали всевозможные прогулки и поездки, либо шли осматривать музеи, картинные галереи или общественные здания. Часто они отправлялись бродить по рабочим кварталам или вдоль железнодорожного полотна. Юджина больше всего привлекали сумрачные фигуры бедняков, и он особенно тяготел к темам, говорившим о заботе и нужде. Он зарисовывал не только танцовщицу из мюзик-холла и эффектные фигуры апашей в кварталах, которые впоследствии так и стали называться кварталами апашей, не только участников пикника где-нибудь в Версале или Сен-Клу и пароходных пассажиров на Сене, но и рабочих при выходе из фабричных ворот, железнодорожных сторожей у шлагбаумов, рыночных торговцев, рынки ночью, уличных подметальщиков, газетчиков, цветочниц – всегда на фоне какой-нибудь яркой, своеобразной уличной сцены. Наиболее любопытные уголки города – башни, мосты, виды реки, фасады – служили фоном для его типов, суровых, живописных или трогательных. Он надеялся этими вещами заинтересовать Америку, показать новой выставкой не только силу и многогранность своего таланта, но и то, насколько он вырос, насколько окрепло его чувство цвета, его искусство тонкой психологической характеристики, его вкус в композиции и деталировке. Он не отдавал себе отчета в том, что его усилия могут оказаться тщетными, что его невоздержание может обескровить его талант, убить все краски в окружающем мире, притупить воображение, парализовать волю раздражительностью, помешать успеху. Он не имел понятия о том, как сильно отражается половая жизнь на трудоспособности человека, какой вред может причинить самому талантливому художнику злоупотребление в этой области, – как под его влиянием искажается чувство цвета, ослабевает способность суждения о типическом, столь необходимая для правильного истолкования жизни, обрекаются на безнадежность все попытки чего-либо добиться, блекнут самые заветные цели и жизнь начинает казаться лишенной смысла, а смерть – избавлением.
Глава IX
Лето прошло, а вместе с ним свежесть и новизна парижских впечатлений, хотя нельзя сказать, чтобы Париж утратил для Юджина свое очарование. Своеобразие жизни незнакомого ему народа, другие, по сравнению с его собственной страной, идеалы и вкусы, более снисходительное и человечное отношение к вопросам нравственности, более спокойное приятие ударов судьбы, человеческих слабостей и классовых различий, не говоря уже о разнице во внешнем облике, в одежде, жилье и развлечениях, – все это в равной мере удивляло и занимало его. Он мог без устали изучать европейскую архитектуру, сравнивая ее с американской, он отмечал терпимость французов, ту легкость, с какою они относятся к жизни, выслушивал нескончаемые рассуждения Анджелы о любви французских хозяек к чистоте, об их трудолюбии и бережливости, радовался, что здесь не заметно присущей американцам потребности всегда что-то делать. Анджелу поражали исключительная дешевизна стирки белья и ловкость, с какой их консьержка (которая верховодила всем кварталом и достаточно знала английский язык, чтобы объясняться с жилицей-американкой) справлялась со своей работой: и провизию сама закупала, и готовила, и шила, и принимала гостей. Здесь не знали ни изобилия продуктов, ни бессмысленного расходования их, столь характерного для Америки. Анджела и сама была бережлива, поэтому она очень подружилась с мадам Бургош и училась у нее, как лучше навести экономию и порядок в хозяйстве.
– Странный ты человек, Анджела, – сказал ей однажды Юджин. – По-моему, тебе больше нравится сидеть внизу под лестницей и болтать с этой француженкой, чем бывать в обществе самых знаменитых художников и писателей. О чем ты можешь говорить с ней?
– Да ни о чем особенном, – ответила Анджела, от которой не укрылся легкий намек на отсутствие у нее интереса к искусству. – Просто она умная женщина. И к тому же очень практичная. У мадам Бургош за полчаса скорее научишься разным хитростям экономии, чем у любой американской хозяйки за всю жизнь. А интересует она меня не больше, чем другие. Твои художественные натуры, насколько я могла наблюдать, только и умеют, что без толку носиться повсюду и разыгрывать из себя бог весть кого, хотя на самом деле ничего собой не представляют.
Юджин услышал в ее словах обиду, вызванную его замечанием, которое было сделано не совсем в том духе, как она его восприняла.
– Я вовсе не хотел сказать, что у нее нет своих достоинств, – начал он оправдываться. – Для всего нужен талант, надо полагать. Мадам Бургош, несомненно, производит впечатление неглупой женщины. А где ее муж?
– Убит на войне, – с сокрушением ответила Анджела.
– Ну что ж, ты, наверно, столькому научишься у нее, что в Нью-Йорке сможешь управлять целым отелем. Мне кажется, ты и без мадам Бургош недурно справлялась с нашим хозяйством.
Юджин произнес этот комплимент с улыбкой. Ему хотелось отвлечь мысли Анджелы от искусства и художников. Он надеялся, что она почувствует или поймет, что он не хотел ее обидеть; но утихомирить ее было не так-то легко.
– Ты, очевидно, считаешь меня полным ничтожеством, Юджин, – сказала она немного погодя. – Почему ты с таким презрением говоришь о моих беседах с мадам Бургош? Она далеко не скучный человек. Это исключительно умная женщина. Ты ее не знаешь, ты никогда не разговаривал с ней. Она говорит, что ей достаточно было взглянуть на тебя и она сразу поняла, что ты совсем не такой, как другие. Ты напоминаешь ей какого-то мистера Дега, который когда-то жил здесь. Это правда был знаменитый художник, Юджин?
– Был ли Дега великий художник? – воскликнул Юджин. – Еще бы! И он занимал эту студию?
– Да, но только давно – лет пятнадцать назад.
Юджин просиял от удовольствия. Это был серьезный комплимент, и теперь уж он не мог не проникнуться симпатией к мадам Бургош. Она, несомненно, умница, иначе бы ей и в голову не пришло такое сравнение. Анджела, не в первый раз добившись от него признания, что ее домовитость и хозяйственные способности играют такую же важную роль в этом мире, как и всякие другие дарования, успокоилась и развеселилась. Как мало влияет на человеческую натуру искусство, окружающие условия, перемена климата или места, подумал Юджин. Вот он в Париже, он материально неплохо обеспечен, достиг славы или по крайней мере находится на пути к ней, а между тем они ссорятся с Анджелой из-за сущих пустяков, совсем как, бывало, дома, в Нью-Йорке, на Вашингтон-сквер.
К концу сентября большинство парижских этюдов Юджина было уже в таком состоянии, что он мог закончить их где угодно. Холстов пятнадцать были совсем готовы, другие близки к завершению. Юджин решил, что лето у него не пропало даром. Он много работал, и результат его трудов был налицо – двадцать шесть полотен, нисколько не уступавших, по его мнению, написанным в Нью-Йорке. Они отняли у него меньше времени, но это объяснялось тем, что он стал увереннее в себе, увереннее в своих методах работы. Он с большой неохотой расставался со всем, что нашел в Париже, но уезжал с мыслью, что серия его парижских этюдов произведет на американцев такое же впечатление, как и нью-йоркские. Мосье Аркен, например, и многие другие, включая знакомых, к которым направили его Диза и Дьюла, были в восторге от них. Мосье Аркен выразил даже мысль, что на некоторые нашлись бы покупатели и во Франции.
Юджин вернулся с Анджелой в Америку и, узнав, что может оставаться в старой студии до первого декабря, засел кончать работу к предстоящей выставке.
Первые признаки, по которым Юджин стал догадываться, что с ним происходит что-то неладное (не считая все возраставших опасений насчет того, как примет американская публика его парижские этюды), заявили о себе осенью, когда ему начало казаться – а может быть, это действительно было так, – что на него плохо действует кофе. Уже несколько лет, как он избавился от старого своего недуга – желудочных недомоганий, но теперь болезнь стала постепенно возвращаться, и он жаловался Анджеле, что его мутит после еды, а кофе определенно вызывает у него тошноту.
– Придется попробовать пить чай или что-нибудь другое, если это не прекратится, – сказал он.
Анджела предложила перейти на шоколад, и он так и сделал. Но результаты получились ничуть не лучше, если не хуже. У Юджина начались нелады с работой. Не в состоянии добиться желанного эффекта, Юджин переделывал картину снова и снова, пока она не утрачивала всякое сходство с первоначальным замыслом, – и впадал в отчаяние. А когда ему уже казалось, что он достиг нужного эффекта, утро возвращало его к прежним сомнениям.
– Ну вот, теперь получилось как будто хорошо, – обычно говорил он.
Анджела вздыхала с облегчением, так как вместе с ним переживала его тревоги, его вспышки отчаяния и неверия в свои силы, но радость ее обыкновенно длилась недолго. Спустя несколько часов Анджела обнаруживала, что он снова работает над тем же полотном и что-нибудь переделывает. Он похудел, побледнел, и его опасения насчет будущего вскоре приняли явно болезненный характер.
– Черт возьми! – сказал он однажды Анджеле. – Недоставало только, чтобы я слег. Меньше всего мне хочется сейчас болеть. Нужно как следует подготовиться к выставке, а потом ехать в Лондон. Стоит мне написать серию лондонских и чикагских видов вроде нью-йоркских, и репутация моя утвердится. Но если я свалюсь…
– Ну что ты, Юджин, – прервала его Анджела. – Тебе это только так кажется. Вспомни, как много ты работал этим летом, как много ты работал прошлой зимой. Тебе необходим хороший отдых, вот что тебе нужно. Почему бы в самом деле не сделать передышки, когда все будет готово к выставке, и не позволить себе как следует отдохнуть? Денег у нас на некоторое время хватит. Мосье Шарль, возможно, продаст еще несколько старых картин, да найдутся покупатели и на новые, и тогда ты можешь не торопиться. Зачем тебе ехать весною в Лондон? Лучше всего отправляйся куда-нибудь побродить, или поезжай на юг, или попросту поживи где-нибудь спокойно. Вот что тебе нужно.
Юджин смутно догадывался, что нуждается не столько в отдыхе, сколько в душевном покое. Он не чувствовал усталости. Только нервы были возбуждены и донимали всякие сомнения и страхи. Его терзала бессонница, мучили кошмары, стало пошаливать сердце. В два часа ночи, когда в силу непонятных для человека причин в его организме происходят какие-то внутренние потрясения, он просыпался с чувством, словно летит в бездну. Сердце едва билось, и он нервно хватался за пульс. Иногда его бросало в холодный пот, и, чтобы прийти в себя, он вставал с постели и начинал ходить по комнате. Анджела в таких случаях тоже вставала и ходила вместе с ним. Как-то днем, стоя перед мольбертом, он вдруг почувствовал странную слабость: яркие круги поплыли у него перед глазами, в ушах зашумело, казалось, что его колют десятки тысяч иголок. Что-то странное происходило с его нервной системой, как будто у него сдал каждый нерв. В первый момент им овладел ужас, он вообразил, что сходит с ума, но никому не сказал ни слова. Он понял, что причина его расстройства – невоздержание, что единственное для него лекарство – воздержанность, полная или хотя бы частичная, что он, по всей вероятности, так измотался и физически и нравственно, что ему будет трудно восстановить свои силы, что его дарование художника находится под серьезной угрозой и, следовательно, вся его жизнь может быть искалечена.
Он стоял перед холстом с кистью в руке, погруженный в раздумье. Когда припадок миновал, он дрожащей рукой отложил кисть. Потом подошел к окну, вытер лоб, покрытый холодной испариной, и повернулся к шкафу, чтобы достать пальто.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: