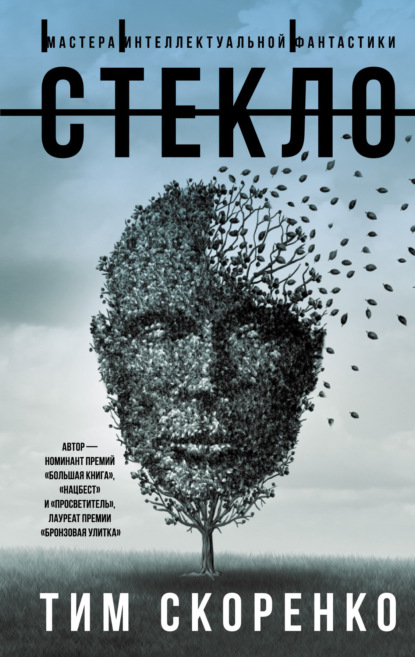По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Стекло
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он сделал шаг вперёд. Телохранители Хана напряглись. Он улыбнулся. Хан нахмурился. Он сказал, ты же знаешь, Хан, знаешь. Я же могу убить и тебя, и всех этих твоих парней, просто голыми руками, мне ничего для этого не надо. Я даже не вспотею. Я знаю, ответил Хан, но тогда тебе придётся уйти из города, и ты никогда не выйдешь на Патера. Это хороший аргумент, сказал он, но у меня есть другой. Если ты ничего мне не скажешь, то мне неважно, жив ты или мёртв. Вообще без разницы. Из города я уйду, не впервой, а ты будешь мёртв. Два телохранителя сзади него сделали по три шага. Он развернулся и посмотрел поочерёдно на одного и другого.
Не надо, сказал Хан. Ладно. Уговорил, дипломат хренов. Я дам тебе номер. Ты позвонишь по нему завтра. Я подчёркиваю: завтра утром. Тебе ответит человек по имени Саваоф. А дальше – как знаешь. Можешь назначить ему встречу, можешь сказать, что хочешь его убить. А кто этот Саваоф? Он? Нет, это его помощник. Его самого видят только приближённые, а Саваоф общается с посторонними. Тихий такой, странный. А почему не сегодня? Потому что сегодня день рождения моей дочери, и я не хочу, чтобы мой вечер испортили разборки. Хорошо. Передавай дочери привет. Ей два года, ей не нужен привет от такого, как ты. Как знаешь. И он вышел.
В тот вечер он читал ей Роберта Отфрида. Что тебе почитать, спросил он, и она сказала: Отфрида, и он нашёл в Сети сборник «Север и север» и читал его подряд, последовательно, не пропуская ни одного стихотворения. Она слушала молча, не обращала внимания на то, что он сбивался, путал местами строки, глотал окончания. Он старался, и это было ей приятно. Потом она прервала его и спросила: нашёл? Да, ответил он, ты знаешь Саваофа? Нет, ответила она, не знаю. Говорят, это его правая рука. У него нет правой руки. Не в том смысле, что он однорук, а в том, что он никого к себе не подпускает. Тебя же подпустил. Она замолчала. Потом сказала: не подпустил. Я же говорила – я видела его всего однажды. Он возразил: может, он изменился. Боги не меняются. Почему все называют его богом? Ты уже спрашивал.
Утром он вышел на улицу и набрал Саваофа. Тот не ответил. Он прошёлся по улице вперёд и назад. Он поймал себя на том, что волновался, хотя он не волновался уже много лет. Он умел отключать эмоциональное восприятие, он умел убивать, не думая о том, что отнимаешь жизнь, он мог убить ребёнка или старика, ему было неважно, он не испугался, даже когда перед ним встала целая армия. Это было много лет назад, он убил человека, которого охраняли три тысячи бойцов, пробравшись на балкон его виллы по стене. Он поймал момент, когда тот вышел покурить, и сломал ему шею. Он уже надеялся уйти тихо, как и вошёл, но кто-то заметил тело и поднял тревогу. Он спустился по чёрной лестнице и вышел в парк, но там его уже ждали. Путь назад был отрезан, и ему оставалось только пройти через несколько сотен бойцов, чтобы оказаться снаружи, сесть в свой автомобиль и уехать. И он прошёл. В нём не было ни капли страха, ни капли волнения, он шёл через них, как будто собирал детали на конвейере или мыл посуду. Он стрелял, резал, колол и бил, прыгал, увёртывался и пригибался, он был вихрем, смерчем, торнадо, ураганом, чудовищем, квинтэссенцией зла. На эти пятнадцать минут Харону стоило сменить ялик на круизный лайнер.
А теперь он волновался – перед обычным звонком какой-то шестёрке. Впервые за тридцать лет, кажется. Он даже не помнил, каково это – волноваться. Прогулявшись, он немного успокоился и набрал номер ещё раз. Несколько гудков спустя ответил спокойный мужской голос. Слушаю. Я хочу встретиться с Патером, сказал он. Зачем? Хочу купить Стекло. Патер не продаёт Стекло. А Хану продал. Саваоф на некоторое время замолчал. Ты от Хана? Да. Он за тебя поручится? Да. Хорошо. Что хорошо? На том конце усмехнулись. Всё хорошо, сказал Саваоф и внезапно назвал его настоящее имя – то, которое нельзя было произносить никогда. Откуда вы знаете, спросил он. А почему бы мне и не знать? Он встретится со мной или нет? Да, встретится. Когда и где? Сегодня вечером. Приходи к перекрёстку у таверны. У какой таверны. Ты знаешь, у какой. Он знал.
Не ходи, сказала она. Ты не знаешь, куда я иду. Я знаю. Он же не подпустил тебя к себе. Нет, не подпустил. Но это неважно. Я всё равно знаю, куда ты идёшь. Ты идешь на смерть. Я всегда иду на смерть. Нет. Обычно ты идёшь на смерть, зная, что останешься жив. Я и сейчас знаю. Не, не знаешь. Она была права – он не знал, останется ли он жив, потому что он погружался в непонятное. Что будет со мной, если ты не вернёшься? С тобой всё будет хорошо. Старуха поставит тебя на ноги – ей заплачено за полгода вперёд. И я скажу, где спрятаны ещё деньги. Я не про это. А про что? За всю мою жизнь всего двое были ко мне добры, и тот, второй, ушёл навсегда. И теперь я теряю ещё и тебя. Он присмотрелся к её лицу. Отёки уже спали, глаз открылся, лицо постепенно становилось человеческим, и через былую маску проглядывала ещё более былая красота.
Он подошёл, присел рядом с кроватью. Понимаешь, сказал он, никто не знает, что ты здесь. На самом деле тебя убили в тот день. Забили до смерти. Тебя никто не узнает, никто не поймёт, что ты существуешь. Ты просто возьмёшь деньги и уедешь в другой город. И начнёшь новую жизнь. Придумаешь другое имя. Вставишь зубы. Найдёшь мужчину. Есть я или нет – неважно. Я просто проходил мимо. Точнее, прохожу сейчас, очень медленно. А потом пройду и исчезну за углом, и ты забудешь моё лицо.
Как тебя зовут, спросила она. Это неважно, сказал он. Меня давно никак не зовут. Я ведь не спрашиваю твоё имя. Почему не спрашиваешь? Оно мне неинтересно, как тебе не должно быть интересно моё. А если я скажу тебе его? Не говори. А всё-таки? Он понял внезапно, что это игра. В её глазах появился блеск. Я постараюсь его забыть. А сможешь? Смогу. Люди не умеют забывать по желанию. Я умею. Я забыл имя отца и имя матери, я забыл имя сестры и имя брата. Я забыл имя своего сына и женщины, которая родила его. Зачем ты их забыл? Потому что они мертвы. Нет, она покачала головой на подушке – и у неё получилось это движение, хотя она и поморщилась от боли. Ты путаешь причину и следствие. Не ты забыл их имена, потому что они мертвы, а они мертвы, потому что ты забыл их имена. Поэтому сейчас я скажу тебе своё имя, и ты его не забудешь никогда. Сколько бы ты ни прожил. Сколько бы ни прожила я. Обещаешь?
Он сидел подле неё и не знал правильного ответа. Может, и не было никакого правильного ответа. Говори, сказал он. Не забудешь? Нет. Точно? Да. Если я не хочу забывать, я не забуду.
Алярин, сказала она, меня зовут Алярин. Я была шлюхой с проспекта Шлюх, пока не встретила его. Он позвал меня, и я пошла за ним. Я омывала его ноги своими слезами и вытирала их своими волосами. Не ври, сказал он. Она усмехнулась уголком рта. Да, ты прав. Я просто сосала его член, вот и всё. Верю, сказал он. Извини, сказала она. Ты извини, покачал головой он. А потом он встал и вышел из комнаты. Потом вернулся, встал в дверях и повторил: Алярин. Да, я запомнил, тебя зовут Алярин. И ушёл снова.
Он пришёл к таверне, когда стемнело. Снаружи не было даже вывески, но он знал – это та самая таверна. Он забыл имя матери, но он не забыл место, где родился и вырос. Он жил здесь, на третьем этаже, и окно его комнаты выходило на помойный двор. Он помнил пьяные рожи завсегдатаев кабака, он помнил роющихся в мусоре бездомных, он помнил яркое покрывало в клетку, под которым спал, помнил, как бегал за голубями на плоской крыше дома. Но он никак не мог вспомнить тех, кто жил вместе с ним, – мать, отчима, сестру, брата, не мог вспомнить их лиц, их имён. Если он забывал, то это было навсегда.
Он вошёл в кабак, тот пустовал, только за стойкой протирала стаканы дородная тётка в цветастом переднике. Он подошёл к ней и сказал: меня должны тут ждать. Она показала движением головы: туда, в заднюю комнату. Он пошёл. На третий, сказала она вслед. Он поднялся по лестнице – он помнил, как поднимался по ней ежедневно, помнил её скрипучие ступени, ничуть не изменившиеся за тридцать с лишним лет. В коридоре третьего этажа была открыта только одна дверь – та самая, в которую он входил сотни раз, и вошёл снова.
В детстве комната казалась ему больше. На деле она была крошечной, и он никак не мог понять, как они умещались в такой тесноте втроём. Внутри никого не было, и он подошёл к окну. Помойка была всё там же, внизу. В одном из контейнеров копался бездомный.
Он почувствовал движение позади и развернулся. У двери стоял среднего роста человек с бесцветными чертами лица и холодным взглядом. Приятно познакомиться, Саваоф, и человек протянул руку.
4. Буря
Проводник остановился внезапно. Раньше он делал иначе – говорил: «внимание, остановка», а потом постепенно замедлялся, чтобы идущий следом Энди в него не врезался. Дело не в плохой видимости – просто, когда шагаешь много часов подряд по белой равнине, чувства притупляются. Перестаёшь замечать окружающий мир. Сперва теряешь линию горизонта, затем – землю под ногами, а потом обнаруживаешь, что нет больше ничего, даже идущих рядом людей. Бредёшь по белому мареву, будто по гигантской камере депривации. Ты можешь думать о чём угодно – вспоминать результаты скачек, мечтать о площадных девках, ты можешь петь вслух, а можешь – закрыть глаза и заснуть, не прекращая движения.
Если кто-то перед тобой резко остановится, ты в него врежешься.
Энди толкнул Проводника, ему в спину врезался Шимон, а в Шимонову – Фил. Ещё немного, и мы бы попадали, как костяшки домино. Но Проводник устоял, и устояли все мы, идущие следом.
«Что там?» – спросил Фил.
«Буря», – ответил Проводник.
«И что делать?»
Проводник огляделся. Бесконечная белая равнина, только слева по ходу движения – едва заметное затемнение неба.
«Через бурю не пройдём, костюмы не выдержат. Нужен схрон».
«Копать?» – спросил Баба.
Я огляделся. Наст под ногами был таким плотным, что в него и на полметра не углубишься.
«Нет», – сказал Проводник.
Он осмотрелся, будто искал какой-то знак, начертанный на снегу.
«Не надо копать», – сказал он.
Потом сделал несколько шагов в сторону, остановился, замер. И ещё несколько шагов. И ещё. Свернул налево. Нагнулся, приложил к земле руку. Встал на колени. Взмахом ладони подозвал нас поближе. Мы обступили его со всех сторон.
«Барт, – сказал Проводник, – давай тепловую пушку».
Да, эта штука в моей поклаже. Она сборная, потому что это не оружие, а устройство для фокусировки тепловой энергии. В ней такой же портативный реактор, как в палатке.
Я сбросил рюкзак с плеч, и мы начали собирать пушку.
Буря приближалась – мне казалось, что я уже различаю её воронку, хотя, возможно, я просто фантазировал. Откуда мне знать, какой формы снежная буря тут, на севере, – я никогда не видел её даже на картинках. Мне представлялся кинематографический смерч, в центре которого – зияющая тишина и пятнышко голубого неба, глядящее сверху. Много лет назад мы с матерью поехали на Лагонские высоты с экскурсией. Погода стояла ужасная, и на экскурсию не явился никто, кроме нас. Но водитель был честным – и поехал даже с двумя пассажирами. Несколько раз нас чуть не снесло пустынным ветром, а когда мы остановились на заправке, в машину врезался прилетевший откуда-то мусорный бак. Но мне не было страшно. Наоборот, я ощущал воодушевление – мальчишка в центре урагана, герой, которому есть что рассказать дворовым девчонкам.
Потом ветер внезапно прекратился, и водитель остановил микроавтобус прямо на дороге. Выходите, сказал он, посмотрите наверх. Там, над нами, среди тёмного неба, среди чудовищных туч, зияло око шторма, крошечный клочок тишины и спокойствия, вклинившийся в стихию. Не было ни ветерка, ни единая травинка не шевелилась. Он смотрит на нас, сказала мать, это его зрачок.
А через неделю началась война, и путь в герои стал совсем другим.
Пушку собрали. Она была достаточно громоздкой, но её не нужно было держать горизонтально. Проводник обнял пушку, направив её дулом вниз, широко расставил ноги и нажал на активатор. Снег под пушкой начал таять.
Сперва он таял медленно, затем чуть быстрее, а под конец ухнул куда-то в пустоту – так, что Проводник чуть не свалился следом. Его придержал Баба.
«Что там?» – спросил кто-то.
«Схрон».
Нам потребовалось ещё полтора часа, чтобы протопить в насте лаз достаточной ширины. Потом мы укрепили в насте зацеп и спустились – в том же порядке, в каком шли. Я был седьмым.
Внизу нас ждала большая пещера с неровными стенками и потолком – никаких припасов, никакой мебели, ничего. Места хватало всем, ещё и оставалось. Куда-то в сторону из пещеры уходил то ли лаз, то ли коридор, широкий и высокий, выше человеческого роста. Немой вопрос повис в воздухе.
«Это олений», – сказал Проводник.
Моё восприятие перевернулось. Так происходит, когда ты находишь у воды куриного бога. Сначала тебе кажется, что это рукотворный камень, что кто-то высверлил в нём отверстие, чтобы продеть бечеву и повесить на шею. И ты начинаешь прикидывать, как он это сделал, как добился таких ровных кромок, чем сверлил, чем шлифовал.
А потом тебе говорят, что это вода. Вода сверлила этот камень в течение двух тысяч лет, полировала песком. Человек тут вовсе ни при чём. И картинка сразу меняется. Исчезает таинственный мастер-камнерез, слышится журчание ручья, и где-то там, на дне, среди прозрачных струй, осколок скалы превращается в оберег.
Я увидел отпечатки оленьих копыт на дне пещеры, оставленные на стенах рогами разводы, представил их самих – удивительных животных, способных выживать в бесконечной зиме и не знающих воды в иной, нежели снег, форме.
«Как ты узнал?» – спросил Яшка.
Проводник опустил взгляд.
«Ставьте палатку», – сказал он, и это прозвучало как ответ.
Помещение было достаточно большим, чтобы поставить палатку в стороне от нашего «колодца». Цифра предложил его запечатать, но Проводник ответил, что не стоит. «Его всё равно запечатает бурей», – сказал он. Зацеп с верёвкой мы оставили – вдруг он переживёт бурю, проще будет подняться.
Мы разложили вещи у стен пещеры. Странно было находиться в замкнутом помещении после стольких ночёвок на снежной равнине. «Тут можно снять маску?» – спросил Баба. «Нет», – ответил Проводник. Поэтому мы всё равно набились в обогреваемую палатку.
Не надо, сказал Хан. Ладно. Уговорил, дипломат хренов. Я дам тебе номер. Ты позвонишь по нему завтра. Я подчёркиваю: завтра утром. Тебе ответит человек по имени Саваоф. А дальше – как знаешь. Можешь назначить ему встречу, можешь сказать, что хочешь его убить. А кто этот Саваоф? Он? Нет, это его помощник. Его самого видят только приближённые, а Саваоф общается с посторонними. Тихий такой, странный. А почему не сегодня? Потому что сегодня день рождения моей дочери, и я не хочу, чтобы мой вечер испортили разборки. Хорошо. Передавай дочери привет. Ей два года, ей не нужен привет от такого, как ты. Как знаешь. И он вышел.
В тот вечер он читал ей Роберта Отфрида. Что тебе почитать, спросил он, и она сказала: Отфрида, и он нашёл в Сети сборник «Север и север» и читал его подряд, последовательно, не пропуская ни одного стихотворения. Она слушала молча, не обращала внимания на то, что он сбивался, путал местами строки, глотал окончания. Он старался, и это было ей приятно. Потом она прервала его и спросила: нашёл? Да, ответил он, ты знаешь Саваофа? Нет, ответила она, не знаю. Говорят, это его правая рука. У него нет правой руки. Не в том смысле, что он однорук, а в том, что он никого к себе не подпускает. Тебя же подпустил. Она замолчала. Потом сказала: не подпустил. Я же говорила – я видела его всего однажды. Он возразил: может, он изменился. Боги не меняются. Почему все называют его богом? Ты уже спрашивал.
Утром он вышел на улицу и набрал Саваофа. Тот не ответил. Он прошёлся по улице вперёд и назад. Он поймал себя на том, что волновался, хотя он не волновался уже много лет. Он умел отключать эмоциональное восприятие, он умел убивать, не думая о том, что отнимаешь жизнь, он мог убить ребёнка или старика, ему было неважно, он не испугался, даже когда перед ним встала целая армия. Это было много лет назад, он убил человека, которого охраняли три тысячи бойцов, пробравшись на балкон его виллы по стене. Он поймал момент, когда тот вышел покурить, и сломал ему шею. Он уже надеялся уйти тихо, как и вошёл, но кто-то заметил тело и поднял тревогу. Он спустился по чёрной лестнице и вышел в парк, но там его уже ждали. Путь назад был отрезан, и ему оставалось только пройти через несколько сотен бойцов, чтобы оказаться снаружи, сесть в свой автомобиль и уехать. И он прошёл. В нём не было ни капли страха, ни капли волнения, он шёл через них, как будто собирал детали на конвейере или мыл посуду. Он стрелял, резал, колол и бил, прыгал, увёртывался и пригибался, он был вихрем, смерчем, торнадо, ураганом, чудовищем, квинтэссенцией зла. На эти пятнадцать минут Харону стоило сменить ялик на круизный лайнер.
А теперь он волновался – перед обычным звонком какой-то шестёрке. Впервые за тридцать лет, кажется. Он даже не помнил, каково это – волноваться. Прогулявшись, он немного успокоился и набрал номер ещё раз. Несколько гудков спустя ответил спокойный мужской голос. Слушаю. Я хочу встретиться с Патером, сказал он. Зачем? Хочу купить Стекло. Патер не продаёт Стекло. А Хану продал. Саваоф на некоторое время замолчал. Ты от Хана? Да. Он за тебя поручится? Да. Хорошо. Что хорошо? На том конце усмехнулись. Всё хорошо, сказал Саваоф и внезапно назвал его настоящее имя – то, которое нельзя было произносить никогда. Откуда вы знаете, спросил он. А почему бы мне и не знать? Он встретится со мной или нет? Да, встретится. Когда и где? Сегодня вечером. Приходи к перекрёстку у таверны. У какой таверны. Ты знаешь, у какой. Он знал.
Не ходи, сказала она. Ты не знаешь, куда я иду. Я знаю. Он же не подпустил тебя к себе. Нет, не подпустил. Но это неважно. Я всё равно знаю, куда ты идёшь. Ты идешь на смерть. Я всегда иду на смерть. Нет. Обычно ты идёшь на смерть, зная, что останешься жив. Я и сейчас знаю. Не, не знаешь. Она была права – он не знал, останется ли он жив, потому что он погружался в непонятное. Что будет со мной, если ты не вернёшься? С тобой всё будет хорошо. Старуха поставит тебя на ноги – ей заплачено за полгода вперёд. И я скажу, где спрятаны ещё деньги. Я не про это. А про что? За всю мою жизнь всего двое были ко мне добры, и тот, второй, ушёл навсегда. И теперь я теряю ещё и тебя. Он присмотрелся к её лицу. Отёки уже спали, глаз открылся, лицо постепенно становилось человеческим, и через былую маску проглядывала ещё более былая красота.
Он подошёл, присел рядом с кроватью. Понимаешь, сказал он, никто не знает, что ты здесь. На самом деле тебя убили в тот день. Забили до смерти. Тебя никто не узнает, никто не поймёт, что ты существуешь. Ты просто возьмёшь деньги и уедешь в другой город. И начнёшь новую жизнь. Придумаешь другое имя. Вставишь зубы. Найдёшь мужчину. Есть я или нет – неважно. Я просто проходил мимо. Точнее, прохожу сейчас, очень медленно. А потом пройду и исчезну за углом, и ты забудешь моё лицо.
Как тебя зовут, спросила она. Это неважно, сказал он. Меня давно никак не зовут. Я ведь не спрашиваю твоё имя. Почему не спрашиваешь? Оно мне неинтересно, как тебе не должно быть интересно моё. А если я скажу тебе его? Не говори. А всё-таки? Он понял внезапно, что это игра. В её глазах появился блеск. Я постараюсь его забыть. А сможешь? Смогу. Люди не умеют забывать по желанию. Я умею. Я забыл имя отца и имя матери, я забыл имя сестры и имя брата. Я забыл имя своего сына и женщины, которая родила его. Зачем ты их забыл? Потому что они мертвы. Нет, она покачала головой на подушке – и у неё получилось это движение, хотя она и поморщилась от боли. Ты путаешь причину и следствие. Не ты забыл их имена, потому что они мертвы, а они мертвы, потому что ты забыл их имена. Поэтому сейчас я скажу тебе своё имя, и ты его не забудешь никогда. Сколько бы ты ни прожил. Сколько бы ни прожила я. Обещаешь?
Он сидел подле неё и не знал правильного ответа. Может, и не было никакого правильного ответа. Говори, сказал он. Не забудешь? Нет. Точно? Да. Если я не хочу забывать, я не забуду.
Алярин, сказала она, меня зовут Алярин. Я была шлюхой с проспекта Шлюх, пока не встретила его. Он позвал меня, и я пошла за ним. Я омывала его ноги своими слезами и вытирала их своими волосами. Не ври, сказал он. Она усмехнулась уголком рта. Да, ты прав. Я просто сосала его член, вот и всё. Верю, сказал он. Извини, сказала она. Ты извини, покачал головой он. А потом он встал и вышел из комнаты. Потом вернулся, встал в дверях и повторил: Алярин. Да, я запомнил, тебя зовут Алярин. И ушёл снова.
Он пришёл к таверне, когда стемнело. Снаружи не было даже вывески, но он знал – это та самая таверна. Он забыл имя матери, но он не забыл место, где родился и вырос. Он жил здесь, на третьем этаже, и окно его комнаты выходило на помойный двор. Он помнил пьяные рожи завсегдатаев кабака, он помнил роющихся в мусоре бездомных, он помнил яркое покрывало в клетку, под которым спал, помнил, как бегал за голубями на плоской крыше дома. Но он никак не мог вспомнить тех, кто жил вместе с ним, – мать, отчима, сестру, брата, не мог вспомнить их лиц, их имён. Если он забывал, то это было навсегда.
Он вошёл в кабак, тот пустовал, только за стойкой протирала стаканы дородная тётка в цветастом переднике. Он подошёл к ней и сказал: меня должны тут ждать. Она показала движением головы: туда, в заднюю комнату. Он пошёл. На третий, сказала она вслед. Он поднялся по лестнице – он помнил, как поднимался по ней ежедневно, помнил её скрипучие ступени, ничуть не изменившиеся за тридцать с лишним лет. В коридоре третьего этажа была открыта только одна дверь – та самая, в которую он входил сотни раз, и вошёл снова.
В детстве комната казалась ему больше. На деле она была крошечной, и он никак не мог понять, как они умещались в такой тесноте втроём. Внутри никого не было, и он подошёл к окну. Помойка была всё там же, внизу. В одном из контейнеров копался бездомный.
Он почувствовал движение позади и развернулся. У двери стоял среднего роста человек с бесцветными чертами лица и холодным взглядом. Приятно познакомиться, Саваоф, и человек протянул руку.
4. Буря
Проводник остановился внезапно. Раньше он делал иначе – говорил: «внимание, остановка», а потом постепенно замедлялся, чтобы идущий следом Энди в него не врезался. Дело не в плохой видимости – просто, когда шагаешь много часов подряд по белой равнине, чувства притупляются. Перестаёшь замечать окружающий мир. Сперва теряешь линию горизонта, затем – землю под ногами, а потом обнаруживаешь, что нет больше ничего, даже идущих рядом людей. Бредёшь по белому мареву, будто по гигантской камере депривации. Ты можешь думать о чём угодно – вспоминать результаты скачек, мечтать о площадных девках, ты можешь петь вслух, а можешь – закрыть глаза и заснуть, не прекращая движения.
Если кто-то перед тобой резко остановится, ты в него врежешься.
Энди толкнул Проводника, ему в спину врезался Шимон, а в Шимонову – Фил. Ещё немного, и мы бы попадали, как костяшки домино. Но Проводник устоял, и устояли все мы, идущие следом.
«Что там?» – спросил Фил.
«Буря», – ответил Проводник.
«И что делать?»
Проводник огляделся. Бесконечная белая равнина, только слева по ходу движения – едва заметное затемнение неба.
«Через бурю не пройдём, костюмы не выдержат. Нужен схрон».
«Копать?» – спросил Баба.
Я огляделся. Наст под ногами был таким плотным, что в него и на полметра не углубишься.
«Нет», – сказал Проводник.
Он осмотрелся, будто искал какой-то знак, начертанный на снегу.
«Не надо копать», – сказал он.
Потом сделал несколько шагов в сторону, остановился, замер. И ещё несколько шагов. И ещё. Свернул налево. Нагнулся, приложил к земле руку. Встал на колени. Взмахом ладони подозвал нас поближе. Мы обступили его со всех сторон.
«Барт, – сказал Проводник, – давай тепловую пушку».
Да, эта штука в моей поклаже. Она сборная, потому что это не оружие, а устройство для фокусировки тепловой энергии. В ней такой же портативный реактор, как в палатке.
Я сбросил рюкзак с плеч, и мы начали собирать пушку.
Буря приближалась – мне казалось, что я уже различаю её воронку, хотя, возможно, я просто фантазировал. Откуда мне знать, какой формы снежная буря тут, на севере, – я никогда не видел её даже на картинках. Мне представлялся кинематографический смерч, в центре которого – зияющая тишина и пятнышко голубого неба, глядящее сверху. Много лет назад мы с матерью поехали на Лагонские высоты с экскурсией. Погода стояла ужасная, и на экскурсию не явился никто, кроме нас. Но водитель был честным – и поехал даже с двумя пассажирами. Несколько раз нас чуть не снесло пустынным ветром, а когда мы остановились на заправке, в машину врезался прилетевший откуда-то мусорный бак. Но мне не было страшно. Наоборот, я ощущал воодушевление – мальчишка в центре урагана, герой, которому есть что рассказать дворовым девчонкам.
Потом ветер внезапно прекратился, и водитель остановил микроавтобус прямо на дороге. Выходите, сказал он, посмотрите наверх. Там, над нами, среди тёмного неба, среди чудовищных туч, зияло око шторма, крошечный клочок тишины и спокойствия, вклинившийся в стихию. Не было ни ветерка, ни единая травинка не шевелилась. Он смотрит на нас, сказала мать, это его зрачок.
А через неделю началась война, и путь в герои стал совсем другим.
Пушку собрали. Она была достаточно громоздкой, но её не нужно было держать горизонтально. Проводник обнял пушку, направив её дулом вниз, широко расставил ноги и нажал на активатор. Снег под пушкой начал таять.
Сперва он таял медленно, затем чуть быстрее, а под конец ухнул куда-то в пустоту – так, что Проводник чуть не свалился следом. Его придержал Баба.
«Что там?» – спросил кто-то.
«Схрон».
Нам потребовалось ещё полтора часа, чтобы протопить в насте лаз достаточной ширины. Потом мы укрепили в насте зацеп и спустились – в том же порядке, в каком шли. Я был седьмым.
Внизу нас ждала большая пещера с неровными стенками и потолком – никаких припасов, никакой мебели, ничего. Места хватало всем, ещё и оставалось. Куда-то в сторону из пещеры уходил то ли лаз, то ли коридор, широкий и высокий, выше человеческого роста. Немой вопрос повис в воздухе.
«Это олений», – сказал Проводник.
Моё восприятие перевернулось. Так происходит, когда ты находишь у воды куриного бога. Сначала тебе кажется, что это рукотворный камень, что кто-то высверлил в нём отверстие, чтобы продеть бечеву и повесить на шею. И ты начинаешь прикидывать, как он это сделал, как добился таких ровных кромок, чем сверлил, чем шлифовал.
А потом тебе говорят, что это вода. Вода сверлила этот камень в течение двух тысяч лет, полировала песком. Человек тут вовсе ни при чём. И картинка сразу меняется. Исчезает таинственный мастер-камнерез, слышится журчание ручья, и где-то там, на дне, среди прозрачных струй, осколок скалы превращается в оберег.
Я увидел отпечатки оленьих копыт на дне пещеры, оставленные на стенах рогами разводы, представил их самих – удивительных животных, способных выживать в бесконечной зиме и не знающих воды в иной, нежели снег, форме.
«Как ты узнал?» – спросил Яшка.
Проводник опустил взгляд.
«Ставьте палатку», – сказал он, и это прозвучало как ответ.
Помещение было достаточно большим, чтобы поставить палатку в стороне от нашего «колодца». Цифра предложил его запечатать, но Проводник ответил, что не стоит. «Его всё равно запечатает бурей», – сказал он. Зацеп с верёвкой мы оставили – вдруг он переживёт бурю, проще будет подняться.
Мы разложили вещи у стен пещеры. Странно было находиться в замкнутом помещении после стольких ночёвок на снежной равнине. «Тут можно снять маску?» – спросил Баба. «Нет», – ответил Проводник. Поэтому мы всё равно набились в обогреваемую палатку.