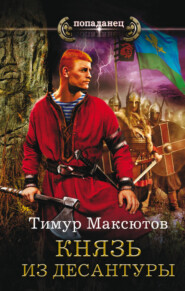По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Нашествие
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ничего. Пусто.
Дмитрий перевернул футляр. На землю выпала какая-то ерунда, похожая на обрывок верёвки.
Поднял с земли, пригляделся. Верёвка и есть, кожаная. Один конец обмотан завитком бараньей шерсти, и посредине – узел завязан.
– Брось, князь! – крикнул Сморода испуганно. – Порча шаманская!
Схватил высоченного алана за грудки, затряс:
– Ты чего приволок, ирод? Извести батюшку-князя хочешь? Отвечай! Или пятки калёным железом прижечь, чтобы язык развязался?
– Что дали, то и приволок, – хмуро ответил караванщик, – с меня какой спрос?
– Дай-ка мне, княже, – вдруг сказал Жук, – видал я такую приблуду.
Взял обрывок, разглядел внимательно. Потрогал бараний завиток, понюхал зачем-то. Объяснил:
– У неграмотных степняков такая встречается. Берешь, например, у соседа в долг скотину – и отдаёшь взамен верёвку, как расписку. Сколько голов – столько узелков. Если коней брал, то волосом из лошадиной гривы обматываешь.
– И что это значит? – спросил Сморода.
– Это значит, что наш князь какому-то степняку барана должен. Одного. Вот и напоминание о том, что долг пора отдавать.
– И кто же такое прислать мог? – удивился боярин.
– Не знаю, – пожал плечами Жук.
– Зато я знаю, – сказал Дмитрий, – есть один такой. Я его из плена отпустил, обменяв на барана.
Сморода охнул. Жук схватил бороду в кулак, протянул:
– Ну, дела. Не успокоился, значит, темник. Вернуться надумал.
Алан крутил головой, глядя то на вздыхающего боярина, то на терзающего подбородок воеводу, то на мрачного князя. Не понимал.
* * *
Старая сосна вздрогнула. Закачала ветвями, будто прощаясь с миром, осыпалась бурыми иголками, как слезами – и со стоном начала валиться на головы завизжавших от ужаса монголов. А следом за древесным патриархом падали и другие – подрубленные заранее ели и берёзы.
Истреблённый наполовину полк пеших черемисов воспрял, когда из-за поваленных деревьев появились сараши в доспехах из спин осетров и засыпали монгольских всадников дождём камышовых стрел; болотников вёл в бой широкоплечий бродник в потрёпанной зелёной шапке с длинным назатыльником.
– Хорь, брат! – выдохнул Дмитрий.
Попавший в ловушку тумен Субэдэя погибал: растерянные монголы вертелись волчками, отбиваясь от свирепых черемисов, окружавших со всех сторон, размахивающих окровавленными топорами – и падали наземь, изрубленные. Сараши выдёргивали степняков из сёдел палками с крючьями на конце – словно рыбачили.
Сам темник еле выбрался из кровавой замятни, окружённый верными нукерами. Хлеща плетью и крича проклятия, привёл в порядок остатки расстроенного тумена и повёл в новую атаку. Усилив последним резервом – тяжёлой конницей и кыпчаками – бросился на правый фланг союзного войска, где монголов ждал булгарский ак-булюк, ударный корпус.
Скрежетала сталь, ржали кони, кричали раненые, смертоносным роем жалили стрелы; шаг за шагом, отбиваясь, умирая, но уступая силе, поддавались конные ряды булгар.
Тамплиер Анри де ля Тур, измученный ожиданием, спросил:
– Не пора ли, дюк?
Дмитрий надел золочёный шлем. Похлопал Кояша по холке – золотой конь нетерпеливо переступил стройными ногами, всхрапнул. Добришский князь кивнул:
– Пора.
Взлетели сигнальные стрелы, трепеща шёлковыми лентами.
Дмитрий тронул пятками коня – тот сразу рванул, набирая скорость. Сзади загрохотали копыта пятитысячного отряда булгарских латников; зазвенела сталь, склонились тонкие пики, нащупывающие жалами жертвы.
Монголы завыли, ошарашенные атакой во фланг; торопливо разворачивали коней, чтобы встретить угрозу – и не успевали…
Вспыхивали молнии воздетых к небу клинков, грозно хрипел Кояш, грудью сбивающий степняков на низких лошадях; тамплиер ловко отбил летящее в грудь Дмитрия копьё и оскалился в страшной улыбке – белоснежной на чёрном от кровавых брызг лице.
Время свернулось петлёй, и не было конца битве – смерть хохотала, кричала, выла, скрежетала булатом и хлопала тетивой; булькала кровью, рвущейся из ран, и стонала последние слова деревенеющими губами умирающих.
Уже прорвался с горсткой бойцов хитрый Джебе-нойон и понёсся на восток, а следом за ним рванулись улюлюкающие башкирские сотни, поражающие беглецов в спину меткими стрелами; уже доблестная пехота Хоря замкнула кольцо окружения, и сдавленные в жуткой тесноте монголы гнулись, слабели.
Дмитрий ждал: не хватало чего-то важного, чем и должна была, наконец, закончиться эта страшная и славная битва. Битва, в которой они, четыре побратима, сражались рядом…
Да! Верный друг, кыпчак Азамат, приведёт сейчас Субэдэя – грозного пса Чингисхана, великого полководца, покорителя степи. Побратим Азамат приведёт его связанного, униженного, пленённого.
Дмитрий приготовил меч. Нет, в этот раз он не проявит глупого благородства, не обменяет пленных на баранов, а велит всех перерезать – чтобы не осталось в живых среди монголов тех, кто знает дорогу в русские земли…
А Субэдэя зарубит. Сам. Вот этой рукой.
И будут полыхать поминальные костры по всей заволжской степи, закоптив небо до черноты, и станут искры звёздами.
– Пожар! – заорал кто-то дурным голосом.
Огонь гудел, подбирался всё ближе; и между его жаркими языками Дмитрий видел страшное: уходила в ночь женщина, неся на руках двухлетнего белоголового мальчика.
Ярилов звал, умоляя: обернись, взгляни на меня. Но вой бушующего пламени заглушал отчаянный крик.
– Пожар! – вновь испуганный вопль.
Она уходила, исчезала, растворялась во мраке.
А где Ромка?
Страх за сына сковал, заморозил. Начал шарить в темноте: пальцы натыкались на какую-то ерунду – скользкие от крови рукояти мечей, кожаные тугие кошели… А искали – мягкие волосы на детской голове, рыжие и пахнущие солнцем. Сын, где ты?
– Тятя!
Сел. У постели стоял Ромка в белой рубашонке – перепуганный, бледный.
– Тятя, мне страшно. Там огонь.
Дмитрий перевернул футляр. На землю выпала какая-то ерунда, похожая на обрывок верёвки.
Поднял с земли, пригляделся. Верёвка и есть, кожаная. Один конец обмотан завитком бараньей шерсти, и посредине – узел завязан.
– Брось, князь! – крикнул Сморода испуганно. – Порча шаманская!
Схватил высоченного алана за грудки, затряс:
– Ты чего приволок, ирод? Извести батюшку-князя хочешь? Отвечай! Или пятки калёным железом прижечь, чтобы язык развязался?
– Что дали, то и приволок, – хмуро ответил караванщик, – с меня какой спрос?
– Дай-ка мне, княже, – вдруг сказал Жук, – видал я такую приблуду.
Взял обрывок, разглядел внимательно. Потрогал бараний завиток, понюхал зачем-то. Объяснил:
– У неграмотных степняков такая встречается. Берешь, например, у соседа в долг скотину – и отдаёшь взамен верёвку, как расписку. Сколько голов – столько узелков. Если коней брал, то волосом из лошадиной гривы обматываешь.
– И что это значит? – спросил Сморода.
– Это значит, что наш князь какому-то степняку барана должен. Одного. Вот и напоминание о том, что долг пора отдавать.
– И кто же такое прислать мог? – удивился боярин.
– Не знаю, – пожал плечами Жук.
– Зато я знаю, – сказал Дмитрий, – есть один такой. Я его из плена отпустил, обменяв на барана.
Сморода охнул. Жук схватил бороду в кулак, протянул:
– Ну, дела. Не успокоился, значит, темник. Вернуться надумал.
Алан крутил головой, глядя то на вздыхающего боярина, то на терзающего подбородок воеводу, то на мрачного князя. Не понимал.
* * *
Старая сосна вздрогнула. Закачала ветвями, будто прощаясь с миром, осыпалась бурыми иголками, как слезами – и со стоном начала валиться на головы завизжавших от ужаса монголов. А следом за древесным патриархом падали и другие – подрубленные заранее ели и берёзы.
Истреблённый наполовину полк пеших черемисов воспрял, когда из-за поваленных деревьев появились сараши в доспехах из спин осетров и засыпали монгольских всадников дождём камышовых стрел; болотников вёл в бой широкоплечий бродник в потрёпанной зелёной шапке с длинным назатыльником.
– Хорь, брат! – выдохнул Дмитрий.
Попавший в ловушку тумен Субэдэя погибал: растерянные монголы вертелись волчками, отбиваясь от свирепых черемисов, окружавших со всех сторон, размахивающих окровавленными топорами – и падали наземь, изрубленные. Сараши выдёргивали степняков из сёдел палками с крючьями на конце – словно рыбачили.
Сам темник еле выбрался из кровавой замятни, окружённый верными нукерами. Хлеща плетью и крича проклятия, привёл в порядок остатки расстроенного тумена и повёл в новую атаку. Усилив последним резервом – тяжёлой конницей и кыпчаками – бросился на правый фланг союзного войска, где монголов ждал булгарский ак-булюк, ударный корпус.
Скрежетала сталь, ржали кони, кричали раненые, смертоносным роем жалили стрелы; шаг за шагом, отбиваясь, умирая, но уступая силе, поддавались конные ряды булгар.
Тамплиер Анри де ля Тур, измученный ожиданием, спросил:
– Не пора ли, дюк?
Дмитрий надел золочёный шлем. Похлопал Кояша по холке – золотой конь нетерпеливо переступил стройными ногами, всхрапнул. Добришский князь кивнул:
– Пора.
Взлетели сигнальные стрелы, трепеща шёлковыми лентами.
Дмитрий тронул пятками коня – тот сразу рванул, набирая скорость. Сзади загрохотали копыта пятитысячного отряда булгарских латников; зазвенела сталь, склонились тонкие пики, нащупывающие жалами жертвы.
Монголы завыли, ошарашенные атакой во фланг; торопливо разворачивали коней, чтобы встретить угрозу – и не успевали…
Вспыхивали молнии воздетых к небу клинков, грозно хрипел Кояш, грудью сбивающий степняков на низких лошадях; тамплиер ловко отбил летящее в грудь Дмитрия копьё и оскалился в страшной улыбке – белоснежной на чёрном от кровавых брызг лице.
Время свернулось петлёй, и не было конца битве – смерть хохотала, кричала, выла, скрежетала булатом и хлопала тетивой; булькала кровью, рвущейся из ран, и стонала последние слова деревенеющими губами умирающих.
Уже прорвался с горсткой бойцов хитрый Джебе-нойон и понёсся на восток, а следом за ним рванулись улюлюкающие башкирские сотни, поражающие беглецов в спину меткими стрелами; уже доблестная пехота Хоря замкнула кольцо окружения, и сдавленные в жуткой тесноте монголы гнулись, слабели.
Дмитрий ждал: не хватало чего-то важного, чем и должна была, наконец, закончиться эта страшная и славная битва. Битва, в которой они, четыре побратима, сражались рядом…
Да! Верный друг, кыпчак Азамат, приведёт сейчас Субэдэя – грозного пса Чингисхана, великого полководца, покорителя степи. Побратим Азамат приведёт его связанного, униженного, пленённого.
Дмитрий приготовил меч. Нет, в этот раз он не проявит глупого благородства, не обменяет пленных на баранов, а велит всех перерезать – чтобы не осталось в живых среди монголов тех, кто знает дорогу в русские земли…
А Субэдэя зарубит. Сам. Вот этой рукой.
И будут полыхать поминальные костры по всей заволжской степи, закоптив небо до черноты, и станут искры звёздами.
– Пожар! – заорал кто-то дурным голосом.
Огонь гудел, подбирался всё ближе; и между его жаркими языками Дмитрий видел страшное: уходила в ночь женщина, неся на руках двухлетнего белоголового мальчика.
Ярилов звал, умоляя: обернись, взгляни на меня. Но вой бушующего пламени заглушал отчаянный крик.
– Пожар! – вновь испуганный вопль.
Она уходила, исчезала, растворялась во мраке.
А где Ромка?
Страх за сына сковал, заморозил. Начал шарить в темноте: пальцы натыкались на какую-то ерунду – скользкие от крови рукояти мечей, кожаные тугие кошели… А искали – мягкие волосы на детской голове, рыжие и пахнущие солнцем. Сын, где ты?
– Тятя!
Сел. У постели стоял Ромка в белой рубашонке – перепуганный, бледный.
– Тятя, мне страшно. Там огонь.