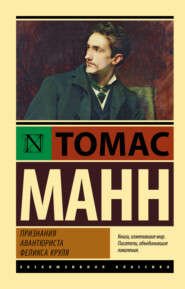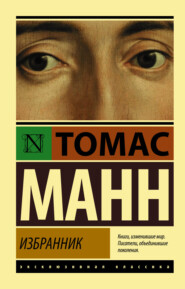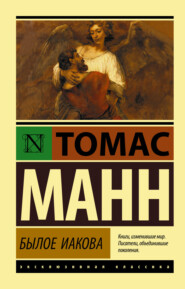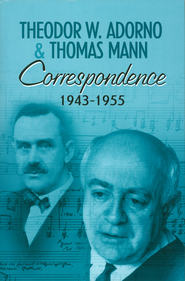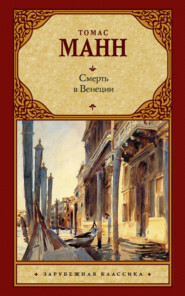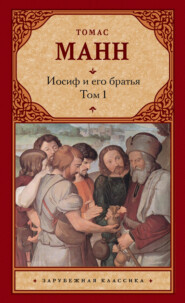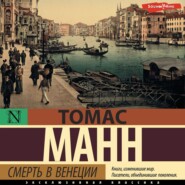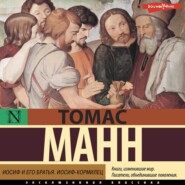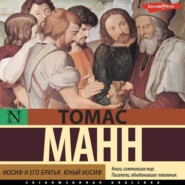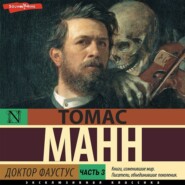По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Иосиф и его братья. Том 2
Автор
Жанр
Год написания книги
1943
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Бекнехонс был высокого роста и вдобавок держался очень осанисто, он ходил, выпятив грудь, развернув плечи и задрав подбородок. Его яйцеобразная, всегда непокрытая, гладко выбритая голова была довольно крупна, и заметней всего на ней выделялась глубокая и резкая борозда между глаз, которая никогда не исчезала и не утрачивала своей строгости, даже если он улыбался, а улыбался он только высокомерно и только в награду за особое подобострастие. Тщательно очищенное от растительности, точено-правильное и неподвижное лицо верховного жреца, с высокими скулами и глубокими, как борозда между глаз, морщинами около ноздрей и рта, обычно глядело мимо людей и предметов; взгляд этот был более чем надменным, он был равнозначен отказу от всего современного мироустройства, отрицанию и осуждению всего векового или даже тысячелетнего хода жизни, да и одежда его, очень тонкая и дорогая, отличалась старозаветностью и по священническому обычаю отставала от моды не меньше, чем на несколько эпох: ясно видно было, что под верхним, начинавшимся под мышками и ниспадавшим до пят платьем он носит простой, узкий и короткий набедренник, какой был принят при первых династиях; к еще более древним и, вероятно, более благочестивым временам восходила священническая шкура леопарда, обвивавшая его плечи таким образом, что голова и передние лапы кошки висели у него за спиной, а задние лапы скрещивались на его груди, где виднелись и другие знаки его сана: голубая повязка и затейливое золотое украшение с бараньими головами.
Леопардовая шкура была, строго говоря, некоей узурпацией, ибо она являлась частью убранства Первого пророка Атума-Ра в Оне и служителям Амуна не полагалась. Но Бекнехонс всегда сам определял, что ему полагается, и все, в том числе Иосиф, отлично понимали, почему он носит первобытную одежду людей, священную шкуру. Он хотел этим показать, что Атум-Ра растворился в Амуне, что он является лишь разновидностью фиванского владыки и в известной мере, да и не только в известной мере, ему подчинен. Ибо Амун, то есть Бекнехонс, добился того, что верховный пророк Ра в Оне принял почетное звание второго жреца Амуна в Фивах, а поэтому здесь, в Фивах, главенство над ним первосвященника и право первосвященника на его знаки отличия были очевидны. Но даже и в Оне, резиденции Ра, это превосходство оставалось в силе. Ибо мало того что Бекнехонс называл себя «предводителем жрецов всех богов в Фивах», он присвоил себе также звание «предводителя жрецов всех богов Верхнего и Нижнего Египта» и был, следовательно, сверхпервым и в доме Атума-Ра. Так неужели же он не имел права носить леопардовую шкуру? Нельзя было без страха глядеть на него при мысли о его значении; что же касается Иосифа, то он уже достаточно сжился с землею Египетской, чтобы тревожиться и недоумевать по поводу того, что фараон бесконечными своими дарами непрестанно умножает богатство и гордость этого могучего мужа, теша себя представлением, будто он благодетельствует лишь собственному отцу Амуну, а следовательно, себе самому. Иосиф, для которого, хотя он этого и не показывал, Амун-Ра был таким же идолом, как всякий другой, – отчасти овном в своем приделе, отчасти же куклой в ларце своего капища, которую катали по Иеору в нарядном струге просто потому, что не могли придумать ничего лучшего, – Иосиф судил в данном случае свободнее и острее, чем фараон; он считал, что тот поступает неверно и неумно, безудержно обогащая своего мнимого отца, и, глядя, как князь Амуна исчезает в гареме, Иосиф проникался уже, следовательно, более высокой заботой, чем забота о собственном благе, заботой государственной, хотя и знал, что там, в гареме, ведутся весьма сомнительные речи о нем самом.
От маленького Боголюба, самого первого его покровителя в Потифаровом доме, ему было известно, что Дуду уже не раз приходил к Мут, госпоже, с жалобами на него, Иосифа: подслушивая эти беседы из самых невероятных укрытий, карлик шепотом передавал их Иосифу с такими подробностями, что тот воочию видел, как смотритель одежной стоял в накрахмаленном набедреннике перед их повелительницей и, напыщенно прикрывая нижнюю свою губу крышей верхней, возмущенно жестикулируя коротенькими ручками и стараясь говорить как можно более низким голосом, жаловался госпоже на это досадное неблагополучие. Раб Озарсиф, как он невразумительно и, видимо, произвольно называет себя, – говорил карлик, – этот хабирский мошенник, этот молокосос-чужеземец, постыдным образом возвышается в доме и пользуется, на беду, большой благосклонностью – можно не сомневаться, что Сокрытый глядит на это с неодобрением. Вопреки его, карлика, дельному совету. Озарсиф был за слишком дорогую цену, сто шестьдесят дебенов, куплен у мелких торговцев пустыни, укравших его из колодца, куда его бросили в наказание, и благодаря хлопотам этого пустомели, этого холостого шута Шепсес-Беса, попал в дом Петепра. Но вместо того чтобы послать этого мерзкого чужеземца в поле на барщину, как люди почтенные и советовали управляющему, тот сначала предоставил ему слоняться без дела по двору, а затем, в финиковом саду, позволил поговорить с Петепра, чем этот повеса более чем бесстыдно воспользовался. Он прожужжал господину уши своей злокозненной болтовней, которая была поношением Амуну и оскорблением верховной силе Солнца; но этим ему удалось обворожить и преступно околдовать священного повелителя, и тот назначил его своим личным слугой и чтецом; а Монт-кау обращается с ним и вовсе как со своим сыном, вернее даже – как с молодым хозяином, позволяя ему знакомиться со всем в доме, как будто тот достанется ему в наследство, и изображать из себя заместителя управляющего – это паршивому-то азиату в египетском доме! Он, Дуду, осмеливается почтительнейше указать госпоже на эти ужасные обстоятельства, ибо разгневанный ими Сокрытый может отомстить за столь пагубное свободомыслие тем, кто в нем провинился и его терпит.
– И что же ответила госпожа? – спросил Иосиф. – Передай мне все в точности, маленький Боголюб, и постарайся повторить ее собственные слова.
– Вот ее слова, – отвечал карлик. – «Покуда вы говорили, смотритель одежной, – сказала она, – я все думала, кого собственно вы имели в виду и на какого раба вы жаловались, ибо моя память ничего мне не подсказала.
Вы не можете от меня требовать, чтобы я помнила всех слуг дома и сразу же догадывалась, на кого вы изволили намекнуть. Но поскольку вы дали мне время подумать, у меня возникло предположение, что вы имеете в виду того еще юного годами слугу, который с некоторых пор за обедом наполняет кубок супругу моему Петепра. Этот серебряный набедренник я при известном усилии смутно припоминаю».
– Смутно? – не без разочарования переспросил Иосиф. – Возможно ли, чтобы у нашей госпожи было такое уж смутное представление обо мне, если я каждодневно нахожусь близ нее и близ господина во время трапез, да и вообще она не может не знать о милости, которой я пользуюсь у него и у Монт-кау? Я удивлен, что ей пришлось так долго и напряженно рыться в памяти, прежде чем она сообразила, о ком говорил этот зловредный Дуду. А что она еще сказала?
– Она сказала, – продолжил свой отчет карлик, – она сказала вот что: «Зачем, однако, вы приходите с этим ко мне, смотритель одежной? Вы же навлекаете на меня гнев Амуна. Ведь вы сами сказали, что он разгневается на тех, кто терпит подобные непорядки. А если я ничего не знаю, то, значит, я ничего не терплю, и вам следовало бы пощадить меня и оставить в неведенье, а не подвергать ненужной опасности».
Над этими словами Иосиф посмеялся и горячо их одобрил.
– Какой великолепный ответ и какой умный выговор! Рассказывай дальше о госпоже, маленький Бес! Только повтори мне все в точности, ибо, надеюсь, ты был внимателен!
– А дальше, – отвечал Боголюб, – говорил зловредный Дуду. Он стал оправдываться и сказал: «Я сообщил госпоже об этом ужасном положении не для того, чтобы она терпела его, а для того, чтобы она его прекратила; из любви к ней я предоставил ей возможность оказать услугу Амуну, посоветовав господину выгнать этого нечистого раба из дому и, поскольку он уже куплен, отправить, как то ведется, на барщину, чтобы он не сделался здесь управляющим и, обнаглев, не поставил себя выше детей страны».
– Прескверно, – сказал Иосиф. – Отвратительная, гнусная речь! Но госпожа, что ответила ему госпожа?
– Она, – доложил Боголюб, – ответила так: «Ах, строгий карлик, госпоже редко удается поговорить по душам с господином. Прими во внимание чинность этого дома и пойми, что у нас с господином не такие отношения, как, например, у тебя с той, что обнимает тебя одной рукою, с твоей задушевной подругой Цесет. Она запросто приходит к тебе, смело говорит с тобой, со своим супругом, обо всем, что касается ее и тебя, и при случае дает тебе те или иные советы. Она мать, она родила тебе двоих пригожих детей, Эсези и Эбеби, а поэтому ты благодарен ей и у тебя есть все основания прислушиваться к голосу такой заслуженной, плодовитой жены и уважать ее желания и ее просьбы. А кто я нашему господину, с какой стати он будет меня слушаться? Ты знаешь, как велико его упрямство, какое у него гордое и глухое сердце; я бессильна перед ним со своими увещеваниями».
Иосиф помолчал, задумчиво глядя поверх своего маленького друга, который озабоченно подпер ручкой измятое личико.
– Ну а что сказал на это хранитель платья? – спросил через несколько мгновений сын Иакова. – Нашел ли он какой-нибудь ответ и продолжал ли нести свое?
Малыш ответил отрицательно. После слов госпожи Дуду с достоинством умолк; зато госпожа прибавила, что постарается поскорей поговорить об этом с отцом первосвященником. Ведь поскольку Петепра возвысил этого чужеземца, после того как услыхал его рассуждения о делах солнечных, здесь явно замешаны политика и религия, а это уже касается Бекнехонса, князя Амуна, ее друга и исповедателя. Он должен обо всем узнать, и в его отцовское сердце изольет она для своего облегчения то, что поведал ей об этом непорядке Дуду.
Вот каковы были новости доброго карлика. Но позднее Иосиф вспоминал, что тогда Бес-эм-хеб долго еще сидел у него – в смешном своем наряде, с душницей на парике, опершись подбородком на ручку и мрачно щурясь.
– Что ты щуришься, Боголюб в доме Амуна, – спросил он, – зачем продолжаешь размышлять об этих делах?
А тот ответил своим стрекочущим голоском:
– Ах, Озарсиф, малыш думает о том, как это нехорошо, что наш злой куманек говорит о тебе с нашей госпожой Мут, – это очень и очень нехорошо!
– Конечно, – сказал Иосиф. – Зачем ты говоришь мне об этом? Ведь я и сам знаю, что это совсем нехорошо и даже опасно. Но видишь, я принимаю это с легким сердцем, ибо надеюсь на бога. Разве госпожа не призналась сама, что она не имеет такого уж большого влияния на Петепра? Ее словечка и знака еще далеко не достаточно, чтобы отправить меня на барщину, можешь не беспокоиться!
– Как же мне не беспокоиться, – прошептал Бес, – если это опасно и по-другому, совсем в другом отношении – то, что наш куманек, поговорив с госпожой, прояснил ее смутное представление о тебе.
– Ну, это пойми, кто может! – воскликнул Иосиф. – Я, во всяком случае, этого не понимаю, и мне темна карличья твоя болтовня. Опасна и по-другому, совсем с другой стороны? Что за темные слова ты мне шепчешь?
– Да, я шепчу, шепчу о своем страхе и о своих подозрениях, – послышался снова голос маленького Боголюба, – я вышептываю тебе беспокойную карличью мудрость, которая до тебя, долговязого, никак не доходит. Куманек хочет сделать тебе худо, но возможно, что он, против собственной воли, сделает тебе доброе дело, и даже слишком доброе, так что опять получится худо, куда хуже, чем рассчитывал сделать.
– Ну, дружок, ты на меня не обижайся, но того, что лишено смысла, человек не может понять. Худо, хорошо, слишком хорошо, еще хуже? Да это какая-то карличья галиматья, какая-то пустяковая тарабарщина, которой я при всем желании не в силах понять!
– А почему ты покраснел, Озарсиф, и почему ты сердишься так же, как раньше, когда я тебе сказал, что у госпожи было о тебе смутное представленье? Карличья мудрость предпочла бы, чтобы оно так и осталось смутным, ибо это опасно, дважды опасно, еще опаснее опасности, что проклятый куманек заморочит ее своей зловредностью. Ах, – сказал малыш и спрятал лицо в ладошках, – карлик полон страха и ужаса перед врагом, перед быком, чье огненное дыханье опустошает ниву.
– Какую ниву? – спросил Иосиф с подчеркнутым недоумением. – И что это за огнедышащий бык? Ты сегодня немного не в себе, и я ничем не могу тебе помочь. Сходи к Краснопузому, пусть он попотчует тебя успокоительным соком кореньев, который охладит твою голову. А я займусь своими делами. Могу ли я помешать Дуду жаловаться на меня госпоже, даже если это и очень опасно? Однако ты видишь, что я надеюсь на бога, и поэтому ты не должен отчаиваться. Будь и впредь начеку и старайся не пропускать ни одного слова из того, что Дуду будет говорить госпоже, а особенно из ее ответов, чтобы передавать мне все в точности. Ибо мне нужно знать все толком.
Вот как (и позднее Иосиф вспоминал это) проходил тогда разговор, во время которого маленький Боголюб держался так странно испуганно. Но в самом ли деле только благодаря надежде на бога и без всяких иных оснований Иосиф так сравнительно бодро воспринял известие о кознях Дуду?
До сих пор он был для своей повелительницы если не в полном смысле слова пустым местом, то, по крайней мере, незаметным предметом домашней утвари, таким же, каким был в роли Немого Слуги для Гуия и для Туий. Дуду, желая ему зла, во всяком случае, изменил это положение. Если теперь во время трапез, когда Иосиф подавал кушанья и наполнял кубок своему господину, на него падал взгляд госпожи, то падал он уже не по чистой случайности, как на предмет неодушевленный, – нет, теперь она глядела на него лично, глядела, как на явление, имеющее свою подоплеку и свои связи, которые дают приятный или неприятный повод задуматься. Одним словом, эта знатная дама Египта стала с недавних пор его замечать. Ее внимание было, разумеется, очень слабым и мимолетным; сказать, что глаза ее задерживались на нем, было бы преувеличением. Но на мгновение, на какой-то миг они не раз испытующе к нему устремлялись – при мысли, впрочем, и при воспоминании о том, что она должна поговорить о нем с Бекнехонсом; а Иосиф, глядя сквозь ресницы, отмечал такие мгновения; ни одно из них, при всем внимании, которое он должен был уделять Петепра, от него не ускользало, хотя всего лишь один или два раза этот взгляд был двусторонним и их глаза, глаза госпожи и слуги, случайно встречались, и тогда ее взор оказывался равнодушным, гордым и строго-неторопливым, а его взгляд, полный сначала почтительного испуга, поспешно скрывался за веками и становился смиренным.
Это стало случаться после того, как Дуду побеседовал с госпожой. Прежде этого не случалось, и, говоря между нами, это было Иосифу не так уж и огорчительно. Он видел в этом известный успех и был почти благодарен своему врагу Дуду за его донос. И когда Бекнехонс явился в гарем в следующий раз, Иосифу была довольно-таки приятна мысль, что речь там пойдет, вероятно, о нем, Иосифе, и о его возвышении. С этой мыслью, при всей ее тревожности, было связано известное удовлетворение, более того – радость.
Какие именно там велись речи, он узнал опять-таки от потешного визиря, умудрившегося подслушать их из какого-то закутка. Сначала жрец и дама из ордена беседовали о делах богослужебных и о светских событиях – они, как, пользуясь вавилонским выражением, говорили дети Египта, «чесали язык», другими словами, перебирали столичные сплетни; и когда потом зашла речь о Петепра и о его доме, госпожа действительно передала своему духовному другу жалобу Дуду и рассказала ему о непорядке с рабом-евреем, которому царедворец и его управляющий столь вызывающим образом мирволят и покровительствуют. Бекнехонс выслушал это сообщение, качая головой, так, словно оно подтверждало его печальные ожидания общего характера и как нельзя лучше соответствовало нравственному облику эпохи, почти вовсе утратившей благочестие тех времен, когда в ходу были такие узкие и короткие набедренники, как у него, Бекнехонса. Это, сказал жрец, несомненно скверный признак. Вот он, разрушительный дух пренебрежения к исконному мироустройству: поначалу изысканный и веселый, он затем поневоле оборачивается запустением и дикостью и, разрушая самые священные связи, истощает страны, и вот уже скипетр их не внушает страха на побережье, и царство гибнет. По словам маленького Боголюба, первосвященник тотчас же отклонился от темы: он увлекся и, указуя перстами в разные стороны, стал рассуждать о делах государственных, о господстве над миром, о сохранении власти. Он говорил о митаннийском царе Тушратте, которого следует сдерживать с помощью Шуббилулимы, великого правителя царства Хатти на севере, не допуская, однако, чтобы тот сдерживал его слишком успешно. Ведь если воинственная Хета, целиком подчинив себе Митанни, продвинется на юг, то это представит опасность для сирийских владений фараона, добытых завоевателем Мен-хепер-Ра-Тутмосом, тем более что она и так может в один прекрасный день, обойдя Митанни, вторгнуться в приморскую страну Амки между Амановыми и Кедровыми горами, если того пожелают дикие боги Хеты. Правда, на шахматной доске мира этому противостоит фигура аморитянина Абдаширту, который, будучи данником фараона, правит землями между Амки и Ханигалбатом и призван препятствовать продвижению Шуббилулимы на юг. Но препятствовать этому продвижению аморитянин станет лишь до тех пор, покуда страх перед фараоном будет в его сердце сильнее, чем страх перед Хатти, – а иначе он непременно стакнется с Хатти и предаст Амуна. Ведь все эти царьки, платящие дань после покорения Сирии, сразу же становятся предателями, стоит лишь хоть немного ослабеть страху, в котором приходится держать всех, в том числе бедуинов и кочевников-степняков, которые, не будь у них страха, кинулись бы на плодородную землю и опустошили бы города фараона. Короче говоря, множество забот требует от Египта решительности и собранности, если он хочет сохранить своему скипетру страх, а своим венцам – царство. А поэтому он должен, как в древние времена, благочестиво блюсти обычаи и не отступать от правил строгой нравственности.
– Сильный человек, – сказал Иосиф, выслушав эту речь. – Вместо того чтобы посвятить себя богу и быть зеркальноголовым слугой господним, который, как добрый отец своего народа, протягивает руку всем, кто оступится, – вместо этого он целиком занят земными делами и политическими вопросами – просто удивительно. Говоря между нами, маленький Боголюб, заботу о царстве и страхе народов он должен был бы предоставить фараону, который для того и сидит во дворце; ведь можно не сомневаться, что во времена, восхваляемые им в ущерб нынешним, отношения между храмом и дворцом были именно таковы. А наша госпожа – она больше ничего не сказала после его слов?
– Я слышал, – сказал карлик, – как она ответила на эти слова. Она ответила так: «Ах, отец мой, разве я ошибаюсь: когда Египет держался благочестивых и строгих обычаев, он был беден и мал, и ни на юг, за пороги реки, в страну негров, ни на восток, к попятнотекущей реке, не уходили его рубежи так далеко по землям платящих оброк народов. Но бедность уступила место богатству, а из тесноты возникло царство. Теперь и страны, и Уазе, великая их столица, кишат чужеземцами, богатства так и текут в Египет, и все стало новым. Но разве тебя не радует и новое, итог и награда старого? Из оброка, выплачиваемого народами, фараон приносит щедрые жертвы отцу своему Амуну, благодаря чему этот бог может строить сколько его душе угодно, наполняясь силой, словно река весной, когда вода ее достигает самого высокого уровня. Так неужели отец мой не одобряет хода событий, последовавшего за благочестивой стариной?»
«Совершенно справедливо, – ответил на это, как передал Боголюб, Бекнехонс, – дочь моя очень верно ставит вопрос о странах, ибо вопрос этот стоит так: добрая старина несла в себе новое, то есть богатство и царство, как свою награду, но награда, то есть богатство и царство, – несет в себе ослабление, истощение, утрату. Как же поступить, чтобы награда не стала проклятием, чтобы добро не вознаградилось в итоге злом? Вот как стоит вопрос, и карнакский владыка, бог царства Амун, отвечает на него так: старое должно властвовать в новом, а править царством должны сила и строгость, и тогда царство не ослабеет и не лишится заслуженной им награды. Ибо не сыновьям нового, а сыновьям старого по праву принадлежит царство и подходят венцы: и белый, и красный, и синий, и, кроме того, венец богов».
– Убедительно, – сказал Иосиф, когда карлик умолк. – Убедительный, сильный ответ довелось тебе услыхать благодаря твоему малому росту, дружок Боголюб. Он пугает меня, хотя и не удивляет, ибо, в сущности, я всегда подозревал, что таковы взгляды Амуна, – подозревал уже с тех пор, как впервые увидел его ратников на улице Сына. И едва лишь наша госпожа заикнулась обо мне, Бекнехонс так увлекся, что про меня они, видно, и вовсе забыли. Вернулись ли они, насколько тебе удалось услышать, к разговору обо мне вообще?
Они сделали это, доложил Шепсес-Бес, лишь в самом конце, и на прощанье первосвященник Амуна пообещал в ближайшее время взяться за Петепра и заставить его задуматься о покровительстве рабу-чужеземцу с точки зренья суровых старинных правил.
– В таком случае, – сказал Иосиф, – я должен дрожать, я должен бояться, что Амун положит конец моему возвышению, ибо как мне жить, если он будет против меня? Это очень скверно, дружок Боголюб. Ведь если я окажусь на барщине теперь, после того как писец урожая уже сгибался передо мной, мне придется еще хуже, чем если бы я попал в поле сразу и днем изнывал бы там от зноя, а ночью дрожал от холода. Ты думаешь, Амуну удастся так со мной обойтись?
– Я не настолько глуп, – застрекотал малыш. – Я ведь не женат, чтобы утратить карличью мудрость. Правда, я вырос – если я вправе так выразиться – в страхе перед Амуном. Но я давно понял, что за тобой, Озарсиф, стоит бог, который сильней и умней Амуна, и я никогда не поверю, чтобы он отдал тебя в его руки и позволил тому, что в капище, указать твоему возвышению иной предел, нежели назначенный им самим.
– А если так, то не горюй, Бес-эм-хеб, – воскликнул Иосиф, осторожно, чтобы не причинить ему боли, ударив по плечу карлика, – и не беспокойся обо мне! В конце концов я тоже могу поговорить с господином с глазу на глаз и заставить его кое о чем призадуматься, тем более что об этом, наверно, задумывается и его господин – фараон. Вот он и послушает нас обоих, Бекнехонса и меня. Первосвященник будет говорить ему о рабе, а раб – о боге, – посмотрим, к кому он отнесется с большим вниманием, то есть я хочу сказать: не к кому, а к какому предмету, пойми меня правильно. А ты, мой друг, будь по-прежнему начеку и, когда Дуду станет снова жаловаться на меня госпоже, благоразумно схоронись в закутке, чтобы я опять услыхал и его слова, и ее!
Так и было. Ибо известно, что одной жалобой дело не ограничилось, что смотритель одежной не отступался и время от времени осуждающе напоминал Мут-эм-энет о возмутительном покровительстве какому-то чужеземцу из карающей ямы. Боголюб занимал при этом свой наблюдательный пост и, донося обо всем Иосифу, добросовестно уведомлял его о каждом шаге Дуду. Но даже если бы он и не был столь бдителен, Иосиф все равно узнавал бы о каждой жалобе женатого карлика на его, Иосифа, возвышение; ибо за ней следовали взгляды в столовой. И если они на много дней прекращались, так что Иосиф уже начинал грустить, то их возврат и мгновения, когда эта женщина снова смотрела на него испытующе-строго, как на человека, а не как на вещь, ясно показывали ему, что Дуду опять приходил к ней с жалобами, и тогда Иосиф говорил себе: он напомнил ей обо мне. Как это опасно! А сам думал при этом: «Как это отрадно!» – и был даже до некоторой степени благодарен Дуду за то, что он напомнил о нем.
Иосиф все больше превращается в египтянина
Уже невидимый отцовскому глазу, но живой по-прежнему и оставшийся вдали от него самим собой, Иосиф вглядывался и вживался в египетское бытие: он быстро надел ярмо новых требований, хотя мальчиком, в первой своей жизни, не знал никаких обязанностей и усилий и коротал дни как придется; теперь он деятельно старался подняться на высоту намерений бога, занятый цифрами, инвентарем, товарами, деловыми частностями, а кроме того, вовлеченный в сеть щекотливых, требующих непрестанного внимания человеческих отношений, нити которой вели к Потифару, к доброму Монт-кау, к карликам и бог весть к кому еще внутри и вне дома, – обо всех этих людях на старом его месте, там, где был Иаков и были братья, никто и знать не знал.
Это было далеко-далеко, дальше, чем в семнадцати днях пути, и еще дальше, чем были удалены от своего сына Исаак и Ревекка, когда Иаков вглядывался и вживался в бытие месопотамское. Тогда они тоже понятия не имели о людях и отношениях, окружающих сына, а ему было совсем чуждо их бытие. Где ты, там и мир – узкий круг, в котором живешь, познаешь и действуешь; остальное – туман. Правда, люди всегда стремились переместиться, чтобы погрузилось в туман то, что примелькалось, и поглядеть на иное бытие. Сильно было среди них и неффалимовское стремление – метнуться в туман и сообщить его жителям, которые знали только свой мир, о мире здешнем, и, наоборот, доставить домой любопытные сведения об их бытии. Короче говоря, сообщение и связи существовали. Существовали они испокон веку и между далекими друг от друга местами людей Иакова, с одной стороны, и Потифаровыми, с другой. Ведь уже и урский странник, привыкший менять поле своего зрения, побывал в Стране Ила, хотя, впрочем, не так далеко внизу, как Иосиф теперь, а его супруга-сестра, «прабабка» Иосифа, одно время находилась даже в гареме фараона, который тогда блистал на своем горизонте еще не в Уазе, а выше, несколько ближе к сфере Иакова. Связи между этой сферой и той, что включала теперь в себя Иосифа, существовали всегда: разве мрачный красавец Измаил не взял в жены одну из дочерей Ила и разве не этому союзу были обязаны своим существованием полуегиптяне-измаильтяне, избранные и призванные доставить Иосифа вниз? Множество людей, как и они, занималось торговлей между реками, и тысячу лет и дольше сновали по миру гонцы в набедренниках с письмами-кирпичами в складках одежды. Но если эта неффалимовская деятельность была привычной и давней, то расширилась и распространилась она только теперь, в эпоху Иосифа, когда страна его второй жизни и его отрешения стала уже настоящей страной внуков, не замыкаясь более в строгом своеобычии, как того все еще хотел Амун, а приветливо открывшись миру и проникшись такой вольностью нравов, что никому не ведомому мальчику-азиату потребовалось только известное умение прощаться на ночь и делать из нуля двойку, чтобы стать личным слугой египетского вельможи и всем, чем угодно!
О нет, в возможностях связи между местами Иакова и местами его любимца не было недостатка; но Иосиф, в чьей власти было воспользоваться ими (ведь он знал местонахождение отца, а тот его местонахождения не знал) и которому это ничего не стоило, так как, будучи правой рукой управляющего большим хозяйством и отлично постигнув искусство обобщать и обозревать, он мог прекрасно обозреть и способы снестись с отцом, – Иосиф этого не делал, не делал в течение многих лет, не делал по причинам, давно уже нам известным, ни одна из которых, пожалуй, не будет обойдена, если определить их одним словом: ожидание. Теленок не мычал, он молчал, как мертвый, и, не давая знать корове, на какое поле отвел его человек, он, разумеется, с согласия человека, требовал ожидания и от нее, сколь бы трудным оно ни было именно для нее, ибо корова вынуждена была считать теленка растерзанным.
Нам странно подумать, нас даже смущает мысль, что Иаков, этот скрытый где-то в тумане старик, все это время считал своего сына мертвым, – она смущает нас потому, что, с одной стороны, за него можно порадоваться, так как он заблуждался, а с другой стороны, как раз из-за этого заблужденья его и жаль. Ведь известно, что для того, кто любит, смерть любимого человека имеет и свои преимущества, хотя преимущества, может быть, и несколько унылого характера; и, следовательно, если разобраться, то этот искупающий свою вину старец заслуживает двойного сострадания, коль скоро он считал Иосифа мертвым, а тот даже и не был мертв. Отцовское сердце тешило себя – правда, казнясь тысячей мук, но все же и к сладостному своему утешению, – уверенностью в его смерти; оно мнило, что он, хранимый и укрытый смертью, неизменен и неуязвим, что он больше не нуждается в опеке и навек остался тем семнадцатилетним мальчиком, который уехал верхом на белой Хульде; а все это было сплошным заблуждением – и муки, и постепенно побеждавшая их утешительная уверенность. Ибо тем временем Иосиф был жив и не был застрахован ни от каких передряг. Хоть и похищенный, он не был отнят у времени и не оставался семнадцатилетним юнцом, а рос и созревал там, где он был: ему исполнялось и девятнадцать, и двадцать, и двадцать один; разумеется, он был по-прежнему Иосифом, но отец уже не узнал бы его, во всяком случае – с первого взгляда. Материя его жизни менялась, сохраняя, однако, свое счастливое благообразие; он созревал и делался шире и крепче, будучи уже не полумальчиком-полуюношей, а полуюношей-полумужчиной. Еще несколько лет, и от материи того Иосифа, которого обнимал на прощанье Иаков-Ревекка, не останется уже ничего – не больше, чем если бы плоть его была разрушена смертью; только меняла его не смерть, а жизнь, и поэтому облик Иосифа до некоторой степени уцелел. Он уцелел в меньшей мере, чем его могла уберечь в чьем-либо сердце и действительно обманчиво уберегла в сердце Иакова охранница-смерть. Нужно, однако, иметь в виду, что когда речь идет об облике и материи, то вовсе не так и существенно, как нам это кажется, кто удалил из поля нашего зрения то или иное лицо – смерть или жизнь.
Вдобавок и материю, благодаря которой она, меняясь и созревая, приобретала свой облик, жизнь Иосифа извлекала совсем из другой сферы, чем если бы он оставался на глазах у Иакова, а это тоже накладывало отпечаток на его облик. Его питали воздух и соки Египта, он ел пищу Кеме, клетки его тела пропитывались и набухали влагой этой страны, облучались ее солнцем; он одевался в полотно из ее льна, ходил по ее земле, сообщавшей ему свои старые силы и свои безмолвные идеи формы, изо дня в день видел воочию рукотворные воплощения этой безмолвно-решительной всесвязующей главной идеи, наконец, говорил на языке этой страны, который видоизменил его губы и его подбородок настолько, что вскоре Иаков, отец, сказал бы ему: «Отпрыск мой, Даму, что сталось с губами твоими? Я не могу их узнать».
Словом, Иосиф все больше превращался в египтянина лицом и манерами, и происходило это с ним легко, быстро и незаметно, ибо он, как истинное дитя мира, отличался гибкостью души и материи, а кроме того, пришел в эту землю еще очень юным и мягким; тем проще и тем удобней приобретала его натура местные черты, что, во-первых, если говорить о предпосылках физических, – в облике его, бог весть почему, всегда было что-то египетское – тонкие члены, лежевесные плечи, а во-вторых, если говорить о нравственных предпосылках, положение приспосабливающегося к жизни «детей страны» чужеземца было для него не новым, а издавна знакомым, традиционным: ведь и дома он и его соплеменники, потомки Аврама, всегда жили среди детей страны как гости, как «герим», хоть и давно уже обвыкнув, освободившись, приладившись и прижившись, но все же с какой-то внутренней оговоркой, с отстраненным и трезвым взглядом на мерзкие бааловские обычаи истинных детей Канаана. Так жил теперь и Иосиф в земле Египетской; как дитя мира, он легко примирял внутреннюю оговорку с приспособленчеством, ибо эта-то оговорка и помогала ему приспосабливаться, не боясь, что он предаст бога, элохима, который привел его в эту страну и на чье согласие и милостивую снисходительность следовало доверчиво рассчитывать, если он, Иосиф, будет во всех отношениях походить на египтянина и внешне целиком уподобится сынам Хапи и подданным фараона – но, конечно, раз навсегда оговорит эту молчаливую свою оговорку. Удивительная получалась картина: с одной стороны, именно как дитя земное, он бодро приспосабливался к быту сынов Египта и был в ладу с их прекрасной культурой; но, с другой стороны, они-то как раз и были детьми земными, на которых он глядел отрешенно, с доброжелательной снисходительностью, проникнутый духовной иронией своего племени по отношению к затейливой мерзости их обычаев.
Его захватил и закружил египетский год с чередою своих времен, с непрерывным хороводом своих праздников, началом которого можно было считать любой: новогодний праздник в начале затопления, невероятно суматошный и богатый надеждами день, оказавшийся, впрочем, как выяснится, роковым для Иосифа; или годовщину вступления на престол фараона, день, когда вновь оживали радостные надежды народа, связанные с первым днем нового правления и новой эпохи: что теперь на смену несправедливости придет справедливость и что люди будут жить, не уставая смеяться и удивляться; или любой другой памятный и праздничный день; ибо это был круговорот повторений.
Иосиф вступил в природу Египта в пору спада воды, когда уже обнажилась земля и совершился посев. В эту пору Иосиф был продан, а потом он последовал дальше в глубь года и вместе с ним закружился: пришла пора урожая, длившаяся, судя по ее названию, вплоть до знойного лета и до тех дней, которые мы называем июнем, когда обмелевшая река, к благоговейному ликованию народа, вновь поднималась и медленно выходила из берегов, тщательно наблюдаемая и измеряемая чиновниками фараона, ибо весьма важно было, чтобы река разливалась правильно, не слишком буйно, но и не слишком вяло, так как от этого зависело, будет ли пища у детей Кеме, выдастся ли удачный для сбора налогов год и сможет ли фараон продолжить строительные работы. Шесть недель поднимался и поднимался кормилец-поток, он поднимался бесшумно, пядь за пядью, и днем, и ночами, когда люди спали, но даже и во сне не переставали верить в него. И лишь позднее, в пору самого жаркого солнца, которую мы назвали бы второй половиной июля, а дети Египта называли месяцем паофи, вторым месяцем своего года и своего первого времени года, того, что именовалось ахет, поток набирал полную силу и разливался далеко в обе стороны, затопляя поля и покрывая страну, эту особенную, неповторимую, не имевшую себе равных в мире страну, которая поэтому, на первых порах к веселому изумлению Иосифа, превращалась в одно сплошное священное озеро, где, однако, благодаря возвышенному их положению, выступали, подобно островам, города и деревни, связанные между собой проезжими насыпями. Так, давая своему туку, питательному своему илу, осесть на поля, бог стоял целых четыре недели, вплоть до второго, зимнего времени года, которое называлось перет: тут он начинал чахнуть и вновь входить в свои берега – «воды убывали», так определял это явление глубоко пораженный Иосиф, и к нашему январю уже снова умещались в старом своем русле, где, впрочем, продолжали спадать и убывать до самого лета; и семьдесят два дня – это были дни семидесяти двух заговорщиков, дни зимней засухи, когда бог терял силы и умирал, – проходило до того дня, когда фараоновы стражи потока сообщали, что он вновь стал расти и что начался новый благословенный год, может быть, умеренный, а может быть, и обильный, но во всяком случае, избави Амун, не голодный и не настолько бедный оброками, чтобы фараон и вовсе перестал строить.
Для Иосифа время от новогодья до новогодья или от той поры, когда он впервые вступил в эту страну, до другой такой же, летело быстро; быстро, откуда ни считай, летело оно через три поры года, затопленье, посев и жатву, через четыре месяца каждой поры, через праздники, которые каждую из них украшали и в которых он, как дитя мира, участвовал, уповая на высшую снисходительность и с внутренней оговоркой; участвовать в них, и притом с самым невозмутимым видом, он должен был хотя бы уже потому, что идолопоклоннические эти празднества были тесно связаны с хозяйственной жизнью, а он, состоя на службе у Петепра и будучи поверенным Монт-кау, не мог избегать приуроченных к священным обрядам рынков и ярмарок, ибо торговая жизнь всегда бьет ключом в больших человеческих скопищах. В преддверьях фиванских храмов торговля, благодаря повседневным жертвоприношениям, велась непрестанно; но и выше и ниже по реке было множество мест паломничества, куда отовсюду толпами стекался народ, если тот или иной бог, справляя свой праздник, украшал свой дом, вещал устами гадателей и одновременно с подкреплением духовным обещал гулянья, веселую толчею, шумные торжища. Не у одной только Бастет, этой почитаемой в Дельте кошки, был свой праздник, о котором Иосиф некогда услыхал всякие непристойности. К мендесскому или, как говорили дети Кеме, к джедетскому козлу богомольцы из дальних и ближних мест ежегодно прибывали точно такими же и даже, пожалуй, еще более веселыми толпами, так как грубый и похотливый козел Биндиди был еще популярнее кошки Бастет и во время своего праздника публично совокуплялся с какой-нибудь девственницей. Мы можем, однако, поручиться за то, что Иосиф, хоть он и совершал деловые поездки на козлиную ярмарку, на это зрелище никогда не оглядывался и, как поверенный своего управляющего, был занят только сбытом папируса, посуды и овощей.
Леопардовая шкура была, строго говоря, некоей узурпацией, ибо она являлась частью убранства Первого пророка Атума-Ра в Оне и служителям Амуна не полагалась. Но Бекнехонс всегда сам определял, что ему полагается, и все, в том числе Иосиф, отлично понимали, почему он носит первобытную одежду людей, священную шкуру. Он хотел этим показать, что Атум-Ра растворился в Амуне, что он является лишь разновидностью фиванского владыки и в известной мере, да и не только в известной мере, ему подчинен. Ибо Амун, то есть Бекнехонс, добился того, что верховный пророк Ра в Оне принял почетное звание второго жреца Амуна в Фивах, а поэтому здесь, в Фивах, главенство над ним первосвященника и право первосвященника на его знаки отличия были очевидны. Но даже и в Оне, резиденции Ра, это превосходство оставалось в силе. Ибо мало того что Бекнехонс называл себя «предводителем жрецов всех богов в Фивах», он присвоил себе также звание «предводителя жрецов всех богов Верхнего и Нижнего Египта» и был, следовательно, сверхпервым и в доме Атума-Ра. Так неужели же он не имел права носить леопардовую шкуру? Нельзя было без страха глядеть на него при мысли о его значении; что же касается Иосифа, то он уже достаточно сжился с землею Египетской, чтобы тревожиться и недоумевать по поводу того, что фараон бесконечными своими дарами непрестанно умножает богатство и гордость этого могучего мужа, теша себя представлением, будто он благодетельствует лишь собственному отцу Амуну, а следовательно, себе самому. Иосиф, для которого, хотя он этого и не показывал, Амун-Ра был таким же идолом, как всякий другой, – отчасти овном в своем приделе, отчасти же куклой в ларце своего капища, которую катали по Иеору в нарядном струге просто потому, что не могли придумать ничего лучшего, – Иосиф судил в данном случае свободнее и острее, чем фараон; он считал, что тот поступает неверно и неумно, безудержно обогащая своего мнимого отца, и, глядя, как князь Амуна исчезает в гареме, Иосиф проникался уже, следовательно, более высокой заботой, чем забота о собственном благе, заботой государственной, хотя и знал, что там, в гареме, ведутся весьма сомнительные речи о нем самом.
От маленького Боголюба, самого первого его покровителя в Потифаровом доме, ему было известно, что Дуду уже не раз приходил к Мут, госпоже, с жалобами на него, Иосифа: подслушивая эти беседы из самых невероятных укрытий, карлик шепотом передавал их Иосифу с такими подробностями, что тот воочию видел, как смотритель одежной стоял в накрахмаленном набедреннике перед их повелительницей и, напыщенно прикрывая нижнюю свою губу крышей верхней, возмущенно жестикулируя коротенькими ручками и стараясь говорить как можно более низким голосом, жаловался госпоже на это досадное неблагополучие. Раб Озарсиф, как он невразумительно и, видимо, произвольно называет себя, – говорил карлик, – этот хабирский мошенник, этот молокосос-чужеземец, постыдным образом возвышается в доме и пользуется, на беду, большой благосклонностью – можно не сомневаться, что Сокрытый глядит на это с неодобрением. Вопреки его, карлика, дельному совету. Озарсиф был за слишком дорогую цену, сто шестьдесят дебенов, куплен у мелких торговцев пустыни, укравших его из колодца, куда его бросили в наказание, и благодаря хлопотам этого пустомели, этого холостого шута Шепсес-Беса, попал в дом Петепра. Но вместо того чтобы послать этого мерзкого чужеземца в поле на барщину, как люди почтенные и советовали управляющему, тот сначала предоставил ему слоняться без дела по двору, а затем, в финиковом саду, позволил поговорить с Петепра, чем этот повеса более чем бесстыдно воспользовался. Он прожужжал господину уши своей злокозненной болтовней, которая была поношением Амуну и оскорблением верховной силе Солнца; но этим ему удалось обворожить и преступно околдовать священного повелителя, и тот назначил его своим личным слугой и чтецом; а Монт-кау обращается с ним и вовсе как со своим сыном, вернее даже – как с молодым хозяином, позволяя ему знакомиться со всем в доме, как будто тот достанется ему в наследство, и изображать из себя заместителя управляющего – это паршивому-то азиату в египетском доме! Он, Дуду, осмеливается почтительнейше указать госпоже на эти ужасные обстоятельства, ибо разгневанный ими Сокрытый может отомстить за столь пагубное свободомыслие тем, кто в нем провинился и его терпит.
– И что же ответила госпожа? – спросил Иосиф. – Передай мне все в точности, маленький Боголюб, и постарайся повторить ее собственные слова.
– Вот ее слова, – отвечал карлик. – «Покуда вы говорили, смотритель одежной, – сказала она, – я все думала, кого собственно вы имели в виду и на какого раба вы жаловались, ибо моя память ничего мне не подсказала.
Вы не можете от меня требовать, чтобы я помнила всех слуг дома и сразу же догадывалась, на кого вы изволили намекнуть. Но поскольку вы дали мне время подумать, у меня возникло предположение, что вы имеете в виду того еще юного годами слугу, который с некоторых пор за обедом наполняет кубок супругу моему Петепра. Этот серебряный набедренник я при известном усилии смутно припоминаю».
– Смутно? – не без разочарования переспросил Иосиф. – Возможно ли, чтобы у нашей госпожи было такое уж смутное представление обо мне, если я каждодневно нахожусь близ нее и близ господина во время трапез, да и вообще она не может не знать о милости, которой я пользуюсь у него и у Монт-кау? Я удивлен, что ей пришлось так долго и напряженно рыться в памяти, прежде чем она сообразила, о ком говорил этот зловредный Дуду. А что она еще сказала?
– Она сказала, – продолжил свой отчет карлик, – она сказала вот что: «Зачем, однако, вы приходите с этим ко мне, смотритель одежной? Вы же навлекаете на меня гнев Амуна. Ведь вы сами сказали, что он разгневается на тех, кто терпит подобные непорядки. А если я ничего не знаю, то, значит, я ничего не терплю, и вам следовало бы пощадить меня и оставить в неведенье, а не подвергать ненужной опасности».
Над этими словами Иосиф посмеялся и горячо их одобрил.
– Какой великолепный ответ и какой умный выговор! Рассказывай дальше о госпоже, маленький Бес! Только повтори мне все в точности, ибо, надеюсь, ты был внимателен!
– А дальше, – отвечал Боголюб, – говорил зловредный Дуду. Он стал оправдываться и сказал: «Я сообщил госпоже об этом ужасном положении не для того, чтобы она терпела его, а для того, чтобы она его прекратила; из любви к ней я предоставил ей возможность оказать услугу Амуну, посоветовав господину выгнать этого нечистого раба из дому и, поскольку он уже куплен, отправить, как то ведется, на барщину, чтобы он не сделался здесь управляющим и, обнаглев, не поставил себя выше детей страны».
– Прескверно, – сказал Иосиф. – Отвратительная, гнусная речь! Но госпожа, что ответила ему госпожа?
– Она, – доложил Боголюб, – ответила так: «Ах, строгий карлик, госпоже редко удается поговорить по душам с господином. Прими во внимание чинность этого дома и пойми, что у нас с господином не такие отношения, как, например, у тебя с той, что обнимает тебя одной рукою, с твоей задушевной подругой Цесет. Она запросто приходит к тебе, смело говорит с тобой, со своим супругом, обо всем, что касается ее и тебя, и при случае дает тебе те или иные советы. Она мать, она родила тебе двоих пригожих детей, Эсези и Эбеби, а поэтому ты благодарен ей и у тебя есть все основания прислушиваться к голосу такой заслуженной, плодовитой жены и уважать ее желания и ее просьбы. А кто я нашему господину, с какой стати он будет меня слушаться? Ты знаешь, как велико его упрямство, какое у него гордое и глухое сердце; я бессильна перед ним со своими увещеваниями».
Иосиф помолчал, задумчиво глядя поверх своего маленького друга, который озабоченно подпер ручкой измятое личико.
– Ну а что сказал на это хранитель платья? – спросил через несколько мгновений сын Иакова. – Нашел ли он какой-нибудь ответ и продолжал ли нести свое?
Малыш ответил отрицательно. После слов госпожи Дуду с достоинством умолк; зато госпожа прибавила, что постарается поскорей поговорить об этом с отцом первосвященником. Ведь поскольку Петепра возвысил этого чужеземца, после того как услыхал его рассуждения о делах солнечных, здесь явно замешаны политика и религия, а это уже касается Бекнехонса, князя Амуна, ее друга и исповедателя. Он должен обо всем узнать, и в его отцовское сердце изольет она для своего облегчения то, что поведал ей об этом непорядке Дуду.
Вот каковы были новости доброго карлика. Но позднее Иосиф вспоминал, что тогда Бес-эм-хеб долго еще сидел у него – в смешном своем наряде, с душницей на парике, опершись подбородком на ручку и мрачно щурясь.
– Что ты щуришься, Боголюб в доме Амуна, – спросил он, – зачем продолжаешь размышлять об этих делах?
А тот ответил своим стрекочущим голоском:
– Ах, Озарсиф, малыш думает о том, как это нехорошо, что наш злой куманек говорит о тебе с нашей госпожой Мут, – это очень и очень нехорошо!
– Конечно, – сказал Иосиф. – Зачем ты говоришь мне об этом? Ведь я и сам знаю, что это совсем нехорошо и даже опасно. Но видишь, я принимаю это с легким сердцем, ибо надеюсь на бога. Разве госпожа не призналась сама, что она не имеет такого уж большого влияния на Петепра? Ее словечка и знака еще далеко не достаточно, чтобы отправить меня на барщину, можешь не беспокоиться!
– Как же мне не беспокоиться, – прошептал Бес, – если это опасно и по-другому, совсем в другом отношении – то, что наш куманек, поговорив с госпожой, прояснил ее смутное представление о тебе.
– Ну, это пойми, кто может! – воскликнул Иосиф. – Я, во всяком случае, этого не понимаю, и мне темна карличья твоя болтовня. Опасна и по-другому, совсем с другой стороны? Что за темные слова ты мне шепчешь?
– Да, я шепчу, шепчу о своем страхе и о своих подозрениях, – послышался снова голос маленького Боголюба, – я вышептываю тебе беспокойную карличью мудрость, которая до тебя, долговязого, никак не доходит. Куманек хочет сделать тебе худо, но возможно, что он, против собственной воли, сделает тебе доброе дело, и даже слишком доброе, так что опять получится худо, куда хуже, чем рассчитывал сделать.
– Ну, дружок, ты на меня не обижайся, но того, что лишено смысла, человек не может понять. Худо, хорошо, слишком хорошо, еще хуже? Да это какая-то карличья галиматья, какая-то пустяковая тарабарщина, которой я при всем желании не в силах понять!
– А почему ты покраснел, Озарсиф, и почему ты сердишься так же, как раньше, когда я тебе сказал, что у госпожи было о тебе смутное представленье? Карличья мудрость предпочла бы, чтобы оно так и осталось смутным, ибо это опасно, дважды опасно, еще опаснее опасности, что проклятый куманек заморочит ее своей зловредностью. Ах, – сказал малыш и спрятал лицо в ладошках, – карлик полон страха и ужаса перед врагом, перед быком, чье огненное дыханье опустошает ниву.
– Какую ниву? – спросил Иосиф с подчеркнутым недоумением. – И что это за огнедышащий бык? Ты сегодня немного не в себе, и я ничем не могу тебе помочь. Сходи к Краснопузому, пусть он попотчует тебя успокоительным соком кореньев, который охладит твою голову. А я займусь своими делами. Могу ли я помешать Дуду жаловаться на меня госпоже, даже если это и очень опасно? Однако ты видишь, что я надеюсь на бога, и поэтому ты не должен отчаиваться. Будь и впредь начеку и старайся не пропускать ни одного слова из того, что Дуду будет говорить госпоже, а особенно из ее ответов, чтобы передавать мне все в точности. Ибо мне нужно знать все толком.
Вот как (и позднее Иосиф вспоминал это) проходил тогда разговор, во время которого маленький Боголюб держался так странно испуганно. Но в самом ли деле только благодаря надежде на бога и без всяких иных оснований Иосиф так сравнительно бодро воспринял известие о кознях Дуду?
До сих пор он был для своей повелительницы если не в полном смысле слова пустым местом, то, по крайней мере, незаметным предметом домашней утвари, таким же, каким был в роли Немого Слуги для Гуия и для Туий. Дуду, желая ему зла, во всяком случае, изменил это положение. Если теперь во время трапез, когда Иосиф подавал кушанья и наполнял кубок своему господину, на него падал взгляд госпожи, то падал он уже не по чистой случайности, как на предмет неодушевленный, – нет, теперь она глядела на него лично, глядела, как на явление, имеющее свою подоплеку и свои связи, которые дают приятный или неприятный повод задуматься. Одним словом, эта знатная дама Египта стала с недавних пор его замечать. Ее внимание было, разумеется, очень слабым и мимолетным; сказать, что глаза ее задерживались на нем, было бы преувеличением. Но на мгновение, на какой-то миг они не раз испытующе к нему устремлялись – при мысли, впрочем, и при воспоминании о том, что она должна поговорить о нем с Бекнехонсом; а Иосиф, глядя сквозь ресницы, отмечал такие мгновения; ни одно из них, при всем внимании, которое он должен был уделять Петепра, от него не ускользало, хотя всего лишь один или два раза этот взгляд был двусторонним и их глаза, глаза госпожи и слуги, случайно встречались, и тогда ее взор оказывался равнодушным, гордым и строго-неторопливым, а его взгляд, полный сначала почтительного испуга, поспешно скрывался за веками и становился смиренным.
Это стало случаться после того, как Дуду побеседовал с госпожой. Прежде этого не случалось, и, говоря между нами, это было Иосифу не так уж и огорчительно. Он видел в этом известный успех и был почти благодарен своему врагу Дуду за его донос. И когда Бекнехонс явился в гарем в следующий раз, Иосифу была довольно-таки приятна мысль, что речь там пойдет, вероятно, о нем, Иосифе, и о его возвышении. С этой мыслью, при всей ее тревожности, было связано известное удовлетворение, более того – радость.
Какие именно там велись речи, он узнал опять-таки от потешного визиря, умудрившегося подслушать их из какого-то закутка. Сначала жрец и дама из ордена беседовали о делах богослужебных и о светских событиях – они, как, пользуясь вавилонским выражением, говорили дети Египта, «чесали язык», другими словами, перебирали столичные сплетни; и когда потом зашла речь о Петепра и о его доме, госпожа действительно передала своему духовному другу жалобу Дуду и рассказала ему о непорядке с рабом-евреем, которому царедворец и его управляющий столь вызывающим образом мирволят и покровительствуют. Бекнехонс выслушал это сообщение, качая головой, так, словно оно подтверждало его печальные ожидания общего характера и как нельзя лучше соответствовало нравственному облику эпохи, почти вовсе утратившей благочестие тех времен, когда в ходу были такие узкие и короткие набедренники, как у него, Бекнехонса. Это, сказал жрец, несомненно скверный признак. Вот он, разрушительный дух пренебрежения к исконному мироустройству: поначалу изысканный и веселый, он затем поневоле оборачивается запустением и дикостью и, разрушая самые священные связи, истощает страны, и вот уже скипетр их не внушает страха на побережье, и царство гибнет. По словам маленького Боголюба, первосвященник тотчас же отклонился от темы: он увлекся и, указуя перстами в разные стороны, стал рассуждать о делах государственных, о господстве над миром, о сохранении власти. Он говорил о митаннийском царе Тушратте, которого следует сдерживать с помощью Шуббилулимы, великого правителя царства Хатти на севере, не допуская, однако, чтобы тот сдерживал его слишком успешно. Ведь если воинственная Хета, целиком подчинив себе Митанни, продвинется на юг, то это представит опасность для сирийских владений фараона, добытых завоевателем Мен-хепер-Ра-Тутмосом, тем более что она и так может в один прекрасный день, обойдя Митанни, вторгнуться в приморскую страну Амки между Амановыми и Кедровыми горами, если того пожелают дикие боги Хеты. Правда, на шахматной доске мира этому противостоит фигура аморитянина Абдаширту, который, будучи данником фараона, правит землями между Амки и Ханигалбатом и призван препятствовать продвижению Шуббилулимы на юг. Но препятствовать этому продвижению аморитянин станет лишь до тех пор, покуда страх перед фараоном будет в его сердце сильнее, чем страх перед Хатти, – а иначе он непременно стакнется с Хатти и предаст Амуна. Ведь все эти царьки, платящие дань после покорения Сирии, сразу же становятся предателями, стоит лишь хоть немного ослабеть страху, в котором приходится держать всех, в том числе бедуинов и кочевников-степняков, которые, не будь у них страха, кинулись бы на плодородную землю и опустошили бы города фараона. Короче говоря, множество забот требует от Египта решительности и собранности, если он хочет сохранить своему скипетру страх, а своим венцам – царство. А поэтому он должен, как в древние времена, благочестиво блюсти обычаи и не отступать от правил строгой нравственности.
– Сильный человек, – сказал Иосиф, выслушав эту речь. – Вместо того чтобы посвятить себя богу и быть зеркальноголовым слугой господним, который, как добрый отец своего народа, протягивает руку всем, кто оступится, – вместо этого он целиком занят земными делами и политическими вопросами – просто удивительно. Говоря между нами, маленький Боголюб, заботу о царстве и страхе народов он должен был бы предоставить фараону, который для того и сидит во дворце; ведь можно не сомневаться, что во времена, восхваляемые им в ущерб нынешним, отношения между храмом и дворцом были именно таковы. А наша госпожа – она больше ничего не сказала после его слов?
– Я слышал, – сказал карлик, – как она ответила на эти слова. Она ответила так: «Ах, отец мой, разве я ошибаюсь: когда Египет держался благочестивых и строгих обычаев, он был беден и мал, и ни на юг, за пороги реки, в страну негров, ни на восток, к попятнотекущей реке, не уходили его рубежи так далеко по землям платящих оброк народов. Но бедность уступила место богатству, а из тесноты возникло царство. Теперь и страны, и Уазе, великая их столица, кишат чужеземцами, богатства так и текут в Египет, и все стало новым. Но разве тебя не радует и новое, итог и награда старого? Из оброка, выплачиваемого народами, фараон приносит щедрые жертвы отцу своему Амуну, благодаря чему этот бог может строить сколько его душе угодно, наполняясь силой, словно река весной, когда вода ее достигает самого высокого уровня. Так неужели отец мой не одобряет хода событий, последовавшего за благочестивой стариной?»
«Совершенно справедливо, – ответил на это, как передал Боголюб, Бекнехонс, – дочь моя очень верно ставит вопрос о странах, ибо вопрос этот стоит так: добрая старина несла в себе новое, то есть богатство и царство, как свою награду, но награда, то есть богатство и царство, – несет в себе ослабление, истощение, утрату. Как же поступить, чтобы награда не стала проклятием, чтобы добро не вознаградилось в итоге злом? Вот как стоит вопрос, и карнакский владыка, бог царства Амун, отвечает на него так: старое должно властвовать в новом, а править царством должны сила и строгость, и тогда царство не ослабеет и не лишится заслуженной им награды. Ибо не сыновьям нового, а сыновьям старого по праву принадлежит царство и подходят венцы: и белый, и красный, и синий, и, кроме того, венец богов».
– Убедительно, – сказал Иосиф, когда карлик умолк. – Убедительный, сильный ответ довелось тебе услыхать благодаря твоему малому росту, дружок Боголюб. Он пугает меня, хотя и не удивляет, ибо, в сущности, я всегда подозревал, что таковы взгляды Амуна, – подозревал уже с тех пор, как впервые увидел его ратников на улице Сына. И едва лишь наша госпожа заикнулась обо мне, Бекнехонс так увлекся, что про меня они, видно, и вовсе забыли. Вернулись ли они, насколько тебе удалось услышать, к разговору обо мне вообще?
Они сделали это, доложил Шепсес-Бес, лишь в самом конце, и на прощанье первосвященник Амуна пообещал в ближайшее время взяться за Петепра и заставить его задуматься о покровительстве рабу-чужеземцу с точки зренья суровых старинных правил.
– В таком случае, – сказал Иосиф, – я должен дрожать, я должен бояться, что Амун положит конец моему возвышению, ибо как мне жить, если он будет против меня? Это очень скверно, дружок Боголюб. Ведь если я окажусь на барщине теперь, после того как писец урожая уже сгибался передо мной, мне придется еще хуже, чем если бы я попал в поле сразу и днем изнывал бы там от зноя, а ночью дрожал от холода. Ты думаешь, Амуну удастся так со мной обойтись?
– Я не настолько глуп, – застрекотал малыш. – Я ведь не женат, чтобы утратить карличью мудрость. Правда, я вырос – если я вправе так выразиться – в страхе перед Амуном. Но я давно понял, что за тобой, Озарсиф, стоит бог, который сильней и умней Амуна, и я никогда не поверю, чтобы он отдал тебя в его руки и позволил тому, что в капище, указать твоему возвышению иной предел, нежели назначенный им самим.
– А если так, то не горюй, Бес-эм-хеб, – воскликнул Иосиф, осторожно, чтобы не причинить ему боли, ударив по плечу карлика, – и не беспокойся обо мне! В конце концов я тоже могу поговорить с господином с глазу на глаз и заставить его кое о чем призадуматься, тем более что об этом, наверно, задумывается и его господин – фараон. Вот он и послушает нас обоих, Бекнехонса и меня. Первосвященник будет говорить ему о рабе, а раб – о боге, – посмотрим, к кому он отнесется с большим вниманием, то есть я хочу сказать: не к кому, а к какому предмету, пойми меня правильно. А ты, мой друг, будь по-прежнему начеку и, когда Дуду станет снова жаловаться на меня госпоже, благоразумно схоронись в закутке, чтобы я опять услыхал и его слова, и ее!
Так и было. Ибо известно, что одной жалобой дело не ограничилось, что смотритель одежной не отступался и время от времени осуждающе напоминал Мут-эм-энет о возмутительном покровительстве какому-то чужеземцу из карающей ямы. Боголюб занимал при этом свой наблюдательный пост и, донося обо всем Иосифу, добросовестно уведомлял его о каждом шаге Дуду. Но даже если бы он и не был столь бдителен, Иосиф все равно узнавал бы о каждой жалобе женатого карлика на его, Иосифа, возвышение; ибо за ней следовали взгляды в столовой. И если они на много дней прекращались, так что Иосиф уже начинал грустить, то их возврат и мгновения, когда эта женщина снова смотрела на него испытующе-строго, как на человека, а не как на вещь, ясно показывали ему, что Дуду опять приходил к ней с жалобами, и тогда Иосиф говорил себе: он напомнил ей обо мне. Как это опасно! А сам думал при этом: «Как это отрадно!» – и был даже до некоторой степени благодарен Дуду за то, что он напомнил о нем.
Иосиф все больше превращается в египтянина
Уже невидимый отцовскому глазу, но живой по-прежнему и оставшийся вдали от него самим собой, Иосиф вглядывался и вживался в египетское бытие: он быстро надел ярмо новых требований, хотя мальчиком, в первой своей жизни, не знал никаких обязанностей и усилий и коротал дни как придется; теперь он деятельно старался подняться на высоту намерений бога, занятый цифрами, инвентарем, товарами, деловыми частностями, а кроме того, вовлеченный в сеть щекотливых, требующих непрестанного внимания человеческих отношений, нити которой вели к Потифару, к доброму Монт-кау, к карликам и бог весть к кому еще внутри и вне дома, – обо всех этих людях на старом его месте, там, где был Иаков и были братья, никто и знать не знал.
Это было далеко-далеко, дальше, чем в семнадцати днях пути, и еще дальше, чем были удалены от своего сына Исаак и Ревекка, когда Иаков вглядывался и вживался в бытие месопотамское. Тогда они тоже понятия не имели о людях и отношениях, окружающих сына, а ему было совсем чуждо их бытие. Где ты, там и мир – узкий круг, в котором живешь, познаешь и действуешь; остальное – туман. Правда, люди всегда стремились переместиться, чтобы погрузилось в туман то, что примелькалось, и поглядеть на иное бытие. Сильно было среди них и неффалимовское стремление – метнуться в туман и сообщить его жителям, которые знали только свой мир, о мире здешнем, и, наоборот, доставить домой любопытные сведения об их бытии. Короче говоря, сообщение и связи существовали. Существовали они испокон веку и между далекими друг от друга местами людей Иакова, с одной стороны, и Потифаровыми, с другой. Ведь уже и урский странник, привыкший менять поле своего зрения, побывал в Стране Ила, хотя, впрочем, не так далеко внизу, как Иосиф теперь, а его супруга-сестра, «прабабка» Иосифа, одно время находилась даже в гареме фараона, который тогда блистал на своем горизонте еще не в Уазе, а выше, несколько ближе к сфере Иакова. Связи между этой сферой и той, что включала теперь в себя Иосифа, существовали всегда: разве мрачный красавец Измаил не взял в жены одну из дочерей Ила и разве не этому союзу были обязаны своим существованием полуегиптяне-измаильтяне, избранные и призванные доставить Иосифа вниз? Множество людей, как и они, занималось торговлей между реками, и тысячу лет и дольше сновали по миру гонцы в набедренниках с письмами-кирпичами в складках одежды. Но если эта неффалимовская деятельность была привычной и давней, то расширилась и распространилась она только теперь, в эпоху Иосифа, когда страна его второй жизни и его отрешения стала уже настоящей страной внуков, не замыкаясь более в строгом своеобычии, как того все еще хотел Амун, а приветливо открывшись миру и проникшись такой вольностью нравов, что никому не ведомому мальчику-азиату потребовалось только известное умение прощаться на ночь и делать из нуля двойку, чтобы стать личным слугой египетского вельможи и всем, чем угодно!
О нет, в возможностях связи между местами Иакова и местами его любимца не было недостатка; но Иосиф, в чьей власти было воспользоваться ими (ведь он знал местонахождение отца, а тот его местонахождения не знал) и которому это ничего не стоило, так как, будучи правой рукой управляющего большим хозяйством и отлично постигнув искусство обобщать и обозревать, он мог прекрасно обозреть и способы снестись с отцом, – Иосиф этого не делал, не делал в течение многих лет, не делал по причинам, давно уже нам известным, ни одна из которых, пожалуй, не будет обойдена, если определить их одним словом: ожидание. Теленок не мычал, он молчал, как мертвый, и, не давая знать корове, на какое поле отвел его человек, он, разумеется, с согласия человека, требовал ожидания и от нее, сколь бы трудным оно ни было именно для нее, ибо корова вынуждена была считать теленка растерзанным.
Нам странно подумать, нас даже смущает мысль, что Иаков, этот скрытый где-то в тумане старик, все это время считал своего сына мертвым, – она смущает нас потому, что, с одной стороны, за него можно порадоваться, так как он заблуждался, а с другой стороны, как раз из-за этого заблужденья его и жаль. Ведь известно, что для того, кто любит, смерть любимого человека имеет и свои преимущества, хотя преимущества, может быть, и несколько унылого характера; и, следовательно, если разобраться, то этот искупающий свою вину старец заслуживает двойного сострадания, коль скоро он считал Иосифа мертвым, а тот даже и не был мертв. Отцовское сердце тешило себя – правда, казнясь тысячей мук, но все же и к сладостному своему утешению, – уверенностью в его смерти; оно мнило, что он, хранимый и укрытый смертью, неизменен и неуязвим, что он больше не нуждается в опеке и навек остался тем семнадцатилетним мальчиком, который уехал верхом на белой Хульде; а все это было сплошным заблуждением – и муки, и постепенно побеждавшая их утешительная уверенность. Ибо тем временем Иосиф был жив и не был застрахован ни от каких передряг. Хоть и похищенный, он не был отнят у времени и не оставался семнадцатилетним юнцом, а рос и созревал там, где он был: ему исполнялось и девятнадцать, и двадцать, и двадцать один; разумеется, он был по-прежнему Иосифом, но отец уже не узнал бы его, во всяком случае – с первого взгляда. Материя его жизни менялась, сохраняя, однако, свое счастливое благообразие; он созревал и делался шире и крепче, будучи уже не полумальчиком-полуюношей, а полуюношей-полумужчиной. Еще несколько лет, и от материи того Иосифа, которого обнимал на прощанье Иаков-Ревекка, не останется уже ничего – не больше, чем если бы плоть его была разрушена смертью; только меняла его не смерть, а жизнь, и поэтому облик Иосифа до некоторой степени уцелел. Он уцелел в меньшей мере, чем его могла уберечь в чьем-либо сердце и действительно обманчиво уберегла в сердце Иакова охранница-смерть. Нужно, однако, иметь в виду, что когда речь идет об облике и материи, то вовсе не так и существенно, как нам это кажется, кто удалил из поля нашего зрения то или иное лицо – смерть или жизнь.
Вдобавок и материю, благодаря которой она, меняясь и созревая, приобретала свой облик, жизнь Иосифа извлекала совсем из другой сферы, чем если бы он оставался на глазах у Иакова, а это тоже накладывало отпечаток на его облик. Его питали воздух и соки Египта, он ел пищу Кеме, клетки его тела пропитывались и набухали влагой этой страны, облучались ее солнцем; он одевался в полотно из ее льна, ходил по ее земле, сообщавшей ему свои старые силы и свои безмолвные идеи формы, изо дня в день видел воочию рукотворные воплощения этой безмолвно-решительной всесвязующей главной идеи, наконец, говорил на языке этой страны, который видоизменил его губы и его подбородок настолько, что вскоре Иаков, отец, сказал бы ему: «Отпрыск мой, Даму, что сталось с губами твоими? Я не могу их узнать».
Словом, Иосиф все больше превращался в египтянина лицом и манерами, и происходило это с ним легко, быстро и незаметно, ибо он, как истинное дитя мира, отличался гибкостью души и материи, а кроме того, пришел в эту землю еще очень юным и мягким; тем проще и тем удобней приобретала его натура местные черты, что, во-первых, если говорить о предпосылках физических, – в облике его, бог весть почему, всегда было что-то египетское – тонкие члены, лежевесные плечи, а во-вторых, если говорить о нравственных предпосылках, положение приспосабливающегося к жизни «детей страны» чужеземца было для него не новым, а издавна знакомым, традиционным: ведь и дома он и его соплеменники, потомки Аврама, всегда жили среди детей страны как гости, как «герим», хоть и давно уже обвыкнув, освободившись, приладившись и прижившись, но все же с какой-то внутренней оговоркой, с отстраненным и трезвым взглядом на мерзкие бааловские обычаи истинных детей Канаана. Так жил теперь и Иосиф в земле Египетской; как дитя мира, он легко примирял внутреннюю оговорку с приспособленчеством, ибо эта-то оговорка и помогала ему приспосабливаться, не боясь, что он предаст бога, элохима, который привел его в эту страну и на чье согласие и милостивую снисходительность следовало доверчиво рассчитывать, если он, Иосиф, будет во всех отношениях походить на египтянина и внешне целиком уподобится сынам Хапи и подданным фараона – но, конечно, раз навсегда оговорит эту молчаливую свою оговорку. Удивительная получалась картина: с одной стороны, именно как дитя земное, он бодро приспосабливался к быту сынов Египта и был в ладу с их прекрасной культурой; но, с другой стороны, они-то как раз и были детьми земными, на которых он глядел отрешенно, с доброжелательной снисходительностью, проникнутый духовной иронией своего племени по отношению к затейливой мерзости их обычаев.
Его захватил и закружил египетский год с чередою своих времен, с непрерывным хороводом своих праздников, началом которого можно было считать любой: новогодний праздник в начале затопления, невероятно суматошный и богатый надеждами день, оказавшийся, впрочем, как выяснится, роковым для Иосифа; или годовщину вступления на престол фараона, день, когда вновь оживали радостные надежды народа, связанные с первым днем нового правления и новой эпохи: что теперь на смену несправедливости придет справедливость и что люди будут жить, не уставая смеяться и удивляться; или любой другой памятный и праздничный день; ибо это был круговорот повторений.
Иосиф вступил в природу Египта в пору спада воды, когда уже обнажилась земля и совершился посев. В эту пору Иосиф был продан, а потом он последовал дальше в глубь года и вместе с ним закружился: пришла пора урожая, длившаяся, судя по ее названию, вплоть до знойного лета и до тех дней, которые мы называем июнем, когда обмелевшая река, к благоговейному ликованию народа, вновь поднималась и медленно выходила из берегов, тщательно наблюдаемая и измеряемая чиновниками фараона, ибо весьма важно было, чтобы река разливалась правильно, не слишком буйно, но и не слишком вяло, так как от этого зависело, будет ли пища у детей Кеме, выдастся ли удачный для сбора налогов год и сможет ли фараон продолжить строительные работы. Шесть недель поднимался и поднимался кормилец-поток, он поднимался бесшумно, пядь за пядью, и днем, и ночами, когда люди спали, но даже и во сне не переставали верить в него. И лишь позднее, в пору самого жаркого солнца, которую мы назвали бы второй половиной июля, а дети Египта называли месяцем паофи, вторым месяцем своего года и своего первого времени года, того, что именовалось ахет, поток набирал полную силу и разливался далеко в обе стороны, затопляя поля и покрывая страну, эту особенную, неповторимую, не имевшую себе равных в мире страну, которая поэтому, на первых порах к веселому изумлению Иосифа, превращалась в одно сплошное священное озеро, где, однако, благодаря возвышенному их положению, выступали, подобно островам, города и деревни, связанные между собой проезжими насыпями. Так, давая своему туку, питательному своему илу, осесть на поля, бог стоял целых четыре недели, вплоть до второго, зимнего времени года, которое называлось перет: тут он начинал чахнуть и вновь входить в свои берега – «воды убывали», так определял это явление глубоко пораженный Иосиф, и к нашему январю уже снова умещались в старом своем русле, где, впрочем, продолжали спадать и убывать до самого лета; и семьдесят два дня – это были дни семидесяти двух заговорщиков, дни зимней засухи, когда бог терял силы и умирал, – проходило до того дня, когда фараоновы стражи потока сообщали, что он вновь стал расти и что начался новый благословенный год, может быть, умеренный, а может быть, и обильный, но во всяком случае, избави Амун, не голодный и не настолько бедный оброками, чтобы фараон и вовсе перестал строить.
Для Иосифа время от новогодья до новогодья или от той поры, когда он впервые вступил в эту страну, до другой такой же, летело быстро; быстро, откуда ни считай, летело оно через три поры года, затопленье, посев и жатву, через четыре месяца каждой поры, через праздники, которые каждую из них украшали и в которых он, как дитя мира, участвовал, уповая на высшую снисходительность и с внутренней оговоркой; участвовать в них, и притом с самым невозмутимым видом, он должен был хотя бы уже потому, что идолопоклоннические эти празднества были тесно связаны с хозяйственной жизнью, а он, состоя на службе у Петепра и будучи поверенным Монт-кау, не мог избегать приуроченных к священным обрядам рынков и ярмарок, ибо торговая жизнь всегда бьет ключом в больших человеческих скопищах. В преддверьях фиванских храмов торговля, благодаря повседневным жертвоприношениям, велась непрестанно; но и выше и ниже по реке было множество мест паломничества, куда отовсюду толпами стекался народ, если тот или иной бог, справляя свой праздник, украшал свой дом, вещал устами гадателей и одновременно с подкреплением духовным обещал гулянья, веселую толчею, шумные торжища. Не у одной только Бастет, этой почитаемой в Дельте кошки, был свой праздник, о котором Иосиф некогда услыхал всякие непристойности. К мендесскому или, как говорили дети Кеме, к джедетскому козлу богомольцы из дальних и ближних мест ежегодно прибывали точно такими же и даже, пожалуй, еще более веселыми толпами, так как грубый и похотливый козел Биндиди был еще популярнее кошки Бастет и во время своего праздника публично совокуплялся с какой-нибудь девственницей. Мы можем, однако, поручиться за то, что Иосиф, хоть он и совершал деловые поездки на козлиную ярмарку, на это зрелище никогда не оглядывался и, как поверенный своего управляющего, был занят только сбытом папируса, посуды и овощей.