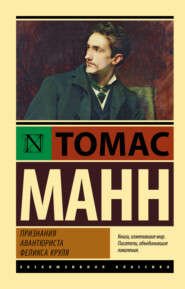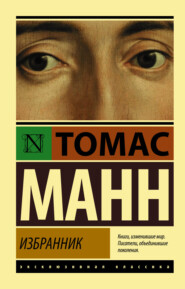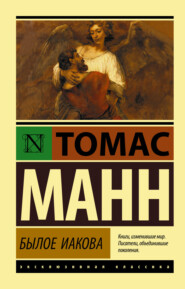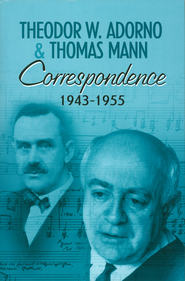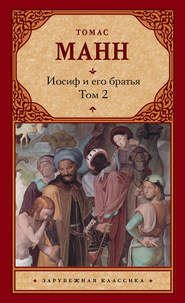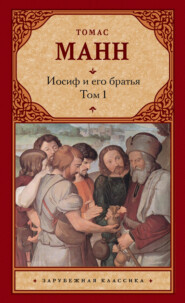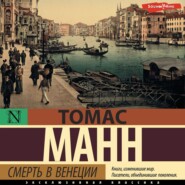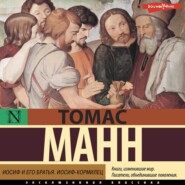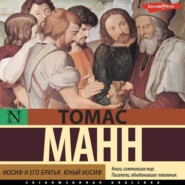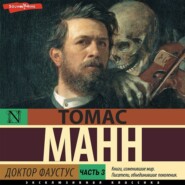По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Смерть в Венеции (сборник)
Автор
Жанр
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Да, все дело в тщеславии! Разве еще отец не называл меня паяцем?
Ах, я был не вправе – я как никто другой – отходить в сторону, игнорировать «общество», это я-то, такой тщеславный, чтобы вынести его небрежение и неуважение, чтобы обойтись без его рукоплесканий! Но ведь речь идет не о праве? Ведь речь идет о необходимости? И моя бесполезная паяцеспособность не пришлась бы ни для какого социального положения? Но теперь я гибну именно из-за нее.
Ах, равнодушие было бы для меня своего рода счастьем… Но я не в силах быть равнодушным к себе, не в силах смотреть на себя иными глазами, кроме как глазами «людей», и от стыда гибну – совершенно невинный… Неужели стыд всегда есть лишь загноившееся тщеславие?
Существует только одно несчастье: перестать нравиться самому себе. Себе не нравиться, вот оно, несчастье – да, я всегда очень отчетливо ощущал это! Все остальное – игра и обогащение жизни, при любом другом страдании можно превосходно любоваться собой, так бесподобно смотреться. Жалкий, отвратительный вид придают тебе только разлад с собой, стыд в страдании, потуги тщеславия…
Объявился старый знакомый, господин по имени Шиллинг, с которым мы некогда совместно служили обществу на крупной лесоторговой фирме г-на Шлифогта. У него возникли дела в моем городе, и он заехал ко мне – «скептический индивид», руки в карманах брюк, пенсне в черной оправе и реалистически терпеливое пожимание плечами. Шиллинг приехал вечером и сообщил:
– Я здесь на несколько дней.
Мы пошли в винную.
Шиллинг говорил со мной, будто я еще был тем самодовольным счастливцем, каким он меня знал, и, искренне полагая, что просто делится со мной своим радостным мнением, сказал:
– Честное слово, славную жизнь ты себе устроил, малыш! Независим, да что там, свободен! Черт подери, ей-богу, ты прав! Живем-то всего один раз, правда? Вообще-то, что человеку до всего остального? Должен сказать, ты из нас двоих оказался умнее. Впрочем, ты всегда был гениален…
И он, как прежде, начал изо всех сил нахваливать меня, говорить любезности, не подозревая, что я обмирал от страха не понравиться.
Я отчаянно силился отстоять то место, что занимал в его глазах, силился казаться, как прежде, на высоте, казаться счастливым и самодовольным – тщетно! Не было стержня, никакого куража, никакого самообладания, я говорил с ним, полный тусклого смущения и сгорбившейся неуверенности, – и Шиллинг уловил это с невероятной быстротой! Было ужасно видеть, как он, в общем, готовый признать старого товарища счастливым, высокого пошиба человеком, начал проницать меня, смотреть с изумлением, набирать прохладцы, высокомерия, нетерпения, отвращения, и, в конце концов, он уже не скрывал своего ко мне презрения, сквозившего уже в каждой его гримасе. Он рано ушел, а на следующий день несколько беглых строк уведомили меня, что ему все-таки пришлось уехать.
Все очень просто: люди слишком усердно заняты собой, чтобы серьезно желать составить мнение о других; все с пассивной готовностью принимают ту степень уважения, которую ты уверенно выказываешь самому себе. Будь каким хочешь, живи как хочешь, но демонстрируй дерзкую победительность, никаких стыдливых сомнений, и ни у кого не достанет нравственной твердости презирать тебя. В противном случае, если утратится согласие с собой, уйдет самодовольство, проявится презрение к себе, все в мгновение ока сочтут, что ты прав. Что до меня, со мной покончено…
Я заканчиваю, отбрасываю перо – полный отвращения, полный отвращения! Положить всему конец, но для «паяца» не будет ли это чуть не геройством? Боюсь, получится так, что я стану дальше жить, дальше есть, спать, немножко чем-то заниматься и потихоньку отупленно привыкать быть «несчастным и жалким».
Боже мой, кто бы подумал, кто бы мог подумать, какое это проклятие, какое несчастье – родиться «паяцем»!..
Маленький господин Фридеман
I
Виновата была кормилица. Конечно, когда возникло первое подозрение, консульша Фридеман настоятельно увещевала ее покончить с этим пороком – и что толку? Помимо питательного пива она ежедневно выдавала ей еще по стакану красного вина – и что толку? Неожиданно выяснилось, что девушка пристрастилась и к спирту, предназначенному для горелки, и прежде чем ей нашли замену, прежде чем ее можно было рассчитать, беда уже стряслась. Когда мать и три ее дочери-отроковицы как-то раз вернулись с выезда, маленький, около месяца от роду Йоханнес, свалившись с пеленального столика, лежал на полу и ужасающе тихо поскуливал, а рядом стояла ослушница.
Врач, с бережной твердостью осмотрев конечности скрюченного, подрагивающего крохотного существа, сделал очень, очень серьезное лицо; три дочери, рыдая, сбились в угол, а охваченная сердечным смятением госпожа Фридеман принялась громко молиться.
Бедной женщине еще до рождения ребенка пришлось пережить смерть супруга, нидерландского консула, которого унесла сколь внезапная, столь и тяжелая болезнь, и она была слишком сломлена, дабы вообще иметь способность надеяться, что у нее останется маленький Йоханнес. Лишь через два дня врач, ободряюще пожав ей руку, заявил, что непосредственная опасность, безусловно, миновала, и прежде всего, организм совершенно справился с легкой аффектацией мозга, что заметно хотя бы по взгляду, не имеющему уже того застывшего выражения, как в начале… Однако в остальном нужно посмотреть, как будет развиваться дело, и надеяться, так сказать, на лучшее, надеяться на лучшее.
II
Серый дом с высоким фронтоном, где рос Йоханнес Фридеман, стоял у северных ворот старинного, но далеко не самого крупного торгового города. Через входную дверь вы попадали в просторную, выложенную каменной плиткой прихожую, откуда наверх вела лестница с белыми деревянными перилами. На стенных драпировках гостиной второго этажа красовались поблекшие пейзажи, а вокруг тяжелого стола красного дерева, покрытого бордовой плюшевой скатертью, стояли стулья с прямыми узкими спинками.
Здесь у окна, под которым всегда пышно цвели красивые цветы, он часто ребенком сидел на маленькой скамеечке в ногах у матери и, глядя на гладкий седой пробор, доброе, кроткое лицо, вдыхая всегда исходивший от нее еле уловимый запах, слушал какую-нибудь волшебную историю. Или послушно смотрел на портрет отца, приветливого господина с седыми бакенбардами. Отец теперь на небесах, говорила мать, и ждет их всех к себе.
За домом находился небольшой садик, где, несмотря на вечное сладковатое марево, наплывавшее с соседней сахарной фабрики, летом обычно проводили добрую половину дня. Там стояло старое, узловатое ореховое дерево, и в его тени маленький Йоханнес, расположившись на низеньком деревянном табурете, часто колол орехи, а госпожа Фридеман и три взрослые уже сестры сидели под тентом серой парусины. Взгляд матери, однако, часто отрывался от рукоделия, с печальной приветливостью обращаясь на ребенка.
Он не был красив, маленький Йоханнес; скорчившись на табурете, с ловким усердием вскрывая ореховую скорлупу, с высокой выпирающей грудью, сильно выступающей спиной и очень длинными, тонкими руками, он являл собой в высшей степени странное зрелище. Узкие кисти и стопы, впрочем, имели нежную форму; у него также были большие светло-карие глаза, мягко очерченный рот и чудесные светло-каштановые волосы. Лицо, хотя оно столь жалко вжималось в плечи, все же можно было назвать почти красивым.
III
Семи лет его отправили в школу, и годы полетели однообразно и быстро. Каждый день немного смешной, важной походкой, порой свойственной уродцам, он шествовал между островерхими домами и лавками к старому школьному зданию с готическими сводами, а сделав дома уроки, читал какую-нибудь из своих книг с красивыми пестрыми обложками или возился в саду, пока сестры вместо хворой матери хлопотали по хозяйству. Они выходили и в свет, так как Фридеманы принадлежали к высшим кругам города, но замуж еще, к сожалению, не вышли, ибо были не то чтобы богаты и довольно-таки уродливы.
Время от времени Йоханнес тоже получал приглашения от сверстников, но общение с ними приносило ему мало радости. В играх их он принимать участие не мог, а поскольку приятели в обращении с ним всегда сохраняли смущенную сдержанность, дружбы выйти не могло.
Пришло время, и он стал часто слышать, как одноклассники на школьном дворе рассказывают об известных приключениях; внимательно, широко раскрыв глаза, мальчик слушал мечтательные разговоры о какой-нибудь девочке и молчал. «Для всего этого, – твердил он себе, – что остальных, судя по всему, переполняет, я не гожусь, это как гимнастические трюки и игра в мяч». Порой его это огорчало, но, в конце концов, он с незапамятных времен привык быть сам по себе и не разделять общих интересов.
И все-таки случилось, что Йоханнеса – ему уже исполнилось шестнадцать – внезапно потянуло к одной сверстнице. То была сестра классного товарища, светловолосое, безудержно-радостное существо, познакомился он с ней у ее брата. В присутствии девушки он испытывал странное смущение, а то, как она обращалась с ним – натянуто и искусственно-приветливо, – иногда вселяло глубокую печаль.
Как-то летним днем, прогуливаясь в одиночестве по городскому валу, за кустами жасмина он услышал шепот и осторожно подглядел между ветвей. На стоявшей там скамейке сидела та самая девушка, а рядом с ней – высокий рыжий юноша, которого он прекрасно знал; парень обнимал ее одной рукой и прижимался к губам поцелуем, на который она, хихикая, отвечала. Увидев это, Йоханнес Фридеман развернулся и тихо ушел.
Голова его как никогда глубоко вжалась в плечи, руки задрожали, а из груди к горлу поднялась острая, распирающая боль. Но он затолкал ее обратно и решительно распрямился как мог. «Ладно, – сказал он сам себе, – с этим покончено. Никогда в жизни больше не буду обо всем этом думать. То, что другим дает счастье и радость, мне может принести лишь горе и страдание. Тут я подвел черту. Дело решенное. Никогда в жизни».
Решение пошло ему на пользу. Он отказался от этого, отказался навсегда. Йоханнес отправился домой и взял в руки книгу, а может, скрипку, на которой, несмотря на уродливую грудь, выучился играть.
IV
Семнадцати лет он оставил школу, чтобы заняться торговлей, которую в его кругах вели просто все, и поступил учеником в крупную лесоторговую контору господина Шлифогта, внизу, у реки. Обращались с ним бережно, он со своей стороны был вежлив и предупредителен, и так мирно отлаженно текло время. Однако, когда ему шел двадцать второй год, после долгих страданий умерла мать.
Это стало для Йоханнеса Фридемана источником огромной боли, он нес ее долго. Он наслаждался ей, этой болью, отдавался ей, как отдаются большому счастью, питал ее тысячами детских воспоминаний и смаковал как первое сильное переживание.
Разве жизнь не хороша сама по себе, не важно, складывается ли она для нас таким образом, который принято называть «счастливым»? Йоханнес Фридеман чувствовал так и любил жизнь. Никому не понять, с каким задушевным тщанием он, сумев отказаться от величайшего счастья, какое она только может нам предложить, наслаждался доступными ему радостями. Весенняя прогулка в загородном парке, благоухание цветка, птичье пение – разве можно за это не быть благодарным?
Он понимал и то, что со способностью получать наслаждение тесно связано образование, более того, что образование и является таковой способностью, – он понимал это и повышал свое образование. Он любил музыку и посещал все концерты, что давали в городе. Со временем сам, хотя и смотрелся при этом необычайно странно, стал неплохо играть на скрипке и радовался каждому удававшемуся красивому и нежному звуку. Он много читал и постепенно развил литературный вкус, который, пожалуй, не мог разделить ни с кем в городе. Он был осведомлен о новинках дома и за рубежом, умел почувствовать ритмическую прелесть стихотворения, поддаться воздействию душевного настроения изящно написанной повести… О, почти можно утверждать, что он был эпикурейцем.
Он выучился понимать, что способностью давать наслаждение обладает все и что почти нелепо различать счастливые и несчастные мгновения. И он с величайшей готовностью принимал все свои ощущения, настроения, лелеял их – как мрачные, так и радостные, в том числе и несбывшиеся желания – томление. Он любил это томление ради него самого и говорил себе, что с осуществлением лучшее окажется позади. Разве сладостная, болезненная, смутная тоска и надежда тихих весенних вечеров не доставляют большего наслаждения, чем все сбывшееся, что могло бы принести лето? Да, он был эпикурейцем, маленький господин Фридеман.
Но этого, по-видимому, не знали люди, приветствовавшие его на улице с той сострадательной вежливостью, к которой он привык с незапамятных времен. Они не знали, что этот несчастный калека, с комичной важностью вышагивающий по улице в светлом пальто и лоснящемся цилиндре – как ни странно, он был несколько щеголеват, – нежно любит жизнь, полегоньку утекающую от него без особых треволнений, однако исполненную тихого ласкового счастья, которое он умел обрести.
V
Однако главным увлечением господина Фридемана, его настоящей страстью являлся театр. Он обладал необычайно острым драматическим восприятием, и в случае мощного сценического воздействия, во время трагедийной развязки все его маленькое тело нередко начинала сотрясать дрожь. В первом ярусе городского театра у него было место, которое он занимал регулярно, иногда в сопровождении трех сестер. После смерти матери они одни вели свой и братнин старый дом, владея им совместно.
Замуж они, к сожалению, так до сих пор и не вышли, но уже давно вступили в тот возраст, когда обретается умеренность, так как Фредерика, старшая, обогнала господина Фридемана на семнадцать лет. Она и сестра Генриетта были слишком высоки и худы, а Пфифи, младшая, уродилась чрезмерно низкорослой и полной. Последняя, кстати, имела чудное обыкновение подергиваться при каждом слове, при этом уголки рта у нее покрывались продуктами слюноотделения.
Маленький господин Фридеман не особо заботился о трех девушках; они же крепко держались вместе и всегда были одного мнения. Особенно когда в кругу их знакомых случалась помолвка, они в один голос настаивали, что это о ч е н ь радостное известие.
Брат остался жить с ними, и когда покинул контору господина Шлифогта и обрел самостоятельность, переняв какое-то мелкое дело – что-то вроде агентства, не требовавшего особого попечения. Он занимал в доме несколько помещений нижнего этажа, чтобы подниматься по лестнице только к столу, так как по временам его немного мучила астма.
В свой тридцатый день рождения, светлый и теплый июньский день, он сидел после обеда в серой палатке в саду, подложив под голову новый валик, который смастерила ему Генриетта, с хорошей сигарой во рту и хорошей книжкой в руке. То и дело он отводил книгу в сторону, прислушивался к довольному чириканью воробьев на старом ореховом дереве, бросал взгляд на чистую, посыпанную гравием дорожку, ведущую в дом, и на газон с пестрыми клумбами.
Маленький господин Фридеман не носил бороды, и лицо его почти не изменилось, только черты стали чуть резче. Чудесные светло-каштановые волосы он гладко зачесывал на боковой пробор.
Он окончательно опустил книгу на колени, прищурившись, посмотрел в синее солнечное небо и сказал себе: «Что ж, прошло тридцать лет. Будет, может, еще десять или двадцать, кто знает. Они придут и уйдут так же тихо и бесшумно, как и минувшие, и я жду их с миром в душе».
VI
В июле того же года произошла смена коменданта округа, взбудоражившая всех. Дородного жовиального господина, долгие годы занимавшего этот пост, в обществе очень любили и отставке его опечалились. Бог весть вследствие каких обстоятельств, но только из столицы прибыл не кто иной, как господин фон Ринлинген.
Замена, впрочем, казалась неплохой, так как подполковник – женатый, но бездетный – снял в южном предместье весьма просторную усадьбу, из чего заключили, что он намерен принимать. Во всяком случае, слухи о том, что новый комендант изрядно богат, подтверждались в числе прочего и тем, что он привез с собой четверых посыльных, пять верховых и упряжных лошадей, ландо и легкую охотничью коляску.
Ах, я был не вправе – я как никто другой – отходить в сторону, игнорировать «общество», это я-то, такой тщеславный, чтобы вынести его небрежение и неуважение, чтобы обойтись без его рукоплесканий! Но ведь речь идет не о праве? Ведь речь идет о необходимости? И моя бесполезная паяцеспособность не пришлась бы ни для какого социального положения? Но теперь я гибну именно из-за нее.
Ах, равнодушие было бы для меня своего рода счастьем… Но я не в силах быть равнодушным к себе, не в силах смотреть на себя иными глазами, кроме как глазами «людей», и от стыда гибну – совершенно невинный… Неужели стыд всегда есть лишь загноившееся тщеславие?
Существует только одно несчастье: перестать нравиться самому себе. Себе не нравиться, вот оно, несчастье – да, я всегда очень отчетливо ощущал это! Все остальное – игра и обогащение жизни, при любом другом страдании можно превосходно любоваться собой, так бесподобно смотреться. Жалкий, отвратительный вид придают тебе только разлад с собой, стыд в страдании, потуги тщеславия…
Объявился старый знакомый, господин по имени Шиллинг, с которым мы некогда совместно служили обществу на крупной лесоторговой фирме г-на Шлифогта. У него возникли дела в моем городе, и он заехал ко мне – «скептический индивид», руки в карманах брюк, пенсне в черной оправе и реалистически терпеливое пожимание плечами. Шиллинг приехал вечером и сообщил:
– Я здесь на несколько дней.
Мы пошли в винную.
Шиллинг говорил со мной, будто я еще был тем самодовольным счастливцем, каким он меня знал, и, искренне полагая, что просто делится со мной своим радостным мнением, сказал:
– Честное слово, славную жизнь ты себе устроил, малыш! Независим, да что там, свободен! Черт подери, ей-богу, ты прав! Живем-то всего один раз, правда? Вообще-то, что человеку до всего остального? Должен сказать, ты из нас двоих оказался умнее. Впрочем, ты всегда был гениален…
И он, как прежде, начал изо всех сил нахваливать меня, говорить любезности, не подозревая, что я обмирал от страха не понравиться.
Я отчаянно силился отстоять то место, что занимал в его глазах, силился казаться, как прежде, на высоте, казаться счастливым и самодовольным – тщетно! Не было стержня, никакого куража, никакого самообладания, я говорил с ним, полный тусклого смущения и сгорбившейся неуверенности, – и Шиллинг уловил это с невероятной быстротой! Было ужасно видеть, как он, в общем, готовый признать старого товарища счастливым, высокого пошиба человеком, начал проницать меня, смотреть с изумлением, набирать прохладцы, высокомерия, нетерпения, отвращения, и, в конце концов, он уже не скрывал своего ко мне презрения, сквозившего уже в каждой его гримасе. Он рано ушел, а на следующий день несколько беглых строк уведомили меня, что ему все-таки пришлось уехать.
Все очень просто: люди слишком усердно заняты собой, чтобы серьезно желать составить мнение о других; все с пассивной готовностью принимают ту степень уважения, которую ты уверенно выказываешь самому себе. Будь каким хочешь, живи как хочешь, но демонстрируй дерзкую победительность, никаких стыдливых сомнений, и ни у кого не достанет нравственной твердости презирать тебя. В противном случае, если утратится согласие с собой, уйдет самодовольство, проявится презрение к себе, все в мгновение ока сочтут, что ты прав. Что до меня, со мной покончено…
Я заканчиваю, отбрасываю перо – полный отвращения, полный отвращения! Положить всему конец, но для «паяца» не будет ли это чуть не геройством? Боюсь, получится так, что я стану дальше жить, дальше есть, спать, немножко чем-то заниматься и потихоньку отупленно привыкать быть «несчастным и жалким».
Боже мой, кто бы подумал, кто бы мог подумать, какое это проклятие, какое несчастье – родиться «паяцем»!..
Маленький господин Фридеман
I
Виновата была кормилица. Конечно, когда возникло первое подозрение, консульша Фридеман настоятельно увещевала ее покончить с этим пороком – и что толку? Помимо питательного пива она ежедневно выдавала ей еще по стакану красного вина – и что толку? Неожиданно выяснилось, что девушка пристрастилась и к спирту, предназначенному для горелки, и прежде чем ей нашли замену, прежде чем ее можно было рассчитать, беда уже стряслась. Когда мать и три ее дочери-отроковицы как-то раз вернулись с выезда, маленький, около месяца от роду Йоханнес, свалившись с пеленального столика, лежал на полу и ужасающе тихо поскуливал, а рядом стояла ослушница.
Врач, с бережной твердостью осмотрев конечности скрюченного, подрагивающего крохотного существа, сделал очень, очень серьезное лицо; три дочери, рыдая, сбились в угол, а охваченная сердечным смятением госпожа Фридеман принялась громко молиться.
Бедной женщине еще до рождения ребенка пришлось пережить смерть супруга, нидерландского консула, которого унесла сколь внезапная, столь и тяжелая болезнь, и она была слишком сломлена, дабы вообще иметь способность надеяться, что у нее останется маленький Йоханнес. Лишь через два дня врач, ободряюще пожав ей руку, заявил, что непосредственная опасность, безусловно, миновала, и прежде всего, организм совершенно справился с легкой аффектацией мозга, что заметно хотя бы по взгляду, не имеющему уже того застывшего выражения, как в начале… Однако в остальном нужно посмотреть, как будет развиваться дело, и надеяться, так сказать, на лучшее, надеяться на лучшее.
II
Серый дом с высоким фронтоном, где рос Йоханнес Фридеман, стоял у северных ворот старинного, но далеко не самого крупного торгового города. Через входную дверь вы попадали в просторную, выложенную каменной плиткой прихожую, откуда наверх вела лестница с белыми деревянными перилами. На стенных драпировках гостиной второго этажа красовались поблекшие пейзажи, а вокруг тяжелого стола красного дерева, покрытого бордовой плюшевой скатертью, стояли стулья с прямыми узкими спинками.
Здесь у окна, под которым всегда пышно цвели красивые цветы, он часто ребенком сидел на маленькой скамеечке в ногах у матери и, глядя на гладкий седой пробор, доброе, кроткое лицо, вдыхая всегда исходивший от нее еле уловимый запах, слушал какую-нибудь волшебную историю. Или послушно смотрел на портрет отца, приветливого господина с седыми бакенбардами. Отец теперь на небесах, говорила мать, и ждет их всех к себе.
За домом находился небольшой садик, где, несмотря на вечное сладковатое марево, наплывавшее с соседней сахарной фабрики, летом обычно проводили добрую половину дня. Там стояло старое, узловатое ореховое дерево, и в его тени маленький Йоханнес, расположившись на низеньком деревянном табурете, часто колол орехи, а госпожа Фридеман и три взрослые уже сестры сидели под тентом серой парусины. Взгляд матери, однако, часто отрывался от рукоделия, с печальной приветливостью обращаясь на ребенка.
Он не был красив, маленький Йоханнес; скорчившись на табурете, с ловким усердием вскрывая ореховую скорлупу, с высокой выпирающей грудью, сильно выступающей спиной и очень длинными, тонкими руками, он являл собой в высшей степени странное зрелище. Узкие кисти и стопы, впрочем, имели нежную форму; у него также были большие светло-карие глаза, мягко очерченный рот и чудесные светло-каштановые волосы. Лицо, хотя оно столь жалко вжималось в плечи, все же можно было назвать почти красивым.
III
Семи лет его отправили в школу, и годы полетели однообразно и быстро. Каждый день немного смешной, важной походкой, порой свойственной уродцам, он шествовал между островерхими домами и лавками к старому школьному зданию с готическими сводами, а сделав дома уроки, читал какую-нибудь из своих книг с красивыми пестрыми обложками или возился в саду, пока сестры вместо хворой матери хлопотали по хозяйству. Они выходили и в свет, так как Фридеманы принадлежали к высшим кругам города, но замуж еще, к сожалению, не вышли, ибо были не то чтобы богаты и довольно-таки уродливы.
Время от времени Йоханнес тоже получал приглашения от сверстников, но общение с ними приносило ему мало радости. В играх их он принимать участие не мог, а поскольку приятели в обращении с ним всегда сохраняли смущенную сдержанность, дружбы выйти не могло.
Пришло время, и он стал часто слышать, как одноклассники на школьном дворе рассказывают об известных приключениях; внимательно, широко раскрыв глаза, мальчик слушал мечтательные разговоры о какой-нибудь девочке и молчал. «Для всего этого, – твердил он себе, – что остальных, судя по всему, переполняет, я не гожусь, это как гимнастические трюки и игра в мяч». Порой его это огорчало, но, в конце концов, он с незапамятных времен привык быть сам по себе и не разделять общих интересов.
И все-таки случилось, что Йоханнеса – ему уже исполнилось шестнадцать – внезапно потянуло к одной сверстнице. То была сестра классного товарища, светловолосое, безудержно-радостное существо, познакомился он с ней у ее брата. В присутствии девушки он испытывал странное смущение, а то, как она обращалась с ним – натянуто и искусственно-приветливо, – иногда вселяло глубокую печаль.
Как-то летним днем, прогуливаясь в одиночестве по городскому валу, за кустами жасмина он услышал шепот и осторожно подглядел между ветвей. На стоявшей там скамейке сидела та самая девушка, а рядом с ней – высокий рыжий юноша, которого он прекрасно знал; парень обнимал ее одной рукой и прижимался к губам поцелуем, на который она, хихикая, отвечала. Увидев это, Йоханнес Фридеман развернулся и тихо ушел.
Голова его как никогда глубоко вжалась в плечи, руки задрожали, а из груди к горлу поднялась острая, распирающая боль. Но он затолкал ее обратно и решительно распрямился как мог. «Ладно, – сказал он сам себе, – с этим покончено. Никогда в жизни больше не буду обо всем этом думать. То, что другим дает счастье и радость, мне может принести лишь горе и страдание. Тут я подвел черту. Дело решенное. Никогда в жизни».
Решение пошло ему на пользу. Он отказался от этого, отказался навсегда. Йоханнес отправился домой и взял в руки книгу, а может, скрипку, на которой, несмотря на уродливую грудь, выучился играть.
IV
Семнадцати лет он оставил школу, чтобы заняться торговлей, которую в его кругах вели просто все, и поступил учеником в крупную лесоторговую контору господина Шлифогта, внизу, у реки. Обращались с ним бережно, он со своей стороны был вежлив и предупредителен, и так мирно отлаженно текло время. Однако, когда ему шел двадцать второй год, после долгих страданий умерла мать.
Это стало для Йоханнеса Фридемана источником огромной боли, он нес ее долго. Он наслаждался ей, этой болью, отдавался ей, как отдаются большому счастью, питал ее тысячами детских воспоминаний и смаковал как первое сильное переживание.
Разве жизнь не хороша сама по себе, не важно, складывается ли она для нас таким образом, который принято называть «счастливым»? Йоханнес Фридеман чувствовал так и любил жизнь. Никому не понять, с каким задушевным тщанием он, сумев отказаться от величайшего счастья, какое она только может нам предложить, наслаждался доступными ему радостями. Весенняя прогулка в загородном парке, благоухание цветка, птичье пение – разве можно за это не быть благодарным?
Он понимал и то, что со способностью получать наслаждение тесно связано образование, более того, что образование и является таковой способностью, – он понимал это и повышал свое образование. Он любил музыку и посещал все концерты, что давали в городе. Со временем сам, хотя и смотрелся при этом необычайно странно, стал неплохо играть на скрипке и радовался каждому удававшемуся красивому и нежному звуку. Он много читал и постепенно развил литературный вкус, который, пожалуй, не мог разделить ни с кем в городе. Он был осведомлен о новинках дома и за рубежом, умел почувствовать ритмическую прелесть стихотворения, поддаться воздействию душевного настроения изящно написанной повести… О, почти можно утверждать, что он был эпикурейцем.
Он выучился понимать, что способностью давать наслаждение обладает все и что почти нелепо различать счастливые и несчастные мгновения. И он с величайшей готовностью принимал все свои ощущения, настроения, лелеял их – как мрачные, так и радостные, в том числе и несбывшиеся желания – томление. Он любил это томление ради него самого и говорил себе, что с осуществлением лучшее окажется позади. Разве сладостная, болезненная, смутная тоска и надежда тихих весенних вечеров не доставляют большего наслаждения, чем все сбывшееся, что могло бы принести лето? Да, он был эпикурейцем, маленький господин Фридеман.
Но этого, по-видимому, не знали люди, приветствовавшие его на улице с той сострадательной вежливостью, к которой он привык с незапамятных времен. Они не знали, что этот несчастный калека, с комичной важностью вышагивающий по улице в светлом пальто и лоснящемся цилиндре – как ни странно, он был несколько щеголеват, – нежно любит жизнь, полегоньку утекающую от него без особых треволнений, однако исполненную тихого ласкового счастья, которое он умел обрести.
V
Однако главным увлечением господина Фридемана, его настоящей страстью являлся театр. Он обладал необычайно острым драматическим восприятием, и в случае мощного сценического воздействия, во время трагедийной развязки все его маленькое тело нередко начинала сотрясать дрожь. В первом ярусе городского театра у него было место, которое он занимал регулярно, иногда в сопровождении трех сестер. После смерти матери они одни вели свой и братнин старый дом, владея им совместно.
Замуж они, к сожалению, так до сих пор и не вышли, но уже давно вступили в тот возраст, когда обретается умеренность, так как Фредерика, старшая, обогнала господина Фридемана на семнадцать лет. Она и сестра Генриетта были слишком высоки и худы, а Пфифи, младшая, уродилась чрезмерно низкорослой и полной. Последняя, кстати, имела чудное обыкновение подергиваться при каждом слове, при этом уголки рта у нее покрывались продуктами слюноотделения.
Маленький господин Фридеман не особо заботился о трех девушках; они же крепко держались вместе и всегда были одного мнения. Особенно когда в кругу их знакомых случалась помолвка, они в один голос настаивали, что это о ч е н ь радостное известие.
Брат остался жить с ними, и когда покинул контору господина Шлифогта и обрел самостоятельность, переняв какое-то мелкое дело – что-то вроде агентства, не требовавшего особого попечения. Он занимал в доме несколько помещений нижнего этажа, чтобы подниматься по лестнице только к столу, так как по временам его немного мучила астма.
В свой тридцатый день рождения, светлый и теплый июньский день, он сидел после обеда в серой палатке в саду, подложив под голову новый валик, который смастерила ему Генриетта, с хорошей сигарой во рту и хорошей книжкой в руке. То и дело он отводил книгу в сторону, прислушивался к довольному чириканью воробьев на старом ореховом дереве, бросал взгляд на чистую, посыпанную гравием дорожку, ведущую в дом, и на газон с пестрыми клумбами.
Маленький господин Фридеман не носил бороды, и лицо его почти не изменилось, только черты стали чуть резче. Чудесные светло-каштановые волосы он гладко зачесывал на боковой пробор.
Он окончательно опустил книгу на колени, прищурившись, посмотрел в синее солнечное небо и сказал себе: «Что ж, прошло тридцать лет. Будет, может, еще десять или двадцать, кто знает. Они придут и уйдут так же тихо и бесшумно, как и минувшие, и я жду их с миром в душе».
VI
В июле того же года произошла смена коменданта округа, взбудоражившая всех. Дородного жовиального господина, долгие годы занимавшего этот пост, в обществе очень любили и отставке его опечалились. Бог весть вследствие каких обстоятельств, но только из столицы прибыл не кто иной, как господин фон Ринлинген.
Замена, впрочем, казалась неплохой, так как подполковник – женатый, но бездетный – снял в южном предместье весьма просторную усадьбу, из чего заключили, что он намерен принимать. Во всяком случае, слухи о том, что новый комендант изрядно богат, подтверждались в числе прочего и тем, что он привез с собой четверых посыльных, пять верховых и упряжных лошадей, ландо и легкую охотничью коляску.