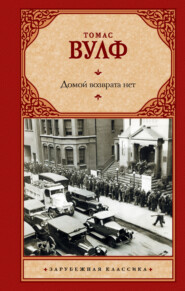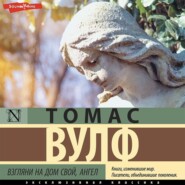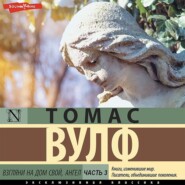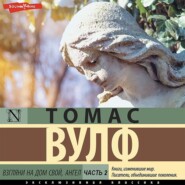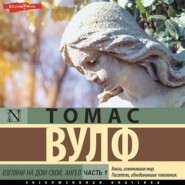По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Взгляни на дом свой, ангел
Автор
Жанр
Год написания книги
1929
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Время от времени голенастый «Кадиллак», кряхтя цилиндрами, взбирался вверх по холму «Диксиленда». Когда он замирал, Юджин бормотал заклинания, чтобы помочь автомобилю, – это Джим Сойер, молодой щеголь, приезжал за мисс Катлер, питтсбургской красавицей. Он распахивал дверцу в пухлом красном брюхе. Они садились и уезжали.
Иногда, в тех случаях, когда Элиза, проснувшись, обнаруживала, что осталась без прислуги, его посылали в Негритянский квартал на поиски замены. Он рыскал по этому царству рахита, заходя в смрадные лачуги сквозь неторопливое зловоние ручейков помоев и мочи, навещая смрадные подвалы по всему вонючему лабиринту расползшегося по склону поселка. В жарких закупоренных темницах их комнат он познал необузданную грацию их распростертых на постели тел, их звучный выразительный смех, их запах – запах тропических джунглей, смешанный с запахом раскаленных сковородок и кипящего белья.
– Вам не нужна работа?
– А ты чей сынок?
– Миссис Элизы Гант.
Молчание. А затем:
– Там, дальше по улице, у мисс Корпенинг одна девушка вроде ищет работу. Пойди поговори с ней.
Элиза ястребиным взором следила, не воруют ли они. Однажды в сопровождении сыщика она обыскала в Негритянском квартале комнату девушки, которая от нее ушла, и обнаружила украденные из «Диксиленда» простыни, полотенца, ложки. Девушка получила два года тюрьмы. Элиза любила прибегать к помощи закона, ей нравился запах и напряженная атмосфера судов. И когда она могла подать на кого-нибудь в суд, она подавала – для нее было большой радостью предъявить кому-нибудь иск. И не меньшей – когда иск предъявляли ей. Она всегда выигрывала дело.
Когда ее постояльцы не платили, она торжествующе захватывала их вещи, и ей особенно нравилось с помощью покорных полицейских ловить их в последнюю минуту на вокзале в глазеющем кольце городских подонков.
Юджин стыдился «Диксиленда». И опять боялся выдать свой стыд. Как и с «Ивнинг пост», он чувствовал себя обделенным, запутавшимся в сетях, пойманным в капкан. Он ненавидел неприличие своей жизни, утрату достоинства и уединения, передачу буйной черни тех четырех стен, которые должны ограждать нас от нее. Он не столько понимал, сколько чувствовал бессмыслицу, путаницу, слепую жестокость их существования – его дух был растянут на дыбе отчаяния и недоумения, ибо он все сильнее убеждался в том, что их жизни нельзя было бы больше изуродовать, изломать, извратить и лишить самого простого покоя, удобства, счастья, даже если бы они сами нарочно запутали клубок и порвали канву. Он задыхался от ярости: он думал о медлительной речи Элизы, о ее манере углубляться в бесконечные воспоминания, о невыносимом поджимании губ, и белел от сдавленного в комок бессильного гнева.
Теперь он уже совершенно ясно видел, что их бедность, нависшая над ними угроза богадельни, жуткие упоминания о могиле для неимущих – все это было бессмысленным мифотворчеством жадного скопидомства; и в нем, как головня, тлел гнев, порожденный их убогой алчностью. У них не было собственного места, не было места, предназначенного только для них, не было места, огражденного от вторжения постояльцев.
По мере того как дом наполнялся, они переходили из комнат в комнатки и в каморки, спускаясь все ниже и ниже по жалкой шкале своих жизней. Он чувствовал, что это причинит им вред, огрубит их: он даже и тогда глубоко верил в хорошую еду, в хорошее жилище, в комфорт, – он чувствовал, что цивилизованный человек начинает именно с этого; он знал, что там, где дух чахнет, он чахнет не из-за хорошей еды и удобств.
Когда в летний сезон дом наполнялся и приходилось ждать, пока не кончат есть постояльцы и для него не очистится место, он угрюмо расхаживал под вознесенной на столбы задней верандой «Диксиленда», злобно исследуя темный подвал и две душные каморки без окон, которые Элиза при случае старалась сдать негритянкам.
Теперь он ощущал всю мелочную жестокость деревенской кастовости. В течение нескольких лет он по воскресеньям мылся, чистился, облекал свое освященное тело в чистое белье и рубашку и отправлялся среди приятной суеты воскресного утра в пресвитерианскую воскресную школу. К этому времени он уже был избавлен от наставлений нескольких старых дев, которые подкрепляли его детскую веру катехизисом, рассказами о благости божьей и некоторыми сведениями о небесной архитектуре. Пятицентовик, с которым прежде он расставался неохотно, сожалея о потенциальных пирогах и пиве, он отдавал теперь без особых страданий, так как обычно у него оставалось еще достаточно, чтобы насладиться холодным газированным напитком у содового фонтанчика.
Вдыхая свежий воздух воскресного утра, он бодро отправлялся исполнить долг свой у алтарей и останавливался неподалеку от церкви, где стройные ряды учеников военной школы четко разбивались на взводы баптистов, методистов, пресвитериан.
Дети собирались в примыкающем к церкви большом зале, в который справа и слева открывались сотами крошечные классные комнаты, – по ним они расходились, когда кончалась служба. С кафедры к ним взывал директор, дантист-шотландец с черной седеющей бородкой, окаймленной небольшой полоской набальзамированной кожи, – его клетки, ткани и соки, казалось, были раз и навсегда закреплены во вневозрастной неопределенности, так что истекали десятилетия, а он выглядел все таким же.
Он читал очередной стих или притчу, толковал их с цезаревской сухостью и точностью, а затем передавал ведение службы своему помощнику, тоже шотландцу, бритому и в очках, который с холодной ласковостью улыбался им над высоким глянцевым воротничком и вел их от строфы к строфе псалма, взмахивая руками и ободряюще оскаливая зубы, когда они доходили до припева. Крепкая старая дева барабанила по клавишам пианино, которое дрожало как осиновый лист.
Юджину нравились высокие хрустальные дисканты маленьких детей, поддерживаемые тугой плотностью голосов мальчиков и девочек постарше и опирающиеся на могучий хор младших и старших баракков и филатеянок[45 - …баракки и филатеянки – члены религиозных организаций для юношей и девушек.]. В те утра, когда собирались пожертвования для миссионеров, они пели:
Протяните руку спасения —
Кто-то тонет сегооодня!
И еще они пели:
Соберемся ли мы у реки,
Прекрааасной, прекрааасной реки?
Этот псалом ему чрезвычайно нравился. И величественное нарастание «Вперед, Христовы воины!».
Потом он вместе со своим классом переходил в одну из маленьких комнат. Повсюду вокруг с рокотом смыкались скользящие двери; затем здание заполнялось ровным монотонным жужжанием.
Этот класс Юджина состоял только из мальчиков. Их учителем был высокий белолицый молодой человек, сутулый и худой, про которого всем было известно, что он состоит секретарем местного отделения Христианской ассоциации молодых людей. Он был болен туберкулезом, но мальчики восхищались им за его прежние бейсбольные и баскетбольные подвиги. Он говорил печальным, сладким, хнычущим голосом; он был угнетающе похож на Христа; он дружески беседовал с ними о заданном на этот день тексте и спрашивал, какой урок они могут извлечь из него для своей обычной жизни, для того чтобы доказывать делом послушание и любовь к родителям и друзьям, для укрепления в долге, вежливости и христианском милосердии. И он говорил, что, усомнившись, как следует поступить, они должны спрашивать себя, что сказал бы им Иисус, – он часто говорил об Иисусе печальным, чуть недовольным голосом, и Юджину, пока он его слушал, делалось как-то не по себе – ему представлялось что-то мягкое, пушистое, с влажным языком.
Он постоянно находился в состоянии нервного напряжения – все остальные мальчики были близко знакомы между собой, они жили на Монтгомери-стрит или в ее окрестностях, а это была самая фешенебельная улица города. Иногда кто-нибудь говорил ему с усмешкой: «Не хотите ли купить «Сатердей ивнинг пост», мистер?»
В будни Юджин никак не соприкасался с их жизнью, а потому сильно переоценивал их аристократичность. Алтамонт быстро вырос в город из разбросанного по холмам поселка, и таких старинных семей, как Пентленды, в нем было немного; как в большинстве курортных городков, его кастовая система была гибкой до неопределенности и в основном строилась на богатстве, честолюбии и наглости.
Гарри Таркинтон и Макс Айзекс были баптистами, как почти все соседи Ганта, за исключением шотландцев. Баптисты были наиболее многочисленными членами общины – и по социальной шкале они котировались невысоко, считаясь простонародьем; их пастырь, крупный пухлый толстяк с красным лицом и в белом жилете, обладал незаурядным красноречием – он ревел на них, аки лев, ворковал, аки голубка, и часто упоминал в проповеди свою жену, чтобы создать атмосферу интимности или вызвать смех, – члены епископальной церкви, занимавшие верх социальной шкалы, и пресвитериане, менее аристократичные, но зато столпы добропорядочности, считали это нецеломудренным. Методисты располагались как раз посредине между вульгарностью и декорумом.
Этот накрахмаленный, начищенный мир воскресного пресвитерианства с его степенной порядочностью, ощущением сдержанности, неброского богатства, прочного положения в обществе, размеренной обрядности и замкнутой избранности глубоко действовал на Юджина присущим ему безмятежным покоем. Он остро ощущал свою отъединенность от этого мира, в который он приходил раз в неделю, оставляя позади лязгающую хаотичность собственной жизни, – приходил и смотрел на него, чтобы потом из года в год уходить, тягостно сознавая себя чужим. А мягкий сумрак церкви, мощные звуки отдаленного органа, спокойный гнусавый голос священника-шотландца, бесконечные молитвы и яркие картинки, изображавшие сцены из христианской мифологии, которые он ребенком собирал под руководством старых дев, – все это помогло ему узнать что-то о боли, о тайне, о чувственной красоте религии, о том, что было глубже и значительнее строгой пресвитерианской добропорядочности.
XII
Приближалась зима, и угрюмое умирание осени ненавистнее всего ему было в «Диксиленде» – тусклые, засиженные мухами лампы; унылые блуждания по дому в поисках тепла; Элиза, неряшливо кутающаяся в старую кофту, в грязный шарф, в старый заношенный сюртук. Она мазала глицерином потрескавшиеся от холода руки. Ледяные стены гноились сыростью – они пили смерть из воздуха; одна из постоялиц умерла от тифа, ее муж быстро вышел в холл и тяжело опустил руки. Они приехали из Огайо.
Наверху, на веранде, служившей спальней, в бесконечной темноте кашлял худой еврей.
– Ради всего святого, мама! – негодовала Хелен. – Зачем ты их пускаешь? Разве ты не видишь, что он заразный?
– Да не-ет, – отвечала Элиза, поджимая губы. – Он сказал, что у него небольшой бронхит. Я его прямо спросила, а он взял да и расхохотался. «Послушайте, миссис Гант», – говорит…
За этим следовала бесконечная история, украшенная множеством вьющихся прихотливыми ручьями отступлений. Хелен приходила в бешенство: это была основная черта характера Элизы – слепо защищать то, что приносило ей деньги.
Еврей был добрым человеком. Он осторожно кашлял, загородившись белой рукой, и ел хлеб, обжаренный в яйце. Юджин пристрастился к этому блюду – он простодушно называл его «еврейским хлебом» и просил добавки. Лихенфелс мягко смеялся и кашлял, а его жена заливалась звонким смуглым смехом. Юджин оказывал ему мелкие услуги, а он давал ему каждую неделю по монете. Он был портным из Нью-Джерси. Весной он перебрался в санаторий и позже умер там.
Зимой немногие простывшие постояльцы, чьи лица, чьи личности из-за постоянных повторений утратили хотя бы проблеск оригинальности, сидели у догорающих углей в гостиной, раскачиваясь и раскачиваясь в качалках, переговаривались скучными голосами, со скучными жестами, – вероятно, «Диксиленд» опротивел им и они сами опротивели себе не меньше, чем опротивели ему.
Он предпочитал лето, когда приезжали медлительно-томные женщины жаркого богатого Юга, темноволосые белокожие девушки из Нового Орлеана, пшеничные блондинки из Джорджии, красавицы из Южной Каролины, говорившие с негритянской оттяжкой. И малярики из Миссисипи, апатичные, чуть желтоватые, но с белыми крепкими зубами. Краснолицый постоялец из Южной Каролины с побуревшими от никотина пальцами каждый день брал его на бейсбол; тощий, желтый, больной малярией плантатор из Миссисипи лазал с ним на горы и бродил по душистым долинам; вечерами он слышал на темных верандах звонкий грудной смех женщин, нежный и жестокий, слышал сочные рокочущие голоса мужчин; видел уступчивый потайной южный разврат – темное уединение их полуночных тел, их утреннюю ясноглазую невинность. Желание рвало его сердце окровавленным клювом, как ревнивая добродетель: он высоконравственно негодовал на то, в чем ему было отказано.
По утрам он оставался в доме Ганта с Хелен и играл в мяч с Бастером Айзексом, двоюродным братом Макса, веселым толстым малышом, который жил рядом. Позже, привлеченный сладким благоуханием варящейся помадки, он возвращался в дом, и Хелен посылала его в маленькую еврейскую лавочку на той же улице за кислыми приправами, которые очень любила. И, усевшись за стол в разгаре утра, они ели кислые маринады, толстые ломти спелых помидоров, густо намазанные майонезом, пили янтарный процеженный кофе, ели винные ягоды – «ньютоны» и «дамские пальчики», горячую духовитую помадку, утыканную грецкими орехами и сдобренную ароматным маслом, бутерброды с нежной грудинкой и огурцами, запивая все это леденящими икотными лимонадами.
Вера Юджина в ее гантовское богатство была безгранична: все эти восхитительные деликатесы брались из неистощимых запасов. Куры оживленно и весело кудахтали по всему утреннему кварталу; силачи негры вносили в дом капающие глыбы льда, вытаскивая их железными клещами из дымящихся фургонов; он стоял под их визгливыми пилами и ловил в ладони ледяную кашицу; он впивал смешанный запах их могучих тел и налипшего на лед мусора вместе с резким масляным запахом линолеума в столовой; а днем в гостиной с ореховой, набитой конским волосом мебелью, где мягко и приятно пахло роялем и старым полированным деревом, она играла ему и заставляла его петь «Вильгельма Телля»[46 - «Вильгельм Телль» – опера Д. Россини (1792–1868), созданная по одноименной трагедии Ф. Шиллера (1759–1805).], «Когда твой голос милый», «Песню без слов», «Celesta A?da»[47 - «Небесная Аида» (итал).], «Утраченный аккорд», и ее длинная шея вытягивалась, напрягая сухожилия, и звучный голос рвался наружу.
Она ненасытно радовалась ему, обкармливала его кислым и сладким, в перерывах между непрестанными хлопотами валила его на диван Ганта и крепко держала, шлепая большой ладонью по дергающимся щекам.
Иногда, доведенная до исступления каким-нибудь капризом своих нервов, она злобно набрасывалась на него, полная ненависти к его смуглому задумчивому лицу, к его пухлой выпяченной губе, к его полному растворению в мечтах. Как Люк и Гант, она постоянно искала занятия для своего беспокойного деятельного жизнелюбия; она приходила в ярость, если замечала, что другие погружаются в себя, и по временам она ненавидела его, когда ее собственные струны перенапрягались и она видела его темное лицо, поглощенное книгой или каким-то видением. Она вырывала книгу из его рук, шлепала его и язвила жестоко и беспощадно. Она выпячивала губу, нелепо вертела головой, сгибая шею, изображала на лице тупую идиотичность и изливала на него страшный поток ядовитых слов.
– Ах ты, уродец, шляешься тут как помешанный. Ты вылитый маленький Пентленд – смешной уродец, вот ты кто. Над тобой все смеются. Ты что, этого не знаешь? Не знаешь? Мы тебя будем теперь одевать девочкой. И ходи так. В тебе нет ни капли гантовской крови – папа прямо так и сказал. Ты вылитый Грили; ты помешанный. Пентлендовское полоумие так из тебя и лезет.
Иногда ее жаркая первозданная ярость была так велика, что она валила его на пол и топтала ногами.
Мучительной была не столько физическая боль, сколько ядовитая ненависть, лившаяся с ее языка, дьявольское умение находить самые ранящие слова. Он терял рассудок от ужаса, когда из Эльфландии его внезапно швыряли в ад, он вопил как безумный, когда его щедрый ангел мгновенно превращался в змееволосую фурию, он утрачивал всю свою высокую веру в любовь и доброту. Он кидался на стену, как взбесившийся козленок, бился об нее головой, неистово визжа, отчаянно желая, чтобы его стиснутое, переполненное сердце разорвалось, чтобы что-то в нем сломалось, чтобы ценой крови он мог вырваться из душной тюрьмы своей жизни.
Это удовлетворяло ее, именно этого в глубине души она и хотела – в своем свирепом нападении на него она обретала очищающее успокоение. И теперь могла до конца опустошить себя в бешеном порыве нежности. Она схватывала его, как он ни кричал и ни вырывался, прижимала к груди длинными руками, покрывала поцелуями его багровые щеки, безумно вытаращенные глаза, успокаивала самой искренней лестью, обращаясь к нему в третьем лице:
– Да неужто он подумал, что я серьезно? Неужто он не понял, что я просто шучу? Ух ты, он силен, как молодой бычок, верно? Настоящий маленький великан, вот он какой. Ух, до чего же он разозлился, верно? У него глаза вот-вот вылезут на лоб. Я уж думала, что он проломит дыру в стене. Да, мэм. Право, да, детка. Это хороший суп, – пускала она в ход свой талант имитации, чтобы рассмешить его. И он против воли смеялся между двумя рыданиями, и эта агония нежности и примирения была даже мучительнее, чем пытка насмешками.
Потом, когда он успокаивался, она посылала его в лавку за маринадом, пирожками, холодным лимонадом в бутылках; он уходил с красными глазами, с грязными полосками слез на щеках, по дороге отчаянно пытаясь понять, почему это произошло, резко вздергивая ногу и конвульсивно вывертывая шею, потому что все в нем горело от стыда.
В Хелен жила беспокойная ненависть к скуке, к респектабельности. И все же в душе она была чрезвычайно благопристойным существом, несмотря на свои вульгарные выходки (которые были лишь проявлением ее неуемной энергии), очень наивным, детски невинным существом, не разбирающимся даже в безыскусственной греховности маленькой общины. У нее было несколько поклонников, принадлежавших к типу молодых провинциалов, ничем не примечательных и пьющих: один, местный уроженец, худой краснолицый алкоголик, городской землемер, который обожал ее; другой – дюжий румяный блондин из угольного района Теннесси; третий – молодой человек из Южной Каролины, земляк жениха ее старшей сестры.
Эти молодые люди – Хью Паркер, Джим Фелпс и Джо Каткарт – были ей простодушно преданы; им нравилась ее неутомимая властная энергия, ее бойкий язык, ее искренняя и глубокая доброта. Она играла и пела для них – посвящала всю свою энергию тому, чтобы развлечь их. Они приносили ей коробки конфет, маленькие подарки, ревниво огрызались друг на друга, но были единодушны в утверждении, что она – «замечательная девушка».